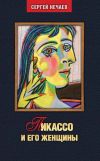Текст книги "Воспоминания. Траектория судьбы"

Автор книги: Ирина Антонова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Анри Матисс и Лидия Делекторская
Художники – это прекрасно, но есть еще одно знакомство, о котором мне хочется рассказать. Это встреча с музой, а если точнее, то с музой, натурщицей, секретарем и возлюбленной Анри Матисса Лидией Николаевной Делекторской.
Наши встречи были не такими уж частыми. И короткие, как мои командировки. Но очень важные для меня, как и наша дружба. Поэтому я их так хорошо помню.
Сама история этого знакомства просто замечательная. Я сидела одна в своем кабинете в музее, вдруг приоткрывается дверь и в проем заглядывает чья-то голова. Я говорю: «Входите». Входит женщина, подходит ко мне и говорит: «Я – Делекторская». А я знаю очень хорошо, кто это. К тому времени уже очень много про нее слышала. Поэтому отвечаю: «Вы секретарь Матисса!» С этого самого момента мы и подружились – крепко, на всю жизнь.
Что в ней было особенного? Все. В ней все – особенное. Даже тональность голоса, то, как она говорила. Потрясающая женщина. Одна из самых мощных и сильных личностей, которые встречались мне в жизни.
Помню случай в Париже. Заканчивается заседание Международного совета музеев, вице-президентом которого я тогда была. Спускаюсь. Сидит Лидия Николаевна, ждет меня. И мы «закатываемся в Париж». Сначала где-нибудь поесть. Иногда в театр. Мы часто ходили вместе в театр. А еще на выставки. Крупные выставки в Париже в какие-то дни открыты до одиннадцати вечера. Это было наше с нею время! Мы обязательно шли на такую выставку в Гран Пале. Просто проводили вечер вместе. Вместе ездили на знаменитое русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В памяти зачастую остается что-то на первый взгляд, казалось бы, незначительное. Однажды она сказала: «Ирина Александровна, я хочу вас пригласить на один фильм. Да, там есть такие места… очень… острые. Но я надеюсь, вы поймете, что это не ради секса, это содержательно!» Она ужасно в этом смысле была «pure», как говорят французы, чистюля такая, не выносила всяких «таких» вещей.
А что за фильм? Представьте себе – «Эммануэль». Тогда, в те пуританские времена, эта картина и во Франции считалась очень острой. Но все меняется. Сейчас в кино или на сцене можно увидеть нечто, на что Лида никогда бы не пошла. А вот тогда – «Эммануэль».
Я была заинтригована. Посмотрела. Ничего особенного. А Лида все пыталась объяснить, что пикантные сцены здесь ради понимания отношений между мужчиной и женщиной, а не просто так, «клубничка». Очень мне тогда было смешно. Она вся в этом…
Потом я пригласила Лиду к себе в Москву. Мы поехали с ней в Крым, в Дом творчества художников. И провели там на море две недели. Очень хорошо отдыхали. Она осталась довольна.
А однажды мне позвонил один человек и сказал: «Ирина Александровна, Лидия ушла». А я незадолго до этого была во Франции. «Как?! Я же ее недавно видела!» А он отвечает, что она с собой покончила. Это был настоящий удар. И я долго думала: как такое могло случиться? Позже, перебирая в мыслях наши встречи, я поняла, что она готовилась, но догадаться тогда, когда мы общались, просто невозможно было.
А навел меня на мысль о том, что Лидия давно решила уйти из жизни, следующий случай. Я ей когда-то подарила очень красивый костюм. Синий, из джерси. Он ей очень шел. Как-то я к ней приехала, смотрю, а мой подарок висит ненадеванный. Я ей говорю: «Лидия, вам что, не нравится костюм? Он же вам очень идет». Она отвечает: «Нет-нет, Ирина Александровна, ну что вы, я его не буду носить. Лучше кому-нибудь подарю». Что на это ответишь? Я и сказала: «Ну, пожалуйста, дарите. Мне жалко, но дарите». В какой-то момент – я на это внимания не обратила – она стала настойчиво раздаривать всем свои вещи. Теперь я понимаю, что она тогда уже все задумала. Давно-давно. А почему? Сложный вопрос.
Я очень хотела, чтобы она в Москву переехала. Ее здесь многие любили. Любили по-настоящему. Круг общения был даже больше, чем в Париже. Она там, если честно, не очень-то с французами дружила. Я ей даже подыскала квартиру: не очень далеко от меня, на Вернадского. Я на Ленинском проспекте, а ей – на Вернадского. Узнала, что там квартира продается, пришла, посмотрела. Очень милая квартира, ничуть не хуже, чем у нее в Париже на Пор-Рояль. Она тогда была в Москве, и я ей сказала: «Лидия, есть квартира, просто специально для вас созданная. Поехали, посмотрим». А она мне без всякого интереса: «Как-нибудь поедем». – «Так ее продадут!..» А она молчит. Все как-то уклонялась от этой поездки. Куда денешься: характер!
Как-то в Париже пришла я одна на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. А там могила Лёли – ее двоюродной сестры. И увидела, что на памятнике написано: «Делекторская Лидия Николаевна». Я сразу ей позвонила и говорю: «Лидия, это что за сон такой? Я тут нашла ваше имя!»
«Это чтобы ни у кого не было проблем. Только отвезут и похоронят».
Вот такая особая гордость. Не хотела никому жизнь усложнять. Все время повторяла: «Я не хочу быть никому в тягость. Вдруг слягу. И что – меня будут из чашечки поить»?
Она никогда не говорила, что покончит с собой, что уйдет из жизни. Она всегда говорила: «Я не хочу так жить».
Да, Лидия мне была как родная. Поэтому для меня ее смерть стала огромной болью. Но я ее вообще-то понимаю. Она ушла потому, что ослабела, потому что не хотела ни для кого быть обузой, проблемой. Но что интересно: Лидию похоронили не в Париже. Приехали какие-то дальние родственники из Петербурга и перевезли ее туда. И лежит теперь Лидия где-то под Ленинградом…
Ох, как я сейчас жалею, что мало ее расспрашивала. Но она неохотно рассказывала. Не любила выставлять свою жизнь с Матиссом на публику. А на фотографиях, где она с ним, по лицу, Матисса видно, что он ее любит. Да, он очень ценил и любил ее. У нее сохранились очень нежные записки, которые он ей оставлял. Она как-то их мне показывала.
Интереснейший факт из ее жизни с Матиссом. Оказывается, она иногда помогала ему писать картины. Это не значит, что она их писала за него или вместе с ним. Лидия не была художницей. Когда Матиссу тяжело стало это делать физически, она по его просьбе технически ему помогала. Матисс просто не мог двигаться самостоятельно. Особенно встать на лестницу. Да и руки у него уже плохо работали. Болел многие годы. А писать хотел. Вот и получилось такое удивительное содружество художника и музы. Матисс делал рисунок, а она под его руководством, если можно так выразиться, доводила до ума. Сохранилась фотография: она стоит на лестнице, а он сидит в кресле и указывает ей, как надо делать. Понятно, что Лидия не может считаться автором или соавтором. Это не ее идея, не ее рисунок. Просто она по его просьбе «разрисовывала» созданное им. Это не было, конечно, постоянной практикой, но тем не менее. Вот такая была удивительная женщина.
Да, французы в личных отношениях удивительные для нас люди. Я же хорошо знала семью Матисса, даже с женой его была знакома. Он с ней не был разведен, хотя очень долго жил с Лидией на юге Франции. Но когда он умер, Лидия известила семью о его смерти. Они вылетели, а к моменту их прилета Лидия уехала. Причем взяла с собой только двух котов. А было их у Матисса двадцать, наверное. Он очень любил кошек. У меня даже есть его фотография с кошками.
Матисс, конечно, позаботился о ее будущем. Купил квартиру в Париже. Ну, может быть, за десять лет до своей смерти. Думаю, он очень хорошо ее знал и прекрасно понимал, что она уедет, когда он умрет. Поэтому он ее обеспечил. И она исчезла из поля зрения всех, кто был причастен к Матиссу. Приехали все. Государственные похороны, а ее – нет. Не появилась.
Но потом, конечно, все, включая и Луи Арагона, пользовались ее услугами, пытались получить информацию о Матиссе. Да и сама она две книги о нем написала. Причем о себе старалась даже не упоминать. В книгах не было «я», всегда только «он». Очень интересные книги, она удивительно рассказывает о том, как Матисс создавал свои картины, как именно он работал.
После его смерти Лидия жила в Париже совершенно одна, очень одиноко, не любила русскую общину. Да и не было в Париже людей, с которыми бы она по-настоящему подружилась. Ну, разве что с Арагоном. Две его книги о Матиссе написаны с помощью Лидии. Он и не скрывал никогда этого. Все, кто писал о Матиссе (а писали многие), все обращались к ней за помощью. Ее очень уважали. Но она была слишком независимая, не позволяла себе «прилепиться» к кому-то.
Незадолго до смерти, зная, что скоро уйдет, Матисс стал дарить ей ее портреты, которые рисовал. Лидия мне рассказывала, что быть моделью для Матисса – это достаточно тяжелый труд. Он мог ночью ее разбудить и в творческом порыве начать рисовать…
А портреты он ей дарил, чтобы она их потом смогла продать и на это жить. Лида мне говорила: «Вот этот он мне подарил и сказал: “Продашь, когда будет нужно”». А некоторые работы она у него покупала. Но она не была богата, поэтому покупала только небольшие вещи по «prix d’ami», то есть «цене для друга». Разумеется, любая работа Матисса не пять копеек стоит. Но какие-то сбережения у нее были. Пенсия, иные средства. Немного, но были. На них и покупала.
А самое поразительное, что большую часть картин она так и не продала, а завещала музеям. И нам подарила. Не очень много, но значимые вещи. И Эрмитажу дарила. Знаю наверняка, что и французским музеям. Для нее гораздо важнее было передать картины в Россию, чем получить деньги. Однажды она мне рассказывала, как они с сестрой Лёлей в 1945 году встречали первый пришедший во Францию пароход из России. Просто потому, что это пароход из России. Они не знали даже, кого они там встретят, кто прибывает на этом пароходе. А оказалось, что встретили Константина Паустовского и с ним познакомились. Потом он и его семья стали ближайшими друзьями Лидии. Она останавливалась и жила у них в Тарусе, когда приезжала в СССР. Даже перевела произведения Паустовского на французский язык и получила за это премию.
К России Лидия была очень привязана, романтически прямо. Потому и подарила нам и Эрмитажу работы Матисса.
Лидия была не из тех, кто оказался в Париже в погоне за красивой жизнью. Первая волна эмиграции… Там все было иначе. Убегая от революции, ее тетя – мама Лёли – увезла обеих девочек из Томска на север Китая. А потом они перебрались в Париж. Узнали, что туда едет много русских. Приехали, и Лидия стала искать работу. Работу она сразу не нашла, вышла замуж за шофера такси. Спустя какое-то время поступила няней в семью Матисса. Ее им кто-то рекомендовал. И Матисс ее увидел. Так, как видит художник. Лидия была очень красивая, выразительная молодая женщина. А потом, думаю, он увидел ее и как мужчина. И у них начался роман. В какой-то момент он поехал с ней на юг Франции. Там с ней и остался. А потом сказал семье, что остается с Лидией. Они стали жить вместе. Во время войны, насколько я знаю, ненадолго уезжали в Америку, в Нью-Йорк. Затем снова вернулись на юг Франции, в Ниццу. И дальше уже только там жили. У них не было дома, Матисс снимал этаж в гостинице. Я там бывала. У Шагала был дом, а у Матисса и Лидии не было.
Кстати, когда Матисс умер, Шагал сделал Лидии предложение: у него к тому времени умерла жена. И он предложил ей пожениться. Лидия не захотела. Но то, что Шагал к ней сватался, я знаю точно.
И еще раз повторю: Лидия была замечательной женщиной. Мой муж ее обожал. И она к нему очень хорошо относилась. Лидия была настоящим знатоком живописи, да и искусства вообще. Когда муж несколько раз приезжал в Париж, они встречались, и Лидия сразу предлагала: «Пойдем в Лувр». Обожала, чтобы он рассказывал ей о художниках, говорила: «Мне никто так не рассказывал, как он». Очень любила его слушать, ценила за знания, уважала. У меня сохранилась их переписка. Очень много писем. В основном об искусстве. Иногда о театре, о кино. И я подумала, что эту переписку важно сохранить, поэтому передала все письма в музей. Я даже не все их читала. А надо бы… Может, еще прочту. С другой стороны – это их переписка, им это нравилось, и слава богу.
Может, мой рассказ получился не совсем стройным, но пусть будет. Для вечности.
Музей нового западного искусства
Меня часто просили рассказать о себе. Вот только я не слишком любила рассказывать. Зачем кому-то знать, что в детстве я каталась на санках вокруг обелиска Конституции? Так что же все-таки заставило меня начать писать эту, наверное, последнюю «попытку автобиографии»? Думаю, судьба Музея нового западного искусства.
Итак, Музей нового западного искусства. Я попала туда еще студенткой первого курса. Скорее всего, это произошло в январе 1941 года. Нас привел в музей Михаил Владимирович Алпатов. И эта коллекция сразу произвела на меня огромное впечатление.
Я уже писала, что до поступления в институт не слишком интересовалась живописью, не была ни специалистом, ни даже просто подготовленным зрителем. Конечно, я много раз бывала в Третьяковской галерее и неплохо знала выставленных там русских художников. Но это был совсем другой мир, другая жизнь и другое искусство. А тут мне вдруг открылось окно в иные миры. Я была потрясена увиденным. Почему? Да потому что искусство, которое здесь демонстрировалось, скажем, Гоген или Ван Гог, было не тем, к которому я привыкла в Третьяковке. Я увидела и осознала те мощные сдвиги, которые произошли в зарубежном искусстве на рубеже XIX–XX веков. Например, в изображении человека. Я увидела, куда шагнула европейская живопись, в какую сторону от того, что мы называем реализмом, каким образом на картинах авангардистов трансформировалась действительность.
Ими, этими художниками, отвергшими реализм и бросившимися на поиски новой реальности, нового смысла, новых путей, новой изобразительности, нарушено было все, все, чему поклонялось и на чем базировалось «старое» классическое искусство. Разве нет? Начиная с кубизма, с разных прочих «измов» 1908–1910 годов и вплоть до наших дней.
Мне могут возразить, что у нас в России это тоже было. Конечно. Я и не спорю. Было. Но то, что было в России десятых – двадцатых и начала тридцатых годов, все художественные эксперименты, которые ставили великие представители российского авангарда в то время, о котором я пишу, не экспонировались в Третьяковской галерее. Русский авангард, который жаждал революции и всеми доступными ему способами ее приближал, просто не показывался, потому что не вписался в главенствующее направление – в социалистический реализм, и поэтому был просто стерт с «карты будней». Но я не пишу работу по истории искусства, поэтому не буду рассуждать о том, почему так случилось. Хотя, возможно, и стоило бы, чтобы понять, как во время революции все это вдруг возникло, как выставлялось, завоевывало культурное пространство и как и почему потом опять убиралось с глаз долой, чтобы не травмировать почтеннейшую публику, состоящую из отдельных представителей победившего пролетариата и примкнувшего к нему крестьянства.
Кстати, отмечу одну интереснейшую деталь. Тот самый вождь, который привел пролетариев и крестьян к победе, Владимир Ильич Ленин, очень высоко ценил европейский авангард. В его трудах есть несколько фраз, сказанных о мастерах французского искусства конца ХIX – начала XX века, он очень лестно отзывался об их достижениях, называл их работы огромной ценностью. Но это был 1918 год. А потом все изменилось. В самом начале революция поощряла авангардистов, считала их «своими», это искусство было частью революции, революция совершалась и в искусстве. Потому что и Кандинский, и Малевич – это революция в искусстве. И происходила эта революция у нас в России. «Черный квадрат», ставший символом века, написан в 1915 году, до революции, это ее предвестник. А первая абстрактная работа Кандинского вообще датируется 1907 годом.
Вот что происходило! В России! Которая после передвижников, после периода сугубо реалистической живописи вдруг вырвалась вперед – на передовые рубежи, и не просто на уровень, которого достиг европейский авангард, но и вперед смотрела посерьезнее и подальше, чем европейцы. Эти художники-авангардисты, эта передовая колонна революционеров в искусстве существовала до конца 1920-х годов. А потом началось движение в другую сторону. Провозглашенный Лениным нэп, смерть самого Ленина и смерть его детища – нэпа, потом Сталин и курс на «советскую империю». Революция оказалась не нужна, стала лишней. Революция в искусстве – тоже. Искусство в таких крайне революционных формах было сочтено вредным, неполезным, так сказать, для нового строя. И постепенно все многообразие свелось к одному – к соцреализму, призванному в едином порыве и с помощью утвержденных партией художественных приемов прославлять восторжествовавший режим. Хотя все развивалось не столь однозначно и прямолинейно, как может показаться на первый взгляд. Что-то было можно, а что-то и нельзя. Особенно в 20-е годы. Потом партия стала управлять художником, требовать от него работать на идею построения коммунизма, гайки закручивались, партийный и государственный контроль ужесточался. И уже 1930-е годы, точнее с середины 30-х годов, русский авангард был сброшен с прямого пути в светлое будущее, по которому «левой» дружно шагала вся страна.
Режим становился все более жестким к любым революционным формам в искусстве. Может, это было связано и с тем, что новые формы искусства не снискали популярности в массах. Они еще существовали, но уже казались «буржуазными». И началась «борьба за реализм». И увенчалась успехом. Соцреализм восторжествовал.
А потом началась война… Тут и говорить нечего. Она требовала, конечно, буквалистских форм изображения. И в 40-е над темой «Все для фронта, все для победы!» работали очень хорошие, я бы даже сказала – большие художники. Конечно, на развитие искусства сильно повлиял установившийся в стране культ Сталина. «Образ вождя» стал одной из основных тем в искусстве. И мы получили укрепление существующего строя за счет жестких и не требующих доказательств форм. Вот и все. Академия художеств и целый ряд организаций, перед которыми была поставлена эта задача, выполняли ее не просто безропотно, а с огромным энтузиазмом. Так плодились и множились образы «любимых вождей». Живопись о жизни, как говорится, превращалась иногда… в бесконечный советский шедевр под названием «Опять двойка» Федора Решетникова. Мальчик приходит домой с понурой головой потому, что он получил двойку. Ну и что? Ну, улыбнется кто-то… Мальчишка получил двойку. Как его жалко и как смешно одновременно, потому что это, в общем, не трагедия. На таком уровне милого анекдота изображалась жизнь «простого советского человека». Просто, понятно, доступно. И в строгом соответствии с линией партии. Какой уж тут авангард?
Попав впервые в Музей нового западного искусства, я испытала настоящее потрясение. Я увидела совершенно новый мир, который меня сразил. Как сейчас помню, что больше всего мне тогда понравился Ван Гог. Оказалась очень близка его манера, сразу захотелось о нем как можно больше узнать, и даже, может быть, как-то им заниматься. И когда нам в институте предложили подумать о теме дипломной работы, то я сказала Борису Робертовичу Випперу, что хотела бы написать о Ван Гоге. И Борис Робертович очень спокойно мне ответил: «Ирина Александровна, ведь о Ван Гоге все написано». Я не смогла ему возразить, хотя понимала, что это не так. На этом все и закончилось. И мне пришлось… Нет, не «пришлось», конечно, потому что я тоже это любила – заняться итальянским Ренессансом. В итоге темой моей выпускной работы стал Веронезе. Жалела ли я о том, что не смогла заниматься Ван Гогом? Какое это имеет теперь значение? Я не могла написать о Ван Гоге только потому, что хочу. Тему просто никто бы не утвердил.
Время было такое. Все в идеологических ярлыках: Ван Гог – формалист. И все. И нам – советским людям – «его не надо». Мы – поклонники и проповедники реализма. Точка. Борис Робертович, по большому счету, мне это и сказал. Просто в своей обычной манере – мягко. Мне сразу стало ясно (у нас такие с ним были отношения), что Ван Гог не пройдет. И, кстати, для понимания. На дворе тогда стоял ни много ни мало, а 1944 год. Хотя вот что интересно. Самое первое издание писем Ван Гога вышло в СССР в 1935 году. И с предисловием директора Третьяковской галереи. А подготовка писем к изданию началась в 1929-м. То есть публикацию писем Ван Гога в 1935 году разрешили, а в 1944-м писать о нем дипломную работу мне запретили. А в 1948 году закрыли и сам музей, где были выставлены его картины.
Получается, что чем дальше мы отдалялись от революции, тем дальше и от авангарда, от нового искусства – как русского, так и западного. Хотя нужно сказать, что, побывав в музее и увидев всех этих художников впервые, я как-то сразу поняла, что это для нас такой запретный плод. Ван Гог, Гоген, Сезанн, я уж не говорю о Пикассо… Для обычного советского человека эти имена были под полным запретом.
И конечно, в такой ситуации, при таком отношении партийного руководства, которое решало все, музей был обречен. В 41-м году музей закрыли из-за войны, а коллекцию, как и все прочие произведения искусства, находившиеся тогда в Москве, увезли подальше, в другие города, в частности – в Новосибирск. Но по окончании войны музей же не открыли! Думаю, и не собирались.
Просто в один момент вышло постановление правительства о ликвидации Музея нового западного искусства. И все.
Кстати, у меня даже нет никаких публикаций на этот счет, только многочисленные выступления на эту тему. Хотя… Теперь уже точно не помню, но в 90-е, когда обо всем этом стало можно говорить публично (до этого мы даже не имели права опубликовать то постановление правительства и даже озвучить факт, что оно существует), я могла уже где-то написать, что в 1948 году вышло постановление, подписанное лично Сталиным, согласно которому Музей нового западного искусства признавался «буржуазным», то есть «пропагандирующим буржуазное искусство». Но опубликовать сам документ… Нет. Этого я не могла. Хотя я лично держала его в руках. А это постановление попало в Пушкинский потому, что часть коллекции осталась у нас, а часть ушла в Эрмитаж. И в Эрмитаже есть это постановление. Именно на основании этих документов коллекции и поступили в оба музея.
Так в 1948 году, в строгом соответствии с решением партии и правительства, блистательная коллекция была «закрыта». Даже наши музейные работники с этими картинами не работали. Не имели права. Но до известного момента. Потому что Сталин все-таки в 1953 году умер. И все немного помягчело. И уже в 1956 году мы открыли первую выставку Пикассо. Менялось время, менялось отношение. Постепенно все стало оживать. И мы, и Эрмитаж позволили себе что-то из этой коллекции выставлять, включать в экспозиции.
И эта проблема куда шире моих личных пристрастий, симпатий и антипатий. Это проблема политики в области культуры в определенное время – когда музей по решению Сталина был закрыт, а замечательнейшая коллекция, которой могла бы гордиться Москва, расформирована, и того, как эта политика осуществляется сегодня… Назревают новые проблемы, которые тоже надо обозначить. Для меня это очень серьезно, потому что в этом суть моего пребывания в ареале культуры.
Сейчас идет очень важный разговор о том, какой быть стране. И оценки того, что происходит, куда движется Россия, есть как положительные, так и негативные. В этой ситуации мне просто негоже промолчать.
Я не собираюсь пропеть что-то «во славу», чтобы кому-то понравиться или кого-то разочаровать. Я люблю свою страну. Это моя страна, и ни в какой другой я жить не буду. Больше того, я приняла многое, что на моем веку в стране произошло, и при этом далеко не всегда согласна с тем, как дело движется сейчас. Но это всего лишь моя жизнь и моя оценка. Что из того, что я обо всем этом думаю?! Страна была до меня, страна будет и после меня. Я это прекрасно понимаю. [2]2
На этом записи воспоминаний Ирины Александровны Антоновой заканчиваются. Их прервал ее уход.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.