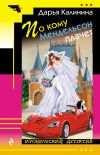Текст книги "Папа Жора"

Автор книги: Ирина Иванченко
Жанр: Рассказы, Малая форма
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Вдруг наклонилась ко мне, обняла и поцеловала. В губы. Я слегка испугался, сам не знаю, чего.
– Я тебя бить больше никогда не буду.
– И дразниться не будешь?
– Нет, клянусь.
– Полезли завтра в сад, – предложила она.
– Давай еще раз поцелуемся, – и я потянулся к ней своими сомкнутыми губами.
Заскрипел бабушкин диван. Мы замерли – вдруг проснется! Тишина, лишь едва слышное посапывание.
– Давай спать вместе.
– Давай.
Я перебросил ее подушку на свою сторону, и мы нырнули под одеяло. Между нами оказался «классический третий» – друг-мишка, сто раз привитый от всех болезней. Он хотел оставаться с нами, но я взял его за ухо и бросил в угол.
– Когда вырастешь, ты кем будешь? – спросила Аллочка.
– Не знаю. Наверное, танкистом. Или врачом. А ты?
– Артисткой. Как Любовь Орлова. Видел фильм «Цирк»? Вот и я такой хочу стать.
– Ты завтра будешь у нас целый день?
– Не знаю… – вдруг умолкла. – Давай спать.
Я хотел было предложить поцеловаться еще раз. Но она повернулась лицом к стене, поджала ноги к животу. Мне спать не хотелось. Большим пальцем ноги я пару раз легонько ударил по ее пятке. Аллочка оттолкнула – перестань, мол. В другое время, конечно, я показал бы ей, как брыкаться, но еще не были забыты слова клятвы.
8
Под окном нашей комнаты был сад. Собственно, этот небольшой пустырек, огороженный со всех сторон тыльными стенами домов, садом-то и не назовешь – земля повсюду изрыта, в воздухе над одуванчиками парят рои мошек, у одной из стен среди лопухов отвоевал себе место под солнцем куст малины. В центре этого захолустного Эдема растут шелковица и невысокая яблоня.
У каждого дерева и куста – своя история болезни. Скажем, яблоня – это прямая дорога к дизентерии. Впрочем, зря мама так переживает – неспелой антоновки много не съешь: надкусишь яблоко и тут же выплюнешь – кислятина. Шелковица – «травмпункт»: зеленка на моих разодранных коленках, отлетевшие и потерянные в траве пуговицы, разорванные рубашки. Зато шелковица – это и ягода, черная, налитая, затянутая паутинкой, висящая на самом краю ветки. Тянешься к ней двумя напряженными пальцами. Рви же! Потом, усевшись поудобнее на ветке, бережно снимаешь паутинку и погружаешь ягоду в свой истекающий ожиданием рот… Куст малины – это «скорая помощь», больница на Батыевой горе.
– В малинниках водятся змеи, – предупредила мама, когда пришла весна и на подоконнике появились грязные следы от моих сандалий. – Тому, кого укусила змея, делают уколы в живот.
– Это правда? – уточнил я у бабушки. Не исключено, что мамина змея – из той же «бригады», что и Бабай, и милиционер, забирающий детей, которые не хотят есть.
– Может быть, и правда, – ответила бабушка после недолгого раздумья. – Моего брата Милю когда-то укусила змея, и его еле спасли. …………………………………………………………………………….....
…Утром мы с Аллочкой – в саду. Первым делом, спешу показать, как ловко схватываю кузнечиков. В стеклянной банке, куда брошены листики и пучки травы, томятся узники. Один, самый большой, с оторванной лапкой, – моя добыча. Аллочка – тоже не промах: сложив ладошки домиком, подкрадывается, наклоняется и, падая на коленки, – хлоп! – накрывает нового кузнеца.
– А я осенью в школу иду.
– Ну и что! Я тоже в этом году в школу пойду.
– Никуда ты не пойдешь. Ты еще маленький, тебе еще нет семи.
– Опять дразнишься. Сейчас как врежу.
– Тоже мне напугал. Вот и не догонишь! – дернув меня за воротник, она срывается с места и убегает.
Я – за ней. Носимся по саду, спотыкаемся, падаем.
– Не догонишь, не догонишь! Все, пусти, порвешь, – просит она, когда мне удается схватить ее за платье.
– Будешь еще дразниться?!
– Нет, ну все, пусти…
– А я умею лазать по деревьям, – подбежав к шелковице, несколькими ловкими движениями взбираюсь на ветку.
– Я тоже так умею!
Аллочка прыгает, как обезьяна. Ее нога съезжает по стволу, она бесстрашно делает еще одну попытку, теперь удачную, влезает на одну ветку, на вторую, на третью. Еще бы! Ведь она мечтает стать как Любовь Орлова: в блестящем купальнике перед глазами замерших зрителей споет свою «Мэри-Мэри – чудеса…». И, отбросив шляпу с пером, начнет медленно опускаться в пушку. А потом – ба-бах! – полетит под купол цирка. В зале сидят папа и мама, хлопают. Папа – в костюме, выбритый, непьяный. Мама – с новой прической, в цветастом шелковом платье, которое она уже давно не надевала. После представления папа купит торт и лимонад и все вместе придут домой. Аллочке отрежут самый большой кусок торта с розочкой. Будут есть торт и смеяться. Затем папа подхватит Аллочку под мышки, перенесет к центру комнаты, подложив свою огромную правую ладонь ей под живот, а левую – на спину, и начнет кружить: «Полетели – у-у-у!». Руки – в разные стороны. Перед глазами замелькают стол с недопитым лимонадом, мама, комод. Потом Аллочка снимет блестящий купальник, отколет бумажный цветок и разложит кресло, на котором спит. Тихонько подойдет мама, сядет на краешек, и Аллочка-доня повернется на бочок, чтобы мама погладила ей спинку. И поцеловала в шею, туда, где персиковый пушок косички.
Завтра – выходной. Аллочка проснется от щебетанья птиц и побежит в комнату родителей. Заберется к ним в теплую постель, посередке, так, чтобы с одной стороны – папа, с другой – мама. Папа будет ее гладить и немножко с нею баловаться, продолжая разговаривать с мамой, о чем угодно: на заводе новый бригадир… пора консервировать помидоры… на могиле отца нужно поставить ограду…
Она помнит дедушку Бориса: лысый слепой старик лежал на диване, укрытый темным одеялом. Иногда что-то насвистывал – из сложенных трубочкой губ вылетали мелодии. Но чаще молчал или кашлял. Она запомнила его пальцы: длинные, костлявые, крепко держащие край одеяла, словно кто-то собирался это одеяло у него отнять. Когда они оставались дома вдвоем, дед подолгу лежал молча, а потом вдруг спрашивал, какая сегодня погода или какого цвета у нее глаза. Слушал не моргая, лишь изредка его сухие губы шевелила малозаметная улыбка. «Ты цикавая», – произносил он.
Втайне, чтобы никто не знал, она называла его «дед Борис – председатель дохлых крыс». И хихикала, тихонько передразнивая. Мама не разрешала близко подходить к деду, говорила про какую-то туберкулезную палочку, от которой якобы можно заразиться. Возле кровати на табуретке стояла его посуда, под подушкой лежало полотенце. Но никакой палочки у деда Аллочка не видела.
Еще она помнит, как папа и мама брили деда, когда тот обрастал щетиной на лице и ежиком на макушке – ну настоящий председатель дохлых крыс! Родители намыливали сначала его лицо, сбривали, затем – голову. Когда брили голову, дед как-то странно оживлялся. Просил, чтобы осторожней на темечке, потому что на темечко ему трое суток подряд лили ледяную воду – по капле, по капле, суки! – когда пытали на допросах в Лукъяновской тюрьме… Дед плакал, как ребенок, тер руками свои слепые глаза, начинал сильно кашлять и орал, чтоб ему дали водки. Укладывая, мама его успокаивала: «Ну не надо, ну успокойтесь», водку, однако, не давала. Подсовывала к его рту кислородную подушку, трубку от которой дед сначала выплевывал, но мама слезно упрашивала. Дед брал и, наконец, умолкал. А папа уходил из дому и возвращался поздно. Пьяный. Кричал на маму. Так повторялось каждый раз во время бритья, но дед сам просил его брить, когда на макушке ладонь начинал колоть черный ежик.
Однажды ночью дед раскашлялся сильнее обычного, и все проснулись. Включили свет. Аллочке почему-то стало страшно. Она стояла, прижавшись к стенке комода. Дед кашлял так, что жилы на горле вздулись. Отталкивал кислородную подушку. Вдруг затих, вцепился своими пальцами в одеяло и притянул его к самому подбородку. Долго молчал. Потом прохрипел: «Как тяжело умирать…»
Мама заплакала в подол ночной рубашки, папа опустил свою ладонь на слепые раскрытые глаза деда. А когда ладонь отнял, дед лежал безразличный, посеревший, с сомкнутыми губами и закрытыми глазами, словно и не жил никогда. Только костлявые пальцы крепко держали край одеяла. На пару дней Аллочку отправили к тете Даше. Когда она вернулась – ни деда, ни одеяла уже не было. Лишь на столе стоял граненый стакан, наполненный водкой и прикрытый горбушкой черного хлеба…
ххх
– Ты правда пойдешь в школу в этом году?
– Да, меня поведут показывать директору. Ноябрьских тоже принимают.
Мы сидели на корточках, измазанные шелковицей, со свежими царапинами на руках и ногах. Выпускали кузнечиков из банки. Кузнечики были какие-то вялые, а может, им до того понравилось в банке, что и выпрыгивать не хотели.
– Как ты думаешь, в школу нужно будет ходить каждый день?
– Ты что? В школу ходят, когда хотят.
– Я тоже так думаю… – Аллочка вдруг лукаво прищурилась. – Хочешь, я тебе что-то покажу?
– Покажи.
– Пошли, – она взяла меня за руку и потянула за собой.
– В малину нельзя, – я вырвал руку.
– Почему?
– Там… – (скажи про змею – еще засмеет и назовет трусом). – Она невкусная.
Аллочка повела плечом, посмотрела вокруг – нет ли кого. Вдруг подняла подол платья и сняла трусы.
– Смотри.
Я уставился, как стоокий Аргус, – всеми глазищами. Неужели у всех девчонок одинаково: все – как отрезано? Виденные прежде запретные рисунки были все же рисунками. А тут… Может, и у мамы там тоже нет ничего? И у бабушки?
– Мы с тобой теперь муж и жена, – сказала Аллочка. – Когда вырастем – поженимся.
– Угу, – промычал я, не сводя глаз.
– Теперь покажи ты.
Я растерялся. Когда меня голым купают в тазу, я не стесняюсь. Но мама и бабушка – свои. Мы – семья. А тут – как бы чужая. Но, с другой стороны, мы ведь поженились. Получается, что жене можно. Я не знал, что делать.
Первые капли дождя упали на землю.
– Побежали домой! – крикнул я и помчался.
У окна стоял деревянный ящик, специально принесенный папой мне для подставки.
– Так нечестно! Обманщик! – закричала Аллочка, натягивая трусы. И побежала следом.
Мигом я заскочил в комнату. Через минуту вбежала и Аллочка.
– Вот молодцы, мне и звать вас не пришлось, – сказала мама. – Глянь, что творится – настоящая гроза, – она закрыла окно.
Сразу потемнело, в небе загремело и заполыхало, забарабанили крупные капли.
Глава вторая
1
В пятницу у нас с бабушкой много дел, а поспеть нужно всюду: показать меня директору школы, зайти в магазин «Школьник» – купить там новую ручку. Бабушке еще нужно купить разную мелочь – молоко, мясо, хлеб. А после обеда должна приехать баба Женя, папина мама.
Утром подниматься с постели не хочется. Даже после трижды сказанного «Игорь, вставай». Напоследок еще можно постоять на коленках, уткнувшись закрытыми глазами в кулаки, и увидеть цветные круги, выплывающие из темноты. А потом снова завалиться «на классическую минутку».
На стуле ждут новые штаны и рубашка. В таком наряде хочется пройтись щеголем по двору.
Двор – лает, щебечет, стрекочет. Пару раз я дернул ручку колонки, перепрыгнул не совсем удачно через лужу. Из дома вышла бабушка.
– Ну вот, уже весь испачкался, – присев, отряхнула на мне штаны, заправила рубашку.
Все. В путь.
– Ба, а правда, что раньше в той школе была немецкая конюшня?
– Тебе кто это сказал?
– Маслянский.
– Я тоже такое слышала, но точно не знаю. Когда немцы пришли в Киев, мы с твоей мамой уехали в Ташкент.
– А Маслянский?
– Скрывался. Священник прятал его у себя дома.
– А что, немцы и Маслянского хотели убить?
– Да.
Мне стало жалко Маслянского. Одно дело кино – там убивают незнакомых. А Маслянского я знаю давно. Он – мой друг. Когда занимается своей работой – чинит мебель, рассказывает мне истории и про татар, и про казаков, и про фрицев. Я представил его: лысого, с остренькими гвоздиками в сомкнутых губах, с папиросой за ухом, сидящим в темном шкафу – прячется от немцев. Иногда, оставаясь один в комнате, я залезаю в пропахший нафталином шкаф и прячусь там. Но ведь я балуюсь.
– А кто такой священник?
– Тот, кто молится Богу.
– Ба, а кто такой Бог?
– Бог живет на небе. Он все знает и все может.
– Почему же Бог не спрятал Маслянского, если видел, что его немцы хотели убить? И почему Бог не спас моих дедов?
Бабушка остановилась. Посмотрела мне в глаза – так серьезно, что я даже губу прикусил. Вдруг как-то печально пожала плечами.
– Не знаю, почему не спас…
ххх
Показалось двухэтажное здание – школа. Во время войны немцы превратили ее в конюшню: на первом этаже держали лошадей, на втором – был склад с оружием. А вдруг там на полу валяются гильзы или патроны?
Школьный пол в холле сразу разочаровал – вымыт до блеска. Какие уж тут патроны… Зато сама школа – не сравнить с нашим детсадом, все по-настоящему: длинные коридоры с колоннами, высокие потолки, двери с табличками.
– Ди-рек-тор, – прочитал я надпись на одной из дверей.
Бабушка постучала.
– Здравствуйте. К вам можно? – спросила, отворяя дверь.
И мы вошли в просторный кабинет.
– Здравствуй. Меня зовут Александра Николаевна. А тебя? – женщина с аккуратно зачесанными каштановыми волосами сидела за столом. Отложив ручку, улыбнулась.
– Игорь.
– Хочешь учиться в школе?
– Да, я уже большой.
– Большой, а ногти кусаешь.
Тут же я отдернул руку.
– А считать ты умеешь? Тогда реши задачу: на дереве сидело десять воробьев. Девять улетело, один прилетел. Сколько воробьев осталось?
– Два, – сразу ответил я. (Тоже мне задача – я и не такие решаю, когда торгуюсь с бабушкой за ложки бульона.)
– Молодец. А читать ты умеешь?
– Конечно!
Я подошел к Александре Николаевне. С улицы доносилось щебетание птиц. Ветерок, ворвавшись в окно, сдул со стола пару листков.
– Спасибо, – сказала женщина, принимая из моих рук поднятые листы. – Ну-ка, прочитай, – и вручила раскрытую книжку.
– Уж-я-не-тот-лю-бо-вник-стра-ст-ный ко-му-ди-ви-лся пр-пр (застрял) пре-жде-свет.
– Хватит, – засмеялась Александра Николаевна.
Бабушка тоже улыбнулась.
– Еще я писать умею. Можно? – взял ручку и через минуту протянул ей листок, на котором неровными буквами было написано «Игорь». В тот момент я чувствовал в себе столько сил и талантов, что, казалось, могу сдвинуть горы. И еще, если честно, мне очень понравилась Александра Николаевна – и ее сиреневое платье, и запах ее духов…
– Хорошо. А кто твои родители?
– Мама – медсестра в больнице, папа – главный инженер на заводе. И бабушка.
– Отец – штамповщик, – неожиданно поправила бабушка.
Я раскрыл рот, все звуки застряли в горле. Как – штамповщик?! Папа рухнул с высот главной инженерии, сдулся, стал маленьким.
– Вот и хорошо, – промолвила Александра Николаевна. – Первого сентября приводите его. До свидания, любовник страстный. И ногти больше не грызть, договорились?
ххх
Мы вышли из школы.
– Ба, а разве папа – не главный инженер?
– Нет, конечно. Он – штамповщик.
– Почему же он называет себя главным инженером? И ты тоже говоришь, что, так как он – обедают только главные инженеры.
– Мы шутим.
– Ба, а на каких столбах рабочие будут вешать директора и парторга папиного завода?
Бабушка замерла. Оглянулась.
– Придем домой – объясню, – проговорила она тихо. Кажется, у нее испортилось настроение.
Дома я тут же решил проверить новую ручку. Заправил и стал рисовать. Бабушка тем временем хлопотала на кухне – готовилась к приезду бабы Жени. Что-то варила, пекла, гремела кастрюлями. Раскрасневшаяся, в испарине, вошла в комнату и села в кресло.
– Фу-ух, жарко, – взяла газету и стала обмахиваться. Прядка седых волос у ее виска слегка раскачивалась.
– Ты чем занимаешься?
– Пишу.
Бабушка понимающе кивнула головой. Достала из буфета свою шкатулку. Снова села в кресло и надела очки – в очках она выглядит очень смешной. В руках у нее появлялись какие-то листки, газетные вырезки, фотографии. Перебирала бумаги, что-то шептала, усмехалась. Терпение мое лопнуло.
– Что это?
– Письма твоего дедушки Пейсаха.
– А кем он был?
– Врачом. Заведующим отделением в больнице.
– Там же, где и мама работает?
– Нет, в больнице Павлова. Он лечил сумасшедших.
– Таких, как Вовка-дебил?
Бабушка строго взглянула из-под очков.
– Больше никогда не говори это слово. Обещаешь? Пейсах их называл «мои сумасшедшенькие», а иногда – «мои мишугене». Знаешь, как его уважали в больнице? Вот, смотри, – взяла пожелтевшую газетную вырезку. – «Коллектив больницы Павлова поздравляет Пейсаха Наумовича Кагана с сорокалетием». Вот он, – достала маленькую фотокарточку.
Я взял фото. Ничего особенного – овальное лицо, темные волосы зачесаны назад, губы – ленточкой, как у мамы.
– Знаешь, какие он мне письма писал, когда ухаживал? – бабушкины пальцы стали бережно перебирать бумаги. Вытащила открытку с нарисованной горящей свечой. – «Милая Хана. Родная моя. Выходи за меня замуж. Не пожалеешь…»
– А как он погиб?
Бабушка долго молчала.
– Его немцы убили. В душегубке. Были такие машины, в которых убивали людей. Когда немцы вошли в Киев, они подогнали душегубки к психбольнице и всех больных загнали туда…
– Почему же он не уехал с вами в Ташкент?
Бабушка снова помолчала.
– Не хотел оставлять своих больных, думал, что немцы их не тронут. И в душегубку ушел вместе с ними…
Она сняла очки, положила их на колени. Вдруг прикрыла ладонями глаза. Только нос торчал.
– Ба, ты что?
Бабушка медленно отняла руки, посмотрела на меня. Улыбнулась.
– Ты похож на моего Пейсаха. У вас одинаковые глаза – добрые, – она стала укладывать бумаги в шкатулку. Вдруг резко приподняла голову, втянула носом воздух. – Жаркое! – и, сунув шкатулку в буфет, ринулась на кухню.
Я остался один. Снова сел за стол, взял ручку. Перо повисло над бумагой, но не прикоснулось и не вывело ни одной буквы. Потому что я хотел, но тогда еще не мог написать то, что пишу сейчас:
Милая Хана. Твоя фотография висит передо мною на стене. Стоит мне взглянуть на нее, как я слышу твой голос. И смех. И вижу сложенные на груди руки. Как ты складывала их всегда, когда садилась отдыхать. С такими же сложенными на груди руками я увидел тебя в последний раз, лежащей в красном, как маки, гробу. Ты была маленькой, и лицо твое, белое, качнулось, когда я наклонился, чтобы поцеловать твой лоб.
Рядом с твоей фотографией на той же стене висит карточка деда, твоего Пейсаха, – овальное лицо, волосы зачесаны назад и губы ленточкой. Он пошел в душегубку, поддерживая за руку одного своего «сумасшедшенького», который смеялся, не понимая, что происходит. В темноте он услышал, как завелся мотор, и решил, что их перевозят в другую больницу. Он не знал, что выхлопная труба была проведена в будку машины. И немецкий солдат, открыв дверь, чтобы сбросить трупы в одну из ям Бабьего Яра, увидел искаженное лицо с раскрытым ртом, в котором застрял крик: «Милая Хана…»
Секретный документ Рейха
Оберштурмбанфюреру СС Рауффу,
Берлин
«Осмотр газовых автомобилей «Айнзацгруппы-С» окончен. Я приказал, чтобы во время пуска газа служебный персонал находился на возможно большем расстоянии от автомашины для того, чтобы здоровье не пострадало от газа, который может выходить наружу. Довожу до вашего сведения, что некоторые команды должны были своими силами произвести разгрузку после применения газа. Я обратил внимание командира зондеркоманды на огромный психологический вред, который может принести служащим эта работа. Люди жалуются на головные боли после каждой разгрузки. Газ не всегда применяется правильным образом. Чтобы как можно скорее закончить работу, шофер нажимает на акселератор до отказа. Таким образом люди умирают от удушья, а не от отравления, как это было запланировано. Выполнение моих инструкций показало, что при правильном положении рычага люди мирно впадают в глубокий сон. При этом не приходится видеть искаженные лица и испражнения. Сегодня я продолжу свою инспекционную поездку.
Доктор Беккер, унтерштурмфюрер СС.
Киев, 19 октября, 1941 год».
2
Сегодня приезжает баба Женя. Ростом она невысокая – как бабушка. Но у бабушки волосы седые, жиденькие, стянутые узелком (иногда она закалывает их гребешком), а у бабы Жени – черные с отливом, как воронье крыло. У бабушки лицо бледное, губы бесцветные и глубокие морщины на лбу. А баба Женя всегда густо накрашена и напудрена, лоб гладкий. Бабушка – худая, как засушенная вобла, баба Женя – пухленькая хрюшка. Ну и самое главное: бабушка – обыкновенная, из мира кастрюль, дырявых носков и вечных жалоб на нехватку денег, а баба Женя – из мира красивых напудренных женщин, гарниров и «взрослых» разговоров.
Иногда баба Женя приходит к нам с мужчинами. Я различаю их по медалям. К примеру, дядя Яша мне нравился не очень: ни медалей, ни орденов. Хоть бы значок какой нацепил. А вот дядя Юзик – орел: с тремя медалями и одним орденом. Мы с ним сразу нашли общий язык: он по-солдатски снял все медали и дал их мне. Поиграть. Я надеялся, что он забудет их, но перед уходом он забрал их и пристегнул к пиджаку. У нас с дядей Юзиком мужской уговор: после его смерти его медали переходят ко мне.
Если речь заходит обо мне, баба Женя всегда обращается к папе в моем присутствии. «Он что-то худой. Вы его нормально кормите?» или «По-моему, он отстает в развитии. Вы его показывали психиатру?» Папа что-то бормочет в ответ, а баба Женя неодобрительно качает головой. Зато ко мне она всегда обращается, как ко взрослому: «Сделай тише звук телевизора» или «Принеси стакан воды». Перед тем как выпить, внимательно разглядывает стакан, прищурившись, и если находит что-то подозрительное, кривится и возвращает, не пригубив.
Так же осторожно она приступает к еде: сначала, сузив глаза, осмотрит на тарелке жаркое – его вид, затем чуть наклонится, понюхает и только после этого накалывает на вилку кусочек мяса и делает пробное прожевывание. Дальше все зависит от вкуса жаркого и вкусов бабы Жени. Если не понравилось, блюдо подвергнется жесточайшей критике: пережарено, недоперчено, мало лука. Зато если блюдо приходится ей по нутру, она благостно мычит и живо работает челюстями, произнося одно-единственное: «изумительно!». Правда, такие кулинарные удачи случаются нечасто. После отъезда бабы Жени мама обычно возмущается (в присутствии отца): «Жаркое, видите ли, ей не понравилось! Принцесса. Что не так? Свежая базарная телятина, обжаренная с луком, приперченная, с лавровым листом и душистым горошком…» Папа выслушивает со скучающим взглядом. Неожиданно спрашивает: «Кстати, там, в чугунке, еще что-то осталось?» – и бегом на кухню.
Баба Женя любит рассказывать о своих болезнях. С ее уст порой слетают странные слова: низкий гемоглобин, депрессивный синдром, поздний климакс. Она постоянно упоминает каких-то врачей. Рассказывая о том, что очередной кардиолог подтвердил у нее гипертонию, она оттопыривает нижнюю губу и сразу превращается в старуху.
Баба Женя почти всегда в новом наряде. Войдя в дом, сразу же направляется к зеркалу. Достает из сумочки помаду, подкрашивает губы, приглаживает брови, припудривает лицо. Изрекает: «Даже в гробу женщина должна лежать с накрашенными губами». «Совершенно с вами согласна», – подтверждает мама.
…Они пришли почти одновременно: сначала родители с работы, следом и баба Женя.
– Это тебе, – она протянула мне коробку цветных карандашей.
– А сказать спасибо? – напомнила мама.
– Спасибо, – и я скрылся в комнате.
Усевшись на диване, вытащил карандаши из коробки. В комнату вдруг вошел папа. Он был хмур и бледен, будто заболел. Посмотрел на меня так, что я невольно поднялся.
– Ты говорил еще кому-нибудь, что рабочие хотят повесить директора и парторга завода? – стараясь быть грозным, тихо спросил папа.
– Нет, только бабушке…
– Ты уверен?
– Да.
– Никому не говори об этом. Понял?
– Понял.
– Никому, – он угрожающе помахал пальцем перед моим носом и вышел.
Я почесал затылок. Наверное, это тайна. Нельзя, чтобы директор и парторг раньше времени узнали о казни. Но зря папа так перепугался – я его не выдам. А бабушка – предательница. Больше ничего ей не скажу! Ударив кулаком подушку, я побежал в кухню.
Там шли приготовления к ужину.
– Ты веришь, что он никому не говорил? – допытывалась у отца баба Женя.
– Все нормально, забудь, – папа, уже спокойный и благодушный, восседал на троне-табурете.
– Добром это не кончится, – предупредила баба Женя. – Вы совсем его не воспитываете. Кинетесь – поздно будет.
Мама подошла ко мне, присела, чтобы поправить рубашку.
– Игорь у нас честный мальчик, правда?
– Да-да, – пробурчала баба Женя. – Много ты знаешь. Повидала я на своем веку, как честные в тюрьму садятся.
Мама резко встала. Похоже, хотела что-то сказать в ответ, но сдержалась. Потянулась рукой к какой-то кастрюле, вдруг вскрикнув, отставила ее и подула на пальцы.
– Осторожней, горячая, – подсказал папа.
На столе появились бутылки с лимонадом и минеральной водой, овощи.
– Хотите боржоми? – бабушка налила в стакан и подала бабе Жене.
– Спасибо.
– А мне врач рекомендует ессентуки – прочищает желчные протоки. Хотя сейчас уже все равно…
– Лене должны удалять желчный пузырь, – сказала бабушка.
Баба Женя покачала головой:
– Такая молодая, а уже удалять. В наше время, смотрю, молодые и болеют чаще, и умирают раньше. А у меня в почках обнаружили камни.
– Боже-Боже, желчный пузырь… – повторяла мама.
– Сначала они считали, что почка застужена. Хорошо, что я обратилась к Левинзону. Сделали снимок – камни, – перебила ее баба Женя.
– А мне мой врач советует ежедневно принимать по сто грамм, – изрек папа, направляясь к холодильнику. Достал оттуда бутылку водки. Не пролив ни капли, наполнил свою рюмку. – Теща, садитесь. Вам налить пять капель? Не хотите? Мама, а ты? Тоже нет. Ладно, о чем с вами, язвенниками-трезвенниками, говорить? Будем здоровы! – одним махом он опрокинул рюмку. Сразу покраснел, на глазах выступили слезы.
Зазвенели ножи и вилки.
– Семен, передай хлеб.
– У меня что-то нет аппетита.
– Ну что, еще по граммульке?
– Сегодня нашего Игоря приняли в школу. Он сдал экзамен самому директору, – сказала бабушка.
– Ну-ка расскажи, как тебя приняли, а мы все послушаем, – попросила мама.
Я надулся гордостью:
– Решил задачку про птичек и прочитал книжку про любовника страстного.
На миг воцарилась тишина.
– Ему дали Пушкина прочесть, – пояснила бабушка. – Директор – очень приятная женщина.
– Теперь придется купить ему школьную форму, – промолвил папа, почему-то вмиг погрустнев.
Бабушка развела руками: мол, что поделаешь.
– И ранец. Я знаю, какой хочу.
– Он сказал директору, что его папа – главный инженер. Он думал, что кроликов едят только главные инженеры.
ххх
По экрану телевизора побежали титры, начинался фильм.
– Ложись спать, – сказала мама. – Завтра папа вернется с базара и пойдет с тобой покупать ранец.
– И пенал?
– И пенал.
Маме для меня ничего не жалко, что ни попрошу – сразу достает свой кошелек. Правда, в мамином кошельке денег всегда почему-то очень мало. Папа говорит, что деньгами хуже всех в семье распоряжается мама, а лучше всех – бабушка. Бабушка всегда торгуется. К примеру, остановится возле торговки с укропом, выберет пучок, будет вертеть его, нюхать, сбивать цену. Уйдет, так и не купив. Сделает пару шагов, остановится, вернется и – снова за свое. А папа не торгуется. Он стоит у прилавка и что-то подсчитывает: глаза слегка закатываются, губы беззвучно шевелятся. Если, вздохнув, покачает головой, значит, дорого, дела не будет; а если решительно махнет рукой – к покупке.
…Плюшевый мишка лежал рядом на боку и вместе со мною слушал, о чем говорят взрослые.
– Семен, убавь звук в телевизоре, Игорь спит, – попросила мама. – Быть может, вообще не нужно, чтобы телевизор стоял в этой комнате?
– А куда его поставить, себе в кровать, что ли? – отозвался папа, убавив звук.
– Плохо жить в такой конуре.
– Что слышно о новой квартире? – поинтересовалась баба Женя.
– Не знаю, – ответил папа. – На следующей неделе комиссия с завода будет ходить по домам, проверять жилищные условия.
– А-а, ничего нам не дадут, – вздохнула мама. – Уже пора рожать второго, а тут даже коляску негде поставить.
– Куда вам еще второго? С одним справиться не можете, – проворчала баба Женя.
– Почему это не можем? – возмутилась мама.
– Лена, прикрой окно, дует, – вдруг попросила бабушка.
Скрипнула рама, щелкнул шпингалет.
– Форточку не закрывай, – дал указание папа.
– Тебе же на операцию, как ты собираешься рожать второго? – спросила баба Женя.
– Ну и что? После операции. Годы-то идут, – ответила мама.
– Тебе сейчас сколько? Тридцать? Я Семена родила в двадцать два. Тогда – не дай Бог! – даже молочных кухонь не было. Помню, у меня начался мастит, пришлось искать кормилицу. Мой Игорь с ног сбился, пока нашел.
– А у меня, когда Игорь родился, было столько молока – не знала, куда девать. Но он грудь брать не хотел ни в какую. Мне тогда посоветовали посыпать сосок сахаром. И он так полюбил, что почти до двух лет нельзя было оторвать.
– Куда это годится, если ребенок двух лет берет грудь? – сказала баба Женя и неожиданно повернула голову в мою сторону. Ее левый глаз прищурился. Засекла! – А ну, вытащи оттуда руки! Семен, вы следите, где он держит свои руки?!
Ладоши мои, как ошпаренные, выскочили из трусов.
– Игорь, ты почему не спишь? – спросила мама.
Повернувшись на бок, я поначалу закрыл глаза, а потом снова открыл.
– Помню, когда я была на седьмом месяце, – продолжала баба Женя, – вышла на улицу, поскользнулась и упала. Что я тогда пережила! Привезли в больницу – думали, начнутся преждевременные роды. Игорь прибежал с работы, бледный: «Женечка-Женечка». Я ему говорю: иди, а то на работе неприятности будут, видишь сам, какое сейчас время. – «Нет, Женечка, как же я тебя одну оставлю?»
– Вам делали кесарево? – поинтересовалась мама.
– Нет. Я Семена легко родила – как выплюнула. А второго не успела. Игорь, помню, просил: «Женечка, сын у нас есть, роди мне дочку». Ему-то уже было под сорок. А я не хотела. Боялась: вдруг придется одной с двумя детьми остаться. Кто мог тогда знать, что ждет завтра? В тридцать восьмом мы дважды были готовы, что за ним придут, ведь он был парторгом на заводе.
Едва слышно звучали голоса из телевизора. Папа, кажется, перестал отстукивать «капцей».
– Игорю и броню от завода давали, – продолжала баба Женя. – А он, дурак, отказался. Я даже на вокзале его умоляла: «Одумайся, поедем!» Он лишь головой кивал: «Женечка-Женечка…» По-моему, он предчувствовал, что мы больше не увидимся.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.