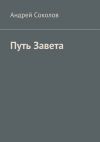Читать книгу "Past discontinuous. Фрагменты реставрации"

Автор книги: Ирина Сандомирская
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Реставрация-консервация, как ее описывает Ю. Г. Бобров, примиряя историю с эстетикой через дефис, ищет баланс между историческим и эстетическим. Однако на исходе перестройки были очевидны, наоборот, противоречия. Интересен диалог, который состоялся, когда советский режим историчности уже умер, но никакой новый пока еще не пришел ему на смену, между молодым Бобровым и его коллегой, востоковедом, историком русского искусства и теоретиком реставрации Леонидом Лелековым. Здесь позиции были заявлены безо всяких дефисов. В сборнике, выпущенном в 1990 году, то есть на вершине исторической гласности и на закате советской системы реставрации, антагонизм между историческим и эстетическим был обозначен очень четко – как конфликт между исторической истиной и авторитетом документа (позиция консервации, представленная Лелековым) и предпочтениями эстетического восприятия сегодняшним зрителем, авторитетом произведения высокого искусства (позиция реставрации, Бобров).
Спор этот был профессиональный и этический, если не политический, и уходил глубоко в идеологические противоречия советской интеллигенции. В духе еще не угасшей горбачевской гласности Лелеков представлял консервацию от лица исторической истины, которая систематически извращалась и марксистско-ленинской историей, и пропагандой; эстетическая концепция Боброва, опиравшаяся на феноменологию восприятия, оказывалась в глазах максималиста Лелекова всего лишь еще одной инстанцией фальсификации, а его апелляция к художественной ценности – отрицанием исторической правды, воплощенной в артефакте как документе. Исходя из «эстетики рецепции»,
незачем считаться с автором, его замыслом и окончательным исполнением. Как и с преодоленным историческим временем… [С]амая блистательная реставрация ничего не возрождает и не возвращает. Она создает подобия. В том числе подобия эстетических переживаний, идеалов, устремлений автора. Если реставрация и создает красоту из ничего, то новую[20]20
Лелеков Л. А. Об эстетических критериях в реставрации // Художественное наследие: Хранение, исследование, реставрация. № 13. М.: ВНИИР, 1990. С. 19, 22.
[Закрыть].
Бобров, выступая на стороне реставрации, утверждал приоритет эстетического качества над археологическими данными и полагал «соображения идеологического порядка, интересы современной культуры» приоритетными по отношению к «интересам памятника». Реставрация является «действием, с помощью которого реализуется преемственность в культуре». Как объект консервации вещь ограничена «интересами памятника»; как объект реставрации и «памятник искусства» вещь становится объектом «не только вещно-физического, но и более сложного, культурно-ценностного порядка»[21]21
Бобров Ю. Г. Консервация. Реставрация. Воссоздание. Вопросы терминологии // Там же. С. 8, 12, 14.
[Закрыть].
«Историческая истина» или «художественная правда»? Wahrheit или Dichtung? В контексте гласности такие «разборки» происходили повсеместно и имели глубочайшие идеологические и политические предпосылки, на которых расходились пути советской интеллигенции. Но даже если в советском контексте этот разлом имел свои особенные, уходящие в толщу советской исторической памяти корни, то наметился он как таковой гораздо раньше, на заре модерности, обозначился институционально в годы Великой французской революции, Термидора и последовавшей реставрации империи, когда одновременно вызревали три кита XIX века: индустриальный и товарный капитализм, модернизм в искусстве и историзм в академии. Тогда же, как уже упоминалось, возникает и движение (архитектурной) консервации и реставрации в Европе, в котором быстро намечается поляризация. На одном полюсе возникает принцип целостной реставрации и идеи восстановления руины в первоначальном состоянии ради цельности эстетического восприятия; этот принцип исторически связывают с реставрациями Виолле-ле-Дюка. На другом полюсе возникает движение антиреставрации, которое связывают с именем Джона Рёскина; здесь «первоначальным состоянием» считали саму руину, какой ее обнаруживал современник XIX века, а носителем исторической ценности – не утраченный и восстановленный в работе воображения целостный облик, но материальность сохранившихся от старины фрагментов.
В дальнейшем эта оппозиция исторического и эстетического воспроизводилась в разных идеологических формах, например в том, как на переломе XX века археологи и историки искусства спорили о том, что такое исторический или художественный памятник: определять ли его историческую ценность исходя из свойств материала археологической находки или из признаков эпохи, стиля, направления, которые различаются в его формах. В практической реальности, однако, проекты восстановления, особенно дорогостоящей архитектурной консервации, руководствовались не только этими двумя, но еще и экономическими соображениями, которые, в свою очередь, вступали в противоречие с критериями антикварной, или археологической ценности самого артефакта[22]22
О диалектике и противоречиях разного типа ценностей в деле охраны исторических памятников см. далее, в главе 4.
[Закрыть]. Как уже упоминалось, в выставочных и кураторских практиках последнего времени, а также в теории музейного дела обсуждают оппозицию «дискурсивности», то есть знания и толкования, и «иммерсивности», то есть такой организации выставочной среды, в которой смысл создавался бы не в результате усвоения зрителем нарраций и хронологий, а в результате переживания определенных аффектов от непосредственного контакта с вещами. В социологической теории «обогащения» ценности материального наследия историческими нарративами также прослеживается та же дилемма «историческое, или археологически данное, vs. прекрасное». Ниже, в главе 1, я хочу более подробно обсудить эту двойственность вещей, их двойную телесность – собственно вещную, данную в конкретной практике, и дискурсивную, закрепленную в словах, цифрах, образах и пр. Именно эта двойная телесность в природе самих вещей и их бытования в социальном пространстве порождает и поддерживает во времени ту поляризацию между (исторической) истиной и (художественной) правдой, которую я лишь мельком затронула выше.
С точки зрения реставрационной практики это спор довольно отвлеченный. Как не бывает реставрации без консервирующего вмешательства – без укрепления структуры или «консервирующей хирургии», то есть удаления вредных воздействий и необратимых повреждений, так не бывает и проектов консервации, вполне свободных от необходимости реставрировать руину. Как можно заключить из дискуссии между Бобровым и Лелековым, разница здесь не в технике, а в идеологии. Историк Майлс Глендиннинг, автор замечательной книги об охране памятников и истории движения архитектурной консервации, указывает на три руководящие идеи, которыми это движение исторически объединялось на протяжении всей истории своего существования в Новое время и которые не меняли своего основополагающего значения до нашего времени, возникнув в зоне действия могучих исторических сил, охвативших Европу в XVIII веке и перешедших в новое качество в 1789 году. Это, во-первых, гранд-нарративы социального прогресса, Просвещения, национальной идентичности и исторического предназначения; во-вторых, дискурсы и риторики аутентичности; в-третьих, модернистское противопоставление старого как оппозиции новому и подлинника в противоположность копии и подделке[23]23
Glendinning M. The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation & Antiquity to Modernity. London; New York: Routledge, 2013. Р. 417–418.
[Закрыть].
По двум последним ключевым пунктам – о том, что считать старым, что считать новым, и о том, что есть оригинал, а что копия; что есть подлинник, а что фальшивка, – реставрация выступает антагонистом консервации в плане материальной реальности и практики, хотя обе принадлежат к области антимодернизационных риторик и идеологий. Случай отца исторической архитектурной реставрации, знаменитого Эжена Виолле-ле-Дюка – выдающийся пример сочетания исторического воображения с поисками идеальных и всеобщих корней в прошлом с изощренной строительной технологией для воссоздания этих самых древних начал[24]24
Bressani M. Architecture and the Historical Imagination: Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814–1879. Farnham: Ashgate, 2014.
[Закрыть]. С точки зрения реставрации «первоначальное состояние» артефакта – это воображаемое состояние предмета, каким он вышел из рук древнего художника, или здания, каким оно было создано строителями. Так понимаемое, оно, естественно, утеряно, но реставратор, используя художественную фантазию, исторические знания, знания старинной технологии и аналогию с подобными произведениями, имеет право вообразить это «первоначальное состояние» и воплотить его в реставрации в целостном виде – даже если в своей исторической реальности объект никогда в такой цельной форме не существовал и такого «первоначального вида» не имел. Правота реставратора – в реставрации Идеи[25]25
«Искусства не умирают. Их принципы остаются истинными на все времена, потому что люди всегда одни и те же». Этими словами Виолле-ле-Дюка на фронтисписе открывается английское издание его эссе «О реставрации» (1854) со знаменитым тезисом о реставрации как воссоздании Идеи: «Слово „реставрация“ и сама реставрация принадлежат Новому времени. Реставрировать постройку не значит сохранить, починить или перестроить ее; это значит воссоздать ее в состоянии целостности, которой, возможно, никогда не существовало – ни в один конкретный момент» (On Restoration, by E. Viollet-le-Duc, and a Notice on His Work in Connection with the Historical Monuments in France by Charles Wethered. London, 1875). От воссоздания Идеи в дальнейшем пошли концепции реставрации в соответствии с первоначальным замыслом, первоначальным обликом, первоначальным впечатлением и пр.; понимание «первоначальности» и умение ее «воссоздать» и составляли компетенцию реставратора; эта историцистская концепция в XIX веке сменила «антикварный» подход предыдущей эпохи, когда мастерство реставратора и соответственно стоимость отреставрированного произведения (живописного полотна) определялось умением мастера и знатока распознать и воссоздать «руку художника» или его «дух».
[Закрыть]. Именно здесь лежит принципиальное различие между реставрацией и консервацией – антагонистами в смысле философии истории и этики в плане права на вмешательство в артефакт. «Первоначальным состоянием» в консервации считается то состояние предмета, в каком он был найден археологом; поскольку именно это состояние вещи и несет историческую информацию и ценно в качестве документа, консервация заключается в том, чтобы остановить дальнейшее разрушение, ничего не прибавляя и не домысливая. Понятно, что в чистом виде на практике ни та, ни другая повестка не реализуется, но факт того, что компромисс между эстетическим и историческим, экономическим и «антикварным» подходами на деле недостижим, объясняет для нас иначе никак рационально не объяснимые страсти, которые постоянно разыгрываются и в профессиональной среде, и в публике относительно легитимности той или иной реставрации.
Это принципиальное различие в понимании первоначальности отражается и на том, как определяется объект – исторический или художественный памятник, и на том, как определяется то, что именно в составе памятника считать старым, а что новым. С точки зрения консервации привнесенные для уточнения первоначального облика детали нельзя считать «старыми», поскольку они не имеют «старой» исторической материальности. С точки зрения реставрации эти детали могут считаться «старыми», даже если были сделаны вчера, потому что в них восстановлена, воспроизведена, воссоздана историческая структура оригинала или его исторический внешний вид, его Идея: не состав материала, но историчность реконструированного считается исторически достоверной.
Независимо от аргумента, апеллируя ли к исторической документальности или к эстетической достоверности, оба наших собеседника – реставратор и консерватор – представляли общую платформу, когда каждый со своей стороны высказался с критикой (псевдо)реставрации как копирования и создания подобий прошлого, которые сопровождаются риторикой возрождения и возвращения; как игнорирования автора и самого произведения, его исторической материальности, попрания прошедшего со стороны настоящего, принципа историзма – ради «чуда художественности» и «утоления эстетических капризов».
Путей к магическому вторичному воссозданию безупречно достоверного художественного или документального оригинала быть не может ‹…› Возможны только подобия, имитации, копии. Даже если средства массовой информации не без успеха выдают их за непререкаемые подлинники детски доверчивому общественному мнению[26]26
Лелеков Л. А. Об эстетических критериях в реставрации. С. 25.
[Закрыть].
«Воссоздание» – общий враг и для консервации, и для реставрации, но Бобров здесь имеет в виду конкретные послевоенные проекты «воссоздания», последовательным критиком которых он является: факсимильной реставрации, из которых самым крупным и широко распропагандированным стало воссоздание ленинградских пригородных дворцов[27]27
Я обсуждаю этот эпизод далее, в главах 8 и 9.
[Закрыть]. В этом вопросе между ним и его противником Лелековым нет разногласий: подлинность дорога обоим, хотя понимают они ее по-разному; для обоих равно неприемлемы подражания, которые выдают себя за оригиналы. Воссоздание, пишет Бобров,
с точки зрения охраны и реставрации памятников совершенно бессмысленное действие, так как воссоздание не является частью процесса наследования, поскольку при этом отсутствует момент сохранения. ‹…› новое произведение – «макет в натуральную величину», который со временем станет памятником современной культуры, но никогда памятником той эпохи, которую стремится воспроизвести[28]28
Бобров Ю. Г. Консервация. Реставрация. Воссоздание. Вопросы терминологии // Художественное наследие: Хранение, исследование, реставрация. № 13. М.: ВНИИР, 1990. С. 15.
[Закрыть].
Продукт воссоздания, реплика или факсимиле не заслуживают статуса памятника; реплицирование не является ни подлинно историческим, ни подлинно эстетическим актом, но свидетельствует о «потребности компенсировать существенные потери в культурном наследии, как символ преодоления негативного опыта». И наконец, такого рода «макеты» предосудительны еще и потому, что являются «выражением потребительской функции искусства в сфере массовой культуры»[29]29
Там же. С. 16.
[Закрыть]. Примечательна солидарность между сторонами относительно неприемлемости «массовости» и «потребительства»: здесь являет себя антикапиталистический дух советской реставрации, который напоминает о коммунистических утопиях авангарда 1920-х и выражается с такой прямотой в 1991 году, по иронии истории буквально накануне падения коммунизма.
В этом пункте консервация с ее аргументацией от исторической истины и реставрация, которая апеллирует к художественной правде, оказываются не настолько далекими друг от друга: модернистский историцизм, с одной стороны, и модернистский эстетический элитизм, с другой, обнаруживают третью инстанцию, враждебную обоим: антиисторическую масс-культурную потребительскую интенцию апроприации прошлого в его символах и «макетах», потребление объектов, заведомо фальшивых и с точки зрения консервации, и с точки зрения реставрации, но никак не фальшивых с точки зрения массовой мемориальной культуры, с точки зрения коллективной травмы, необходимости в обществе «компенсировать существенные потери в культурном наследии, как символ преодоления негативного опыта».
Именно этот «третий путь», движимый возможностью извлечения прибыли из духовного ресурса апроприированного прошлого, в дальнейшем возобладает над модернистскими социалистическими концепциями обоих оппонентов. Постсоветский транзит от коммунизма к капитализму не привел к ожидаемому установлению демократии, но нивелировал и уравнял между собой все ценности в точном соответствии с Марксовым анализом роли денег, не исключая и ценности исторические и эстетические. Но еще до воцарения рыночных цен на недвижимость, в 1960-е годы, в советской системе охраны культурного наследия, как и в мировых контекстах постмодернистской переоценки ценностей, а следовательно, и в критериях и принципах его, наследия, оценки, консервации и реставрации стало наблюдаться стирание различий между старым и новым, подлинником и копией. «Наследие» – абстрактно-собирательное имя для обозначения комплекса коллективных патримониальных ритуалов и эмоций в обществе потребления – пришло на смену «памятнику» – конкретному материальному предмету или физическим останкам. Появилась идея нематериального, или духовного наследия, не требовавшего консервации или реставрации; «памятник» как конкретная вещь превратился сначала в «комплекс», потом расширился до «пространства» и «среды» городского или культурного ландшафта; ценность вещи сменилась ценностью «образа», «небесной линии», «перспективы» или «вида». В заповедной культурной или мемориальной зоне объектом патримониальных желаний и коллективных ритуалов становится неопределенное «чувство древности», «дыхание старины», «присутствие памяти», и вообще «атмосфера» или «настроение». В Европе такого рода развитие «от конкретного к абстрактному», от «памятника» к «наследию» объективно связано не только с текущим состоянием капитализма, но и, конечно, с результатами двух мировых войн, которые оставили историческую Европу лежать в руинах. Однако глобальный тренд времени – это все более интенсивное абстрагирование прошлого от его материальности и идеология intangible / world heritage в концепции ЮНЕСКО и его органа ИКОМОС, где материальность прошлого редуцируется до семиотики и прагматики локальных ритуалов коммуникации[30]30
Glendinning M. The Conservation Movement. P. 427. О послевоенной реконструкции в Европе – Ibid. P. 257–414. См. также главы 11 и 12.
[Закрыть].
«Культ наследия» отличается от элитарного «культа памятника» широким демократизмом и включенностью масс, возможностью организации и самоорганизации, как, например, в практике туризма и экскурсий или в движениях любителей археологических раскопок и реставраций, которые стали популярны в 60-е годы. Эстетический (или антиисторический) сдвиг в риторике «советской школы» невероятно способствовал этой демократизации, поскольку постулировал приобщение к прошлому и овладение его ценностями в зрительском восприятии, а это последнее поддавалось эстетическому и патриотическому воспитанию. Параллельно этим процессам дематериализации и театрализации патримониальных эмоций размываются и релятивизируются требования аутентичности и критерии художественности; они заменяются моральными нормами патриотической любви и служения Родине; «старое» до безразличия смешивается с «новым», и подлинность материальная уступает место подлинности в смысле «иконической аутентичности» образа[31]31
Анализ процессов глобализации после 1989 года: Ibid. P. 417–448.
[Закрыть].
Примечательно и иронично, что диатриба Боброва против (ленинградского) «воссоздания» публикуется на самом пороге наступления совсем новой эпохи: освобожденная от советского исторического и эстетического контроля, очень скоро расцветет коммерческая эксплуатация прошлого, которая заполонит пространства бывшего соцлагеря макетами, репликами, факсимиле и просто грубыми подделками. Когда-то давно меня поразило, когда на мой вопрос о том, что будет на месте строительного котлована, мне ответили, не моргнув глазом, что «здесь будет особняк восемнадцатого века с офисами». Прошлое оказалось впереди, в будущем. Но это было давно: сейчас в Москве никого уже не смущает зрелище совершенно очищенного от застройки пустыря за забором, на котором красуется надпись «реконструкция», или одиноко стоящей фасадной стены с пустыми окнами, являющей собой «реставрацию» или даже «реставрацию с элементами приспособления»[32]32
О факсимильных воспроизведениях исторических дворцов – там же; самая известная история постсоветской факсимильной реконструкции, воссоздание храма Христа Спасителя, когда такие эпизоды фальсификации и коррупции всё еще удивляли: Akinsha K., Kozlov G., Hochfield S. The Holy Place: Architecture, Ideology, and History in Russia. New Haven: Yale UP, 2007.
[Закрыть].
Советская реставрация зародилась как движение и как область практической деятельности в том же контексте исторической и художественной модернизации – антимодернизационной по духу модернизации, следует добавить, – что и западное движение консервации – охраны (архитектурных) памятников, в том же идеологическом движении использования прошлого как средства символизации коллективной идентичности и исторической судьбы. В ее советском изводе, так наглядно продемонстрированная выше в споре своих двух ведущих оппонентов-представителей, она закончила свое существование как историческая и эстетическая доктрина под влиянием тех же факторов глобального капиталистического мира с его релятивизированными ценностями и ритуалами, в условиях рыночных отношений «мемориального капитализма». Советская реставрация с ее идеями эстетического качества и исторической значимости пострадала от тех же бед, которые постигли европейский исторический и эстетический модернизм на переломе столетия, когда релятивизации и нивелировке подверглись принципы и критерии, которые требовали отделять старое – от нового, высокое – от низкого, вечное – от преходящего и подлинное – от вторичного.
Холодная война, как ни странно, на фоне политической и военной поляризации приводит к еще более тесной конвергенции в этой области гуманитарного сотрудничества: СССР вступает в международные организации по охране культурного наследия, советские объекты включаются в списки мирового наследия, советское влияние в ЮНЕСКО растет, СССР подписывает международные конвенции по охране культурного наследия и активно участвует в выработке все новых и новых документов, растет международная роль СССР как места «мягкой силы», «моральной супердержавы» и привлекательного стиля жизни. Разница между западными ценностями прошлого и западными принципами охраны памятников – и соответствующими принципами «социалистической реставрации» – все более стирается, стремясь постепенно раствориться во все нивелирующей стихии капиталистической символической экономии, в которой и история, и искусство оказываются разного вида нематериальными ресурсами для инвестиций в общую глобальную intangible economy. Все, что казалось твердым, растворяется в воздухе.
О ценностях, «извлеченных из небытия надеждой»
В капиталистической системе универсальным растворителем и уравнителем в ценности всего со всем являются деньги и наличие у всех вещей общего знаменателя в форме всеобщего эквивалента стоимости. Именно поэтому деньги в капиталистическом мире означают власть. В стране победившей социалистической революции деньги не являются активом, но составляют бесполезную собственность обреченного класса; они не имеют никакой власти, и значение их ничтожно; их место растворителя и уравнителя, место в системе власти занимает язык[33]33
«При капитализме власть и деньги стали сопоставимыми величинами… Советское государство разрушило сообщающиеся сосуды, один из которых можно назвать „деньгами“, другой – „властью“. ‹…› Если спросить малознакомого человека о самой незначительной пьесе, о не представляющем ничего особенного фильме, в ответ следует обычно стандартная фраза: „У нас говорят…“ или: „У нас господствует мнение…“ Прежде чем произнести суждение перед посторонними, его десять раз обдумают. Потому что в любой момент партия может мимоходом, неожиданно выразить свою позицию, и никто не хотел бы оказаться дезавуированным» (Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. С. 232–233). Более подробно об этом тезисе Беньямина: Сандомирская И. Блокада в слове: очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 80–103.
[Закрыть]. Вместо биржи слово становится тем полем, на котором играются игры власти; растворение различий и уравнение всего со всем происходят не силой денег, но силой гегемонического дискурса. Социальное пространство расчищается от остатков прежних ценностей, подготавливается для создания новых культурных институтов, которые при этом кажутся не столько новыми, сколько воссозданными старыми. Согласно ленинской теории, именно так и происходит социальная революция: передовой класс захватывает машину (государственного насилия), разрушает ее и затем отстраивает новую (тоже государственную, но с иными объектами подавления). То же имеет место в процессе революционного обновления культурных институций и ценностей: они разрушаются и затем как бы восстанавливаются, но перенаправленные на интересы новой гегемонии.
Согласно консервативной политической теории, так описывается не революция, но, наоборот, политическая реставрация: эксцессы революционного взрыва компенсируются обратным движением маятника и реакционным возвращением к старому. Вальтер Беньямин в Москве 1926–1927 годов наблюдает удивительную ситуацию синтеза революционных антитез: этой фантасмагорической (в беньяминовском значении слова) реальности, в которой историческое изменение совершается в процессе не то революционной реставрации, не то реставрирующей революции. Языки революционной теории и идеологической пропаганды эффективно размывают различие между одним и другим; между воспроизведением – и изобретением; между старым – и радикально новым; между повторением исторически пройденного – и исторически беспрецедентным; между полностью обесцененными буржуазными ценностями – и некогда аристократически-бесценными ценностями, ныне приспособленными для производства самой что ни на есть буржуазной утилитарной полезности.
О реставрационной антитезе и о роли повторения и воспроизведения в значении революции свидетельствует этимология ее имени; об этом напоминает и политическая теория. В частности, Ханна Арендт предостерегает против приписывания революции задач, ей не свойственных, – задач построения нового мира и нового человека. Арендт утверждает, что у революции есть только одна задача: переопределить историю вообще в качестве ее собственной, революции, истории, все события которой ведут к ее, революции, закономерной победе. Революция стремится переобозначить ту точку в прошлом, из которой ведет свое начало революционная предпосылка, поставить новый «ноль» на оси времени и начать новый отсчет истории именно с него[34]34
Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. С. 18–73.
[Закрыть]. Построение нового мира и создание нового человека является, если продолжить эту логику, задачей того, что приходит после революции; и в логике ленинской мысли, которой теория Арендт не противоречит, это и есть задача (вос)создания этого старого-нового, (вос)становления беспрецедентного-закономерного, задача «организации» (ленинский термин), то есть той самой революционизирующей реставрации, которая есть реставрирующая – культурная – революция; «революция сверху» (сталинский термин).
Чрезвычайно интересным для меня было понять: что такое в советской реальности работа по «охране наследия», что значит «охрана» и что такое вообще «наследие», что такое ценный исторический памятник и что такое «ценность», наконец, что такое вообще «прошлое» и, как форма его присвоения, коллективная память? Как сохраняются или не сохраняются, трансформируются, камуфлируются, чем замещаются все эти чрезвычайно «твердые» материальные и нематериальные сущности в мире, где все на свете развеивается в воздухе под действием всерастворяющих и уравнивающих слов, в этом мире сплошных оксюморонов и софизмов, претендующих на роль революционной диалектики? В наши дни все перечисленное выше в этом абзаце сносится бюрократами, культурными предпринимателями и культурологами в одну мало дифференцированную дискурсивную область «наследия»; о растворяющей и нивелирующей власти этого слова – «наследие» – стоит поговорить отдельно.
Если рассуждать логически, «наследие» имеет три составляющих, без которых оно не может считаться наследием: одну сторону «наследия» составляет в самом общем виде представление о прошлом; вторую – представление, также в самом общем виде, о «ценности»; третью – представление о «непрерывности», о континуальности и преемственности в передаче смыслов даже при взрывном возникновении новых и сверхновых. Иными словами, понятие наследия имеет троичную структуру, сочетая в себе исторический компонент, связанный с той или иной формой отношения с прошлым; политэкономический, связанный с ценностью в самом широком смысле слова, а также третий, который условно можно назвать мистическим или мессианическим и который связан с представлением о традиции и, следовательно, с представлением о том, к какому будущему эта традиция ведет настоящее, с идеей судьбы, суда, искупления и пр. Здесь «наследие» уже выходит за рамки идеологии, а критика наследия – за пределы критики дискурса; из области знания и расчета наследие превращается в объект веры, в теологию.
Революционный режим, как это широко известно, «растворил в воздухе» все вышеозначенное, «разрушив до основания» прошлое; отменил рынок и экономический обмен и тем самым запретил дифференцирующую потребительную стоимость, то есть собственно ценность; запретил также и веру в будущее, провозгласив материалистическую доктрину истории и объявив ее конец – коммунистическое общество – уже практически достигнутым. В этих обстоятельствах становится необычайно интригующим вопрос, как же все-таки из такой радикально расчищенной почвы выросло хоть что-либо, что имело бы хотя отдаленное отношение к тому, что мы сейчас называем туманным термином «наследие», в чем содержание этого «наследия», как сформировались его ценности? Как из радикальной негативности революционного запрета могла возникнуть позитивность исторического воображения и неутолимого желания, из которых и складывается та форма духовного потребления, которую называют культурной памятью? И самое главное, если мы обсуждаем «наследие»: означает ли это слово в применении к советскому контексту хоть что-нибудь, кроме слов – пустых, но действенных в своей роли универсального растворителя всего твердого? Кроме удивительных по своей изобретательности словосплетений мастеров советского дискурса, которые умели проходить между более или менее частыми цензурными и репрессивными струями. Кроме бюрократических документов, регламентирующих деятельность институций «наследия» и его «охраны». Кроме идеологически корректных и зачастую обманчивых в своей тривиальности трюизмов педагогических и искусствоведческих произведений, псевдодиалектических оксюморонов и эзоповских двусмысленностей в публицистике и народном юморе, всех тех зеркал, на которые наталкиваются – и от которых зачастую отскакивают под тем же углом отражения – попытки критического анализа советского дискурса.
В стремлении ответить на эти вопросы я и обращаюсь к реставрации как к третьему, наряду с историей и памятью, дискурсу присвоения прошлого: это ассамбляж из слов, отношений, ценностей, знаний, материальных вещей, взглядов и жестов, в том числе профессиональных техник и институциональных действий. В эту сложную конструкцию прошлое улавливается, в ней обрабатывается и превращается в настоящее и будущее, которые воплощаются в экспертные суждения и денежные эквиваленты, но прежде всего (и это главное) – в материальность конкретного физического объекта. Тогда как история читает и рассказывает прошлое, а память желает прошлого и мечтает о нем, реставрация имеет дело прежде всего с вещами и копается в своих артефактах так, как археолог копается в почве, с той лишь разницей, что археолог не знает, чтó найдет и найдет ли, а реставрация с самого начала знает, что именно, какого рода подлинность и первоначальность она «выкопает» в материальности многочисленных добавленных или утраченных слоев физически присутствующего и оформленного вещества – камня, краски, дерева и пр.
В этом смысле реставрация представляет собой существенное третье начало не только по отношению к «большим» дискурсам истории и памяти, но и по отношению к «большим» методологиям исторического исследования. Реставрацию в широком смысле слова отличает сложная диалектика прерывного и непрерывного, которую Фуко различал в формах археологии и генеалогии как методах производства знания: различие, которое не утратило методологической ценности. Если искать в реставрации самостоятельный методологический принцип, то такое начало выглядит, вполне в духе и Фуко, и Ницше, не как синтез, но как пародия и на историю, и на память; пародия же имеет неограниченную способность производства смыслов. Об относительности и крайней идеологической зависимости всякого рода исторических «точек отсчета» в разнообразных проектах политического изобретения прошлого уже не приходится говорить: реставрация в этом смысле являет собой воплощенную пародию на генеалогию, особенно идеологически и коммерчески ангажированная реставрация с ее способностью создавать исторические памятники из ничего, снабжая их идеологическим сопровождением и, главное, рыночной экспертизой. Как пародия на археологию принцип реставрации описан Борхесом в анекдоте из новеллы «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», где поставленная перед археологами – тюремными заключенными и студентами колледжей – задача «раскопать что-нибудь стоящее» дает в результате целую серию «стоящих», то есть почему-то ценных, но не имеющих критерия ценности и идентичности предметов-«хрёниров». В придачу со временем «хрёниры» начинают итеративно самовоспроизводиться, в результате чего оказывается возможным
…скрашивать и даже изменять прошлое, которое теперь не менее пластично и послушно, чем будущее. Любопытный факт: в «хрёнирах» второй и третьей степени – то есть «хрёнирах», производных от другого «хрёна», и «хрёнирах», производных от «хрёна» «хрёна», – отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрёниры» пятой степени почти подобны ему; «хрёниры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хрёнирах» одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой «хрён», иногда бывает «ур» – предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой[35]35
Борхес Х. Л. Тлён, Укбар, Orbis Tertius // Борхес Х. Л. Вавилонская библиотека и другие рассказы. СПб.: Азбука, 1997. С. 116–117.
[Закрыть].
Жаль, что Фуко, вдохновленный в своей археологии знания пародией Борхеса на китайскую энциклопедию, не заметил у того же автора пародию на свою собственную систему, которая к тому же имеет конкретное воплощение в реальности, в разнообразных методологиях и практиках художественной и исторической реставрации и в этом смысле никак не является фикцией, но, наоборот, представляет собой авторитетную инстанцию производства ценности – материальной, коммерческой или духовной, в зависимости от той политэкономии (или экономической теологии, как я собираюсь обсуждать ниже), в которой она и возникает как ценность («извлеченная из небытия надеждой», как говорит Борхес).