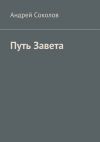Читать книгу "Past discontinuous. Фрагменты реставрации"

Автор книги: Ирина Сандомирская
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Истина живописи, продолжает Деррида, в этом споре оборачивается чем-то куда большим, чем истина и живопись как таковые, а именно: правдой памяти, справедливостью на ее, памяти, суде. К праведному суду и обращается, как кажется, Мейер Шапиро в своем эссе с требованием реституции: вернуть башмаки – Ван Гогу, картине Ван Гога – память о ее происхождении, а искусству – права свидетельствовать об истории. Именно так трактует эту историю Деррида: как требование определения законного наследника и возвращения ему того, что у него было отнято, восстановления в правах наследия и владения:
Ниже, в главе 9 о послевоенном воссоздании разрушенных ленинградских пригородных дворцов, мы еще раз встретимся с дилеммой подлинности и справедливости, подобной истории с башмаками Ван Гога, когда проект реставрации разрушенного осуществляют не ради монументализации ценного наследия, но ради восстановления справедливости, реституции похищенного времени, украденной истории, растраченных и забытых в безвестности жизней. Воссозданная, поднятая из руин старинная постройка, насколько может, отвечает требованиям исторической подлинности, но она подлинна и в высшем смысле, являя собой исполнение долгового обязательства потомком, утверждающим честь и достоинство (being-upright) того, кто ушел, оставив в наследство тяжелое прошлое, которое, подобно башмакам Ван Гога, не поддается объективации и репрезентации фигурами речи.
Об оптическом познании и тактильной эротике вещейВ этом споре между антагонистами Хайдеггером и Шапиро открывается, таким образом, общее свойство – именно то, что об одном и том же артефакте они говорят каждый из своей перспективы: Хайдеггер – из феноменологической, Шапиро – из исторической. Вещь, увиденная из перспективы и встроенная в точку зрения, уже не есть вещь как таковая, но объект, конципированный и построенный с этой точки зрения; это проекция вещи; вещь, удаленная от самой себя; возникшее таким образом расстояние создает ви́дение, расстояние и пространство для интерпретаций наблюдателя. Когда рядом с какой-то вещью, выставленной в музее, я читаю экспликацию на этикетке, я знаю, что именно вижу перед собой, однако никогда не могу быть уверена, что это и есть то самое, на что я смотрю. Видеть что-то – значит понимать, догадываться, умозаключать, знать, воспринимать вещь в правильной перспективе. Смотреть на что-то – значит смотреть вещи как бы в лицо, рассматривать, ощупывая ее взглядом и не обязательно давая ей определение. Перспектива интерпретации создает расстояние, которое не сокращается от того, видится ли вещь – в данном случае башмаки и холст, на котором изображены башмаки, – с точки зрения Хайдеггера или Шапиро: ни в том, ни в другом случае ни башмаки, ни холст не приобретают такой полноты вещности – а вместе с тем и глубины непроницаемого молчания, – которыми отличается «просто вещь», булыжник на дороге.
В своей двойной телесности вещи создаются двойным жестом апроприации, двойной техникой ви́дения. Об этой двойственности писал Алоиз Ригль в «Исторической грамматике визуальных искусств», проводя различие между близким и дальним зрением (Nahsicht и Fernsicht), которые он анализировал как два различных модуса восприятия вещей – можно добавить, и как два различных модуса их, вещей, объективного существования[124]124
О системе ви́дения у Ригля, в частности о связи возвышенного с Fernsicht, а детали и фактуры – с Nahsicht: Ямпольский М. О близком: Очерки немиметического зрения. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 52–55.
[Закрыть]. Характерно, что автором этой теории является историк искусства, основатель формальной школы в искусствоведении, а в своей другой ипостаси – музейный хранитель, то есть человек, имеющий дело с физической жизнью вещей, имеющий возможность держать их в руках, осязать их тяжесть, фактуру и запах, изучать с очень близкого расстояния. В этих своих двух профессиональных реализациях, которые при всей близости не обязательно солидарны друг с другом, Ригль воспроизводит дилемму двух типов зрения, двух форм опыта в коммуникации с историческим и/или эстетически значимым предметом, двух стратегий восприятия и истолкования вещей и отношения с ними и по сути двух форм существования самой вещи. Из оппозиции дальнего и ближнего вытекают серьезные последствия и в смысле значения и ценности вещей, и в смысле особенностей субъекта и объекта, и в смысле опыта взаимодействия с ними в целом.
Ригль утверждает, что восприятие предметов становится возможным благодаря сочетанию зрения и осязания. Зрение воспринимает мир в его проекции на плоскость, глаз не видит глубины, но видит игру теней, и мозг домысливает третье измерение. Наоборот, объемность становится явной при прикосновении к предмету. Зрительное впечатление глубины – это иллюзия зрения и сила привычки мозга, который усваивает опыт ощупывающей руки и переводит этот опыт в зрительное переживание. Поэтому мир является восприятию в двух планах: объективно он соответствует опыту тактильности, тогда как оптическое присвоение субъективно. Противоречие и сочетание этих двух планов – или, может быть, следовало бы сказать, их диалектика – и создает сложность предмета при его восприятии и толковании.
Тактильное и оптическое суть две разные инстанции восприятия. Тактильное восприятие предшествует оптическому; прикосновение предшествует ви́дению, но оно не дано и не закреплено никак иначе, кроме как в ви́дении, то есть в плоскостном искажении, в иллюзии глубины, перспективы, расстояния. Если мы видим глубину, то это потому, что мы видим знаки, в которых осязательное ощущение трехмерности перезаписалось в зрительном коде. Тактильность же не имеет кода – это только контакт, чистый жест без всякой «граммы». Способность зрения создавать цельные образы связана с тем, что прерывистость реальной вещи – например, дыры или провалы в ее теле – зрительно воспринимается на расстоянии как тень. Тень есть показатель формы, но она зависит не только от формы предмета, она меняется (а значит, меняется и форма) по мере удаления или приближения к нему зрителя. Так, при ближайшем рассмотрении тени почти исчезают, поле зрения уменьшается, а поверхность предмета чем ближе, тем больше утрачивает гладкость и правильность. Nahsicht дает тактильное ви́дение плоскости, фактуры и детали, но полностью устраняет возможность воспринимать предмет в целостности. По мере удаления глаза от рассматриваемого поле зрения расширяется, объект приобретает трехмерность, за счет углубления теней появляются контур и рельеф, а вместе с тем возникает и сам предмет как нечто целостное и автономное. Это Normalsicht, наиболее желательное состояние для созерцания, при котором плоскостное зрение оптимально передает реальность объемного объекта. Наконец, удаляясь еще более, глаз перестает видеть четкость в тенях, освещенные и затененные участки сливаются в общий средний тон, цвет заменяет собой светотень, и зрелище становится плоскостным, как на картинке, чисто оптическим. Это Fernsicht, при котором оптический опыт полностью отрывается от тактильного. На близком расстоянии мы видим не связанные между собой фрагменты, которые соединяются в целое только в воображении; на дальнем расстоянии мы видим только целое без деталей; нормальный вид дает фрагменты и целое одновременно, насколько это возможно[125]125
Riegl A. Historical Grammar of the Visual Arts. New York: Zone Books, 2004. Р. 396–397. Впервые опубликованные в 1966 году, эти записи представляют собой материалы для двух курсов лекций 1897–1899 годов; я пользуюсь фрагментом второго курса.
[Закрыть].
Этими различными жестами зрительной апроприации создаются различные по природе объекты. Так, произведения скульптуры и живописи, пластического и живописного начал в искусстве представляют собой предметы с преобладанием тактильного и оптического соответственно; различия между ними – это различия не жанра или стиля, но способов преобразования природы и производства объекта, в данном случае – физиологии зрения в его работе с данными ощупывающей мир руки.
Символическое и эстетическое целое возникает тогда, когда зрение утрачивает контакт с физической тактильной реальностью; когда прерывности – шрамы, лакуны, дефекты, заплатки на поверхности вещи – превращаются в тени, а затем сливаются в общем цветовом пятне, и зрительный образ приобретает полную автономность от реального состояния тела вещи. По мере удаления вещь оказывается все больше во власти воображения, зрительной иллюзии и дискурсивного конструирования. Работа воображения, говорит Ригль, особенно интенсивна в изображении человеческих фигур, в которых эпоха реализует наиболее полно свойственный ей стиль ви́дения. Различие между египетскими фигурами и искусством нового времени – в характерных для своего времени приемах созерцающего глаза, в техниках зрения, которые создают соответственный модус бытия объектов. Здесь сквозь присущие дальнему зрению оптические свойства, сквозь толщу интерпретирующих наслоений передается не тактильная реальность вещи, но
контекст – поэтические, религиозные, дидактические, патриотические ассоциации, которые – намеренно или непреднамеренно – окружают фигуру человека и отвлекают внимание зрителя нашего времени, который привык, что произведение искусства доносит до него свою идею в модусе дальнего зрения…[126]126
Riegl A. Late Roman Art Industry. Roma: Bretschneider, 1985. P. 15.
[Закрыть]
Таким образом, «считывая» вещь оптически, то есть исходя из иллюзии целостности, гармонии и непрерывности объекта, субъект действительно считывает свои собственные ассоциации, то есть считывает сам себя. В этой зеркальности – сущность памятника, в отличие от вещи как таковой (например, валяющегося на дороге булыжника или гальки на морском берегу), которая есть сама по себе. Ригль формулирует эту рефлексивную способность в знаменитой работе о «современном культе (исторического) памятника» в подобном духе, когда определяет сам статус и смысл памятника в зависимости от его эстетической, исторической, политической ценности или просто от его полезности для современности, в крайнем случае – практической полезности для использования подо что-то нужное[127]127
Анализ Ригля в отношении разных форм ценности: Riegl A. The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin // Oppositions: A Journal for Ideas and Criticism in Architecture. Monument/Memory / Ed. by K. W. Forster. Fall 1982. № 25. P. 21–51; более подробно см. ниже.
[Закрыть]. Ценность – это результат расстояния, дальнего взгляда, который превращает вещь в объект той или иной интерпретации, того или иного критического рассмотрения. Без расстояния нет осознания, нет ценности и нет критической интерпретации – без близости нет вещи в ее физической реальности. Между тем подавить тактильное оптическим, полностью пренебречь тактильным ради оптического не так просто. Восприятие разрывается между ними, не в силах примирить гармонический вид общего целого со злокачественным хаосом полной деструкции, который открывается взгляду при приближении к старинной фреске; между аполлоническим дальнего и дионисийским ближнего зрения; между символическим телом памятника, стремящегося к синтезу, и телом вещи, материальность которой стремится к исчезновению.
Продолжая размышления Ригля, мы возвращаемся тем самым и к сеансам считывания вилок и ложек, с которых начали это затянувшееся рассуждение. «Оптическое» и «тактильное» – это два существующих одновременно (для нас) объекта, две модальности восприятия одной и той же материальности: в качестве памятника и в качестве вещи. В первом случае, как памятник, артефакт оказывается «граммой», в значение которой входит не только определение предмета, но и указание на его место в системе вещей, на модель, действием которой вещь включилась в эту систему и стала памятником. Во втором случае, в отношениях тактильности, вещь такой «граммы» не имеет, в систему не входит и никакой моделью не порождается. Она существует только как предмет единственный в своем роде, как нечто такое, на что можно только указать пальцем или потрогать – пальцем, глазом, слухом, – но чем нельзя оперировать как средством. Такова, например, вещь в коллекции кузена Понса: он обладает своей чудесной находкой в убеждении, что другой такой вещи нет на всем белом свете. Не имея себе подобной, такая вещь не несет сигнификативной функции и порождающей модели, она несет в себе только дифференцирующий потенциал, потому что другой такой нет. Понс относится к вещи как к личности горячо любимого, единственного на свете человека.
Предложенное Риглем различие между отдаленным и близким, между оптическим и тактильным отчасти соответствует принципу двойной артикуляции в языке: сочетание в знаке одновременно сигнификативной и дифференцирующей силы. Язык, не имеющий такого двойного членения, то есть не имеющий «грамм» и соответствующего порядка и основанный лишь на дифференциации своих референтов, трудно найти в реальности, но можно представить с семиотической точки зрения: такой язык будет состоять только из индексальных знаков, а мир, соответствующий такому языку, будет состоять только из вещей, единственных в своем роде, таких, для идентификации которых можно только молчаливо указать на них пальцем, но нельзя дать описания признаков[128]128
Проект такого языка предлагает профессор в ученом обществе острова Лапута у Свифта: так как «…слова суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний».
[Закрыть]. Такой идеальный язык чистого дейксиса невозможен практически, но доступен мышлению логическому (или сатирическому, как у Свифта), мистическому откровению и поэтическому желанию. Таков, в частности, и поэтический (или мистический) язык имен, который представлял себе Вальтер Беньямин, предлагая свою теорию языка-как-такового. В таком языке каждое имя образовывалось бы миметически как имя собственное, применительно только к этому референту и ни к какому другому. Весь язык превратился бы в огромную ономатопею, не абстрагируя и группируя признаки обозначаемого, но как бы в игре подобия воспроизводя мир в его существе. Именно таков язык творения; в нем все существа, одушевленные и неодушевленные, обозначены именами личными, а не условными названиями по конвенции: такими именами – даже не наименованиями, а именованиями, обращениями по имени – нарекает разных тварей Адам в раю[129]129
Беньямин В. О языке вообще и о человеческом языке // Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 7–26.
[Закрыть].
Именно такова квинтэссенция поэтического обращения к миру. Не существуя в реальности коммуникации, такой идеальный язык-ономатопея составляет горизонт поэтического опыта. В нем мир предстает сообществом суверенных, единственных-в-своем-роде сущностей, которые поэтическая интенция освобождает от отчуждения и предоставляет свободе быть собой. Обкатанный морем камешек – «это не такая вещь, которой легко найти определение»; «безмолвный мир есть наша единственная родина», – утверждает Франсис Понж, выражая подобную беньяминовской точку зрения «со стороны вещей»[130]130
Ponge F. The Voice of Things. Р. 108–110. «…Поэзия, посредством которой мир вторгается в дух человека, так что человек почти теряет дар речи, а затем изобретает язык заново. Поэтов ни в коем случае не должны заботить отношения между людьми; поэты должны проникать до самого дна. Более того, общество следит за тем, чтобы поэты помещались именно там, и там их держит сама любовь к вещам; поэты – посланники в мире безмолвия. Поэтому они заикаются, они бормочут, они тонут во тьме логоса – пока не достигнут уровня корней, где вещи и формулы едины» (Ibid. Р. 109–110).
[Закрыть]. Без дополнительных грамматических, модальных, оценочных и прочих значений, указывающих на то, что вещь включена в какие-то внешние по отношению к ее сущности порядки, такой предмет покоится в своей вещности как в не нарушаемой ничем, высшей суверенности, которую являет в своем молчании бессловесный, бесформенный и бесполезный булыжник у Хайдеггера. Выстроенная им иерархия «булыжник – приспособление – произведение искусства» теряет линейность и замыкается в кольцо.
Молчит, покоясь в своей самодостаточности, не только «просто вещь», но и бесценная ценность коллекционера: спрятанный от злых глаз и рук, доступный лишь воображению и влюбленному взгляду подлинник, объект бескорыстной страсти и самозабвенного служения вещи в ее способности быть только собой и довлеть только себе. Молчит и старая вещь в руках реставратора, терпеливо перенося одну за другой попытки реставрации, дереставрации и новой реставрации в усилиях заставить ее говорить.
О тщете реставрацииИсторик искусства Мартин Кемп, ведущий специалист по Леонардо, в автобиографических очерках описывает взгляд историка искусства, рассматривающего произведение в состоянии реставрации – или, вернее, жест его зрения, технику ви́дения. При первом свидании юного Кемпа с «Тайной вечерей» эти два жеста – обобщающий взгляд издалека, с противоположной стены старинной трапезной, и детализирующий взгляд в упор на поверхность живописи, – соединяясь, производят впечатление гнетущее.
Находиться в реальном присутствии изображения, превзошедшем время и пространство, уже само по себе было знаменательно, но сама фреска никак не вызывала трепета. Я знал, что меня ждет нечто особенное, когда я увижу Леонардо в реальном пространстве длинного прямоугольного зала, в котором некогда обедали монахи, часто в обществе герцога Лодовико. Но было трудно избавиться от навязанного образа мегашедевра и еще труднее не замечать, насколько разрушена живопись. Живописная поверхность была шершава, как шкура аллигатора, и вся состояла, как лоскутное одеяло, из темных пятен и фрагментов поблекшего цвета вперемежку с голой штукатуркой. У противоположной стены трапезной стояли скамьи с высокими спинками, чтобы усталому туристу было где присесть, но в этом мрачном месте они не улучшали настроения[131]131
Kemp M. Living with Leonardo: Fifty Years of Sanity and Insanity in the Art World and Beyond. London: Thames & Hudson, 2018. Р. 36–37.
[Закрыть].
Впоследствии выясняется, что «реальное присутствие» Леонардо на этом неудачном первом свидании было на самом деле присутствием результата послевоенной реставрации под руководством известнейшего мастера. Уже десятилетие спустя после завершения она была признана несостоятельной и технически, и эстетически как пример грубого вмешательства, хотя в свое время представлялась вполне научным и эстетически правильным проектом. Второе свидание Кемпа с Леонардо приходится на начальный период новой реставрации в конце 1970-х, возглавляемой ученицей прежнего мастера, значительная часть усилий которой направляется на то, чтобы минимизировать вред, причиненный реставрацией учителя. Это свидание повергает Кемпа в еще более глубокую печаль; поверхность живописи вблизи производит еще более гнетущее впечатление: «Я не мог ни с кем разговаривать. Это было ужасное мгновение»[132]132
Ibid. P. 58.
[Закрыть].
Что видит специалист-историк, сидя на скамье у противоположной стены и разглядывая живопись? Это целый театр событий, чувств и жестов; сам Леонардо назвал это зрелище il concetto dell’ anima:
Поразившее слушателей ужасом предсказание Христа о скором предательстве кого-то из учеников страшным ударом отзывается в общем чувстве каждого из них ‹…› бурное смятение Петра, изображенного слева с ножом в руке, которым он отрежет ухо у солдата при аресте Христа; чуть сонный вид младшего возлюбленного ученика Иоанна, который пытается побороть дрему. Иуда откинулся назад, в предчувствии напрягшись всем телом. Справа от безмятежного Христа апостол Фома воздел палец, которым он будет пробовать раны Христа после Его Воскресения; апостол Филипп прижимает руки к груди, вопрошая: «Не я ли, Равви?»; апостол Иаков-старший в тревоге широко разводит руками, глядя на пророческие хлеб и вино[133]133
Ibid. P. 43–46.
[Закрыть].
Что же видит он на той же поверхности, стоя рядом с реставратором, молодой женщиной, похожей на санитарку в белом халате, с микроскопом и со скальпелем в руке, которым она приподнимает струпья засохшей краски?
Мелкие фрагменты красочного слоя, распадающиеся наподобие рассыпанной мозаики, часто в обрамлении белого грунта. Фрагментов голой штукатурки было больше, чем можно было заключить, глядя на репродукции. ‹…› При ближайшем рассмотрении единственное, что бросалось в глаза, были следы опустошения от распада. Невозможно было представить себе, что все это в целом когда-нибудь обретет хоть какую-то связность. Осмотрев живопись вблизи, я получил какое-то представление об археологии разрушенных слоев краски и грунта. Я ушел, как только понял, что больше уже ничего не узнаю. […Это было] как будто я стал свидетелем публичной казни[134]134
Ibid. P. 58.
[Закрыть].
А вот как описывает свой опыт сама реставратор – руководитель проекта, который наблюдал Кемп; она упоминает те самые операции, за которые ее потом будут возносить до небес и/или подвергать уничтожающей публичной критике (как это сделала в своем анализе ArtWatch):
Вот перед нами поверхность, полностью разрушенная, распадающаяся на мельчайшие чешуйки краски, которые осыпаются со стены. Каждую из этих чешуек надо шесть-семь раз очистить скальпелем под микроскопом ‹…› Бывает так, что у меня весь день уходит на расчистку небольшого участка, но закончить не могу, потому что растворитель, высыхая, вытягивает из-под поверхности все новую копоть. Иногда приходится расчищать один и тот же участок два раза, а иногда три или четыре. Верхний срез красочного слоя пропитан клеем. Средний заполнен воском. Использовано шесть различных составов штукатурки и несколько сортов политур, лака и смол. Реагенты, которые действуют в верхнем слое, не берут средний слой. То, что действует в середине, не действует на нижнем слое[135]135
Цит. по: Kemp M. Living with Leonardo. Р. 61–62.
[Закрыть].
Результат, подытоживает Мартин Кемп, – это «Тайная вечеря» «совместного авторства Леонардо и Брамбиллы (руководителя реставрации)»: «наименее плохой» из всего возможного. (ArtWatch, наоборот, считает, что хуже быть не может, что есть не только результат агрессивной стратегии реставрации, но и коррупции всей индустрии великих шедевров и памятников культуры, реставрационные кампании которых обычно оплачивают крупные медиакорпорации – в данном случае Sony, – которые используют их для рекламы собственной продукции[136]136
Beck J., Daley M. Art Restoration, the Culture, the Business and the Scandal. W. W. Norton, 1995. P. xx.
[Закрыть].)
Возвращаясь к трем примерам практической памяти, с которых я начала эти рассуждения, – к чашке/вилке с их «полем», в котором записана память о разводе родителей и о блокаде Ленинграда; к альбому фотографий, оцифрованному и откурированному в качестве культурного наследия и выброшенному после этого на помойку; к многострадальной древней Пальмире, взорванной террористами и ожидающей превращения в новодел силами специалистов государственного Эрмитажа, – вспомним, что речь шла о наличии как бы двух тел у каждого из этих артефактов: одного, позволяющего производить над собой самые разнообразные операции наименования, определения, атрибуции, толкования и – что важно – оценивания, и другого – бессловесного, которое как будто остается в безмолвном остатке после вычитания первого, красноречивого, репрезентативного и ценного; это тело вещи, не имеющей транзитивности, не служащей поэтому объектом и не создающей субъектности, и потому являющей себя как нечто не имеющее ни идентичности, ни функции, ни формы; не несущей в себе ни урока, ни послания, подобно булыжнику на дороге. Это последнее, однако, и есть тело присутствия – в отличие от первого, от тела явления, которое так легко превращается в исторический или художественный памятник, в объект любования и поклонения, в предмет «современного культа памятника» (Алоиз Ригль) и во многое-многое иное.
Считывая прошлое с тела объекта, субъект читает самого себя. «Патримониальным синдромом» называет этот эффект историк архитектуры Франсуаза Шоэ – проявлением нарциссизма, характерного для века электронных коммуникаций и цифровых технологий, «простетической революции»[137]137
О патримониальном синдроме: Choay F. The Invention of the Historical Monument / Trans. L. M. O’Connell. Cambridge, UK: Cambridge UP, 1999. Ch. 6.
[Закрыть]. Последняя освобождает субъекта от опыта органического времени и пространства. Имаго, в котором субъект как бы узнает истину о себе, глядя в «патримониальное зеркало» (например, считывая старую семейную вилку), является иллюзией и в клиническом, и в критическом смысле.
Вещь при этом остается строго сама собой – и молчит.