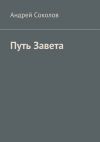Читать книгу "Past discontinuous. Фрагменты реставрации"

Автор книги: Ирина Сандомирская
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
2. Формы записи и перезаписи прошлого. Памятник, исторический памятник, наследие (достопримечательность)
О записи для памятиПо контрасту с молчанием «просто вещи», аллегории прошлого, воплощенные в вещи исторической – в памятнике в широком смысле слова, – оставляют впечатление оглушительной болтовни. Как социальные конденсаторы, памятники, собственно, и организуют, и направляют эту «болтовню»: научные, популярные, художественные дискурсы со своими аллегориями и институциями, коллективными ритуалами, объектами и практиками, аффектами и фигурами воображения, – преувеличенным коллективным переживанием прошлого, «патримонимальным синдромом». Одновременно, представляя собой ту точку, вокруг которой все это концентрируется и приходит в движение, памятник и сам является всего лишь продуктом этого движения: вне своего диспозитива памятник не имеет собственного значения.
Тогда как «просто вещь» молчит – в своем «втором теле», в качестве памятника, вещь болтает, рассказывая нам, за что ее следует ценить, о чем мы должны в ее лице помнить и как культивировать. Если документ содержит в себе прямые доказательства и свидетельства прошлого, то памятник представляет собой аллегорию исторического воображения современности, воплощенную в той или иной материальной форме: реликвию, редкость, древность и пр. Памятник в этом смысле – не монумент на площади (воздвигнутый в честь кого-то/чего-то), но ценная старая вещь – рукопись, археологическая находка, произведение искусства – которая хранится в академической, художественной, музейной или иной коллекции[138]138
О преднамеренных («воздвигнутых») и непреднамеренных памятниках, то есть вещах, превратившихся в памятники или ставшие ими, в категориях анализа современного культа памятника у Алоиза Ригля см. ниже, в главе 4.
[Закрыть]. Это вещь, которая в самой своей материальности хранит время – и которая одновременно служит аллегорией времени для современности. Памятник – предмет сложной историчности. Как материальный носитель, он принадлежит тому времени, которое оставило на нем отпечаток; как объект интерпретации – тому времени, которое его обнаружило и возвело в разряд памятников. Однако самый спорный и интересный аспект историчности – это ее, этой вещи, durée: время длительности ее существования между истоком и современностью, время бесконечных трансформаций ее, этой вещи, материального и символического бытия, ее функций и ценности, которые, несомненно, менялись бесчисленно много раз, каждый раз оставляя бесчисленные материальные следы, которые отпечатывались на артефакте, возникая и под действием времени, и от рук человека. Этот третий модус времени – время длительности бесконечных изменений – со всей очевидностью предстает в реставрации[139]139
О трех модусах темпоральности в объекте реставрации: «Один – это „акт творения“, место и время, когда художник создал произведение искусства. Второй – момент его существования в индивидуальном сознании (восприятия)… [Третий – это] Промежуток между временем создания произведения и историческим настоящим временем (который все время движется вперед и состоит из многочисленных моментов „исторического настоящего“, которые превратились в прошлое). Возможно, что произведение искусства сохраняет следы таких переходов» (Brandi C. Theory of Restoration. Rome: Instituto centrale per il restauro, 2005. P. 49).
[Закрыть]. В свете генеалогии и в форме документа, как и в свете археологии и в форме памятника, вещь рассматривается в качестве носителя стабильной идентичности; трансформации и мутации идентичности объясняются «шумом» искажений и неквалифицированных вмешательств, и этот «шум» надо удалить, для того чтобы расслышать голос оригинала, сделать подлинное – видимым. Реставрация имеет дело с вещью в ее исторических изменениях как work in progress, в составе которой материальные и символические трансформации отложились едва ли не как геологические пласты в породе, в форме гетерохронии, многоукладной экономики или экологии времени[140]140
Как утверждает звездный архитектор Рем Колхас, охрана городской среды (preservation) сегодня торжествует над архитектурой, покончила с традицией звездной архитектуры и вообще с культом готовых форм в организации городского и музейного пространства. Здесь больше нет оппозиции старого и нового, красивой и некрасивой формы: «презервация» сама создает новые моменты релевантности, не создавая при этом новых форм; она составляет ныне «бесформенный субститут архитектуры» (Koolhaas R., Otero-Pailos J. Preservation is overtaking us. New York: GSAPP Books, 2014. URL: https://www.arch.columbia.edu/books/reader/6-preservation-is-overtaking-us#reader-anchor-0). Это отчасти сказывается и на том, какое место занимает реставрация в такой (анти)системе охраны памятников: она как будто теряет интерес к крайним полюсам времени – к возрождению истока (в «начале») и в сотворении целостности (сейчас) – и обращается вместо этого к биографии вещей, к протяженности во времени их социальной, экономической и аффективной жизни. Серия проектов художника, реставратора и архитектора Хорхе Отеро-Пайлоса «Этика пыли» имеет целью сделать видимым как раз это третье время durée, того промежутка жизни произведения, который заключен между значимыми для реставрации и мемориализации моментами: «первоначала», то есть истока, и текущей современности, то есть времени интерпретации. Отеро-Пайлос выбирает историческую локацию или художественный объект и «осторожно переносит на латекс вместе с отпечатками накопившиеся на поверхности продукты загрязнений из окружающей среды. Эти работы служат художественным выражением самого феномена загрязнения и одновременно научными документальными свидетельствами загрязнения среды в данном месте; они имеют также историографическую ценность, заявляя о том, что загрязнение среды должно стать частью истории искусства, архитектуры и охраны памятников» (Otero-Pailos J. The Ethics of Dust: Carthago Nova // Architectural Theory Review. 2015. № 20 (1). Р. 115–121). См. также другие проекты Отеро-Пайлоса из этой же серии: http://www.oteropailos.com/the-ethics-of-dust-series. О «вещности» и антиценности грязи, мусора, отбросов в качестве категорий переживания времени: Viney W. Waste: A Philosophy of Things. London etc.: Bloomsbury, 2014, особенно о руинах: p. 125.
[Закрыть]. Хотя на практике реставрация, как мы увидим ниже, идет на поводу у того или иного принятого стиля присвоения прошлого, того или иного модуса патримониального воображения своего времени. Реставрация – дитя своего времени. Но непосредственной реальностью, в которой оперирует реставратор, является именно гетерохроническое напластование слоев прошлого. В силу этого реставрация содержит в себе мощный критический потенциал, на практике отрицая саму идею непрерывного времени и гомогенной идентичности как заведомо мифическую[141]141
Понимание заведомой невозможности такой неизменяемой самоидентичности старых вещей отражается в том, как современная консервация формулирует проблему аутентичности: the authentic is not the real. Если речь идет об авторском произведении, то это «место значимости в многофакторном поле ассоциаций… Произведение является истинным и надежным [в плане нашего суждения], если в своей форме и материале оно транслирует зрителю намерение своего автора в его интеллектуальном и историческом контексте». В практической консервации речь может идти о степенях аутентичности и о ее разновидностях – «аутентичностях» во множественном числе; о том, что совершенно разные понятия «аутентичностей» возникают в зависимости от разных задач, с которыми предпринимается реставрация или консервация – то ли сохранение оригинального материала, то ли предъявление самой истории трансформации и эволюции произведения, то ли уважение зрительского восприятия и духовной ценности произведения, которые требуют ясного понимания смысла изображения (Art, Conservation Authenticities: Material, Concept, Context / Eds. E. Hermens, T. Fiske. London: Archetype, 2009. P. 3–33; Muñoz Viñas S. On the Ethics of Cultural Heritage Conservation. London: Archetype, 2020. P. 17–30). Еще о подлинности и ее администрировании – см. главу 9 о воссоздании дворца в Царском Селе.
[Закрыть]. Реставрация подвергается и справедливой, и несправедливой критике за то, что проявляет политическую и коммерческую сервильность по отношению к режиму историчности и к доминирующему состоянию коллективного исторического воображения. Однако имея в своем распоряжении ключ к реальной гетерохронии в составе времени, именно она обладает и ключом к исторической критике режима историчности, ключом к истории самого процесса историзации объекта, к самой динамике этого гетерохронического, анахронического и полного скачков процесса и к многоукладной темпоральности исторически значимых вещей.
Реликвия в собрании ученого монаха в монастыре шестнадцатого века; древний свиток в коллекции эрудита-академика в семнадцатом столетии; фрагмент греческой колонны или римской гробницы с инскрипцией в собрании антиквара-археолога в восемнадцатом или древняя рукопись в руках филолога в девятнадцатом – все это, как и многое другое, суть артефакты, которые приобретают характер памятников того или иного рода в зависимости от диспозитива, где они становятся объектами: хранения, изучения, любования, охраны, а затем, ближе к нашему времени – и законодательства, государственного регулирования в качестве исторических памятников и национального культурного наследия[142]142
Momigliano A. Ancient History and the Antiquarian // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1950. Vol 13. № 3/4. Р. 285–315, в русском переводе в сб. «Науки о человеке: история дисциплин ВШЭ» (2015; приложение); Poulot D. Naissance du monument historique // Revue d’ histoire moderne et contemporaine. 1985. T. 32. № 3. Histoire et historiens. Р. 418–450. URL: https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1985_num_32_3_1326; Choay F. Invention of historical monument…; Кантор-Казовская Л. Современность древности: Пиранези и Рим. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
[Закрыть].
Зачем мы охраняем и сохраняем вещи? Зачем нам памятники и что это такое? Памятники, утверждает Фрейд в «Лекциях о психоанализе», – это символы воспоминаний, точно такие же, как истерические симптомы невротика. Больного мучают отношения с символами, а не с самими вещами; идентичность определяется отношениями с ее символами, так же, как и кризис идентичности, который наступает в результате утраты символов. В обществе, фиксированном на коммеморативности, образуется «патримониальный синдром». В отличие от «просто вещи», которая молчит, памятник болтлив: он хранит в себе и транслирует дискурс. Как материальная форма, в которой фиксируется присвоенное нами прошлое, памятник записывает в своей телесности и сам жест этого присвоения. Памятник призван аллегорически выражать линейность исторического времени и непрерывного хода истории: от «них» – до «нас», от «древних» – к «новым». Однако по своей символической конституции памятник скорее ближе к мифограмме – многомерной и мультимедиальной структуре записи, открытой Андре Леруа-Гураном, антропологом и палеонтологом, который теоретизировал доисторические формы материальности и формы письма и их трансформации в мире технической цивилизации. В принципе доисторической мифограммы Леруа-Гуран видел прототип любой технологии записи, в том числе и такую форму письма, как памятники – «символы воспоминаний» по Фрейду, то есть материальные объекты, в которых кодируется и сохраняется память прошлого[143]143
О мифограмме как ранней форме графизма и о линейности на поздней стадии эволюции письма: Leroi-Ghouran A. Gesture and Speech. Р. 187–218.
[Закрыть].
За полтысячелетия своего господства линейное письмо приучило нас к мысли о линейности времени. Однако, утверждает Леруа-Гуран, в своем истоке письмо было многомерным, и в передаче работы воображения, например в современном искусстве, в поэзии и литературе, оно остается таким и сейчас. В доисторических пещерах изображения животных сопровождаются отпечатками ладоней со странно укороченными, как будто ампутированными фалангами разных пальцев. Леруа-Гуран высказал предположение, что смысл в том, что изображение животного – предмета охоты – сопровождается изображениями жестов, которыми охотники обмениваются, заманивая зверя в западню. Мифограмма – это такой способ представления объекта, который сочетает в себе его репрезентацию с инструкцией, с изложением способа, которым он получен как объект[144]144
Leroi-Ghouran A. The Hands of Gargas: Toward a General Study // October. 1986. Vol. 37. Р. 18–34.
[Закрыть]. В этом смысле объект «памятник» тоже мифограмматичен: он содержит в себе (видимый) образ прошлого и (невидимую) инскрипцию, не просто репрезентируя прошлое в качестве семиофора (по Помяну), но содержа в своей «невидимой» части некое руководство по производству исторического смысла в данной материальной форме; прошлое в mode d’ emploi для удобства сегодняшнего использования. Памятник репрезентирует некоторое событие прошлого, но одновременно репрезентирует и собственную «памятниковость», то есть ценность самого себя в качестве символа прошлого, в качестве именно той инстанции, в отношение с которой входит субъект, подобно тому, как пациент Фрейда выясняет отношения со своим симптомом, который является символом воспоминания.
В гетерохронной истории памятника – изобретения европейской цивилизации и культурной истории европейского нового времени – сломы и разломы носили драматический характер, например когда наметился исторический конфликт интерпретаций между памятником – фрагментом древнего мира в системе ценностей антиквара и памятником – репрезентантом истории цивилизации у систематика-энциклопедиста, который видел себя стоящим «на выходе из варварства» и «детства человечества», где застрял антиквар, погруженный в созерцание руин и фрагментов[145]145
«Человеческий разум, по выходе из варварства, как бы переживал состояние детства, начал жадно накоплять идеи, но был, однако, не способен приобретать их в известном порядке… Отсюда эта масса эрудитов…» (Д’ Аламбер, цит. по: Кантор-Казовская Л. С. 15).
[Закрыть]. Однако еще более драматическими трансформациями отмечен этап, на котором «памятник» академиков, эрудитов, просветителей преобразился в «исторический памятник» – в объект исторического позитивизма XIX века и, тем самым, в мифограмму с еще более сложной семантикой, с еще более широким, размытым аллегоризмом.
Если памятник в смысле интересов антиквара – это «найденный объект», помещенный для любования в кабинет редкостей, то исторический памятник имеет историческое же и политическое происхождение. Во Франции исторические памятники возникли из вещей, обобществленных революцией, в результате массового насилия против монастырей и аристократических домов и реквизиций собственности эмигрантов. Художественными памятниками примерно в то же время стали называть объекты культа, отчужденные от церкви, когда церковь отделилась от государства. Исторический/художественный памятник – показатель динамических социальных и политических процессов модернизации. В результате революционного насилия эти вещи в мгновение ока стали «ничьими» и впоследствии, уже силами Реставрации, были каталогизированы, систематизированы и заключены в музейные коллекции в качестве единиц материальной и исторической ценности в составе «отечественного наследия» (фр. patrimoine).
Памятники – объекты антикварного интереса, такие как рукопись, инскрипция на осколке античного мрамора, руина храма, гробница – были конкретными вещами или конкретными фрагментами конкретных вещей. Но что такое это собирательно-абстрактное patrimoine, из чего оно сделано и из чего состоит? Уже историческая семантика этого существительного, как и его эквивалентов – англ. heritage, нем. Erbe, рус. наследие – озадачивает, поскольку имеет референтом размытое множество не то вещей, не то установок и отношений; множество, которое с каждым днем, с каждым оборотом глобального патримониального дискурса все более размывается, охватывает собой как вещи, так и невещи – квазивещи, или так называемое духовное (intangible) наследие, общими для которых являются крайне туманная генеалогия и произвольность в мотивации ценности[146]146
Swenson A. Patrimoine: voyage des mots. Heritage, Erbe, Beni Culturali, Turath, Tigemmi // Architecture et patrimoine. 2015. № 21–22. Р. 10–23; Idem. «Heritage», «Patrimoine» und «Kulturerbe»: Eine vergleichende historische Semantik // Praedikat «Heritage»: Wertschöpfung aus kulturellen Ressourcen / Hg. von D. Hemme, M. Tauschek, R. Bendix. Muenster: LIT Verlag, 2007. P. 53–74. Там же – обширная библиография по исторической семантике и концептуальному анализу терминов охраны культурного наследия на Западе.
[Закрыть].
Исторический памятник – объект как раз такого размытого множества, когда вместо того, чтобы служить местом материальных инскрипций, оставленных рукой человека или действием времени, артефакт становится аллегорией для репрезентации духа прошедшего времени, то ли воображаемого, то ли реконструированного на основе систематического принципа. Во Франции периода Реставрации это преображение памятника в исторический памятник имело наиболее выраженные признаки. Там заслуга институционализации исторических памятников принадлежала историку Франсуа Гизо, основателю государственной системы охраны исторических памятников[147]147
Poulot D. The Birth of Heritage: «le Moment Guizot» // Oxford Art Journal. 1988. Vol. 11. № 2. Р. 40–56.
[Закрыть]. Пока не возникла бюрократическая и институциональная машина охраны как признака «цивилизации» и «выхода из варварства», не было и «исторического памятника».
По следам революционного насилия и последующего режима реставрации произошла и решающая метаморфоза в семантике patrimoine. Из средневекового юридического понятия и термина, обозначавшего передачу имущественных прав внутри семьи или рода, то есть от отца – сыну, patrimoine стало обозначать символическое право всех граждан отечества на обладание символами патриотической гордости. Корень patri- в традиционном значении патримония означал отца, pater; в революционной этимологии «отец» превратился в «отечество», la Patrie, а patrimoine стало эвфемизмом «имущества Отечества», которое физически состояло из предметов бесхозяйных, из «собственности без собственников», поскольку собственники или были казнены, или бежали. Так в результате революционного насилия и массовой деструкции из объекта традиционного права «собственность без собственников» превратилась в предмет бюрократического госуправления и украсилась фразеологией «национального достояния», «исторической ценности», «коллективной памяти» и пр. Общество нового времени не имеет традиции, нестабильно и неустойчиво в своих основаниях и потому требует подтверждения в собственных глазах и в глазах других, чему служат и социальные конструкты – исторические памятники, национальное наследие. Драматическая история образования наследия и исторического памятника – объекта государственной охраны – из собственности, перераспределенной в результате неограниченного насилия, впоследствии повторилась и в отношении наследия в революционной России, за чем последовала подобная французской Реставрации сталинская эпоха возвращения истории под лозунгами «наследства», а затем и умеренная консумеризация прошлого в форме «духовного наследия» при позднем социализме[148]148
Более подробно см. в главах 10 и 11.
[Закрыть].
Как и русская революция столетие с лишним спустя, Французская революция принесла с собой колоссальные разрушения культурной собственности, после чего ознаменовалась пионерскими экспериментами под лозунгами спасения сокровищ от разрушений, ею же самой и санкционированных. Французские революционеры не руководствовались желанием просто компенсировать ущерб от собственного иконоклазма, как это было после гражданской войны в Англии, где пострадали, а потом долго восстанавливались средневековые церкви. Новым явилось не то, что иконоклазм обратился в свою противоположность, а то, что разрушения и национализация собственности эмигрантов и врагов народа привели к революционному решению – изобретению национального наследия, а в дальнейшем и системы его охраны, и системы воспитания гражданских ценностей, основанных на ответственности граждан в условиях общественной собственности на памятники истории[149]149
Poulot D. The Birth of Heritage.
[Закрыть]. Тройная перспектива прежних антиквариев по отношению к вещи – исторического знания, эстетического любования и консервации (каталоги, альбомы, реставрация, кабинеты древностей) – спроецировалась на область институтов, идеологий и практик под общими патриотическими знаменами и лозунгами гуманизма, знания и прогресса[150]150
О структуре значения исторического памятника, о функциях и организации системы охраны исторических памятников, включая реставрацию, и об инфраструктуре консервации, в том числе в аспекте законодательства и с точки зрения отдельно интересующей меня проблемы реставрации: Choay F. The Invention of Historical Monument… Р. 63–76.
[Закрыть].
Превращение «памятника» в «исторический памятник» обозначило собой даже не просто «выход из варварства», а переход через Рубикон[151]151
Poulot D. The Birth of Heritage..
[Закрыть]. Поставив традиционное прошлое – укорененное в семейном праве и семейной экономике, стабильное прошлое – в условия полного исчезновения, послереволюционная эпоха индустриализации одновременно строила бюрократическую систему, институции и технологии охраны прошлого от собственных разрушительных сил, учреждала государственные органы и общественные функции и переформулировала классическую древность, а затем и средневековую старину в терминах исторических эпох, стилей и жанров для воспроизведения и подражания. Материализовавшись в форме исторического памятника, это новое прошлое приобрело политическое значение, объединяя в заботе об охране и спасении как государство, так и все общество; институты и практики отечественного наследия, так же как патримониальные эмоции, воображение и ритуалы, сопрягаются в едином диспозитиве культурно-исторического наследия как способа присвоения прошлого в форме аллегорически репрезентирующих генеалогию нашего «сегодня», но в своем материальном составе хранящих потенциально подрывающие генеалогию археологические следы.
Исторический памятник репрезентирует старину таким образом, что разрыв с прошлым и его утрата оказываются очевидными и неизбежными. В этом смысле нет более красноречивого символа модерности, чем исторический памятник, который ставит точку на прошлом, считая прошлое безвозвратно ушедшим, а современность – технически и интеллектуально вооруженной для его, прошлого, совершенствования в форме воспроизведения.
Став предметом государственной и общественной заботы, исторический памятник принял на себя дополнительные функции, выражающие имперскую идеологию. Европейские империи использовали исторические памятники в качестве инструментов внешней и внутренней политики; нарождающееся гражданское общество – в качестве знаков присутствия со своими повестками в публичной сфере; превращению в символ современности способствует и утрата историческим памятником когнитивной функции в эпоху исторического факта и исторического документа. Исторический памятник со своим государственным и общественным культом становится отличительным признаком «долгого» XIX века, символом гуманистических культуроохранительных интенций просвещенных режимов – и предзнаменованием катастрофы Европы в последующих мировых войнах.
Однако и «век памятника» заканчивается, сменяясь «веком наследия», который можно считать наступающим в послевоенные 60-е годы прошлого столетия, одновременно с возникновением общества потребления и спектакля. С развитием туризма, глобального транспорта, электронных коммуникаций и цифровых форматов «культ» уходит в прошлое, уступая место «индустрии», а наследие как таковое покидает область национальных официальных идеологических символов и становится ареной активистских гражданских движений. Если исторический памятник знаменовал собой достоинство нации, то наследие репрезентирует на локальном уровне, представляя коллективную память и идентичность того или иного меньшинства, или, наоборот, в глобальном, над– и транснациональном масштабе, в качестве мирового культурного наследия. При этом по мере дальнейшей демократизации культурного наследия, постепенной отмены евроцентристских принципов ценности и аутентичности (так, как они выразили себя, в частности и в неразрешимых противоречиях парадокса о корабле Тезея); по мере включения в индустрию туризма и в соревнование культур по репрезентации своей исторической памяти в символах наследия возрастает фрагментированность этого поля патримониального культа и коллективного нарциссизма, объединенного общими патримониальными эмоциями. Культы и эмоции сосредоточиваются на отдельных предметах, возводя вокруг них историзирующие и эстетизирующие дискурсы и практики, подобно тому как антикварские желания и эмоции, а также стремление обрести вновь некогда якобы утраченные «корни» как будто возвращают нас обратно в эпоху эрудитов, коллекционеров и дилетантов эпохи Возрождения и барокко. На смену (систематической) истории и после ее, истории, громогласно объявленного конца является культурное наследие с собственными формами времени и пространства, анахроническое, анатопическое, состоящее из взаимных наложений и множественных складок время-пространство эпохи культурного наследия[152]152
См. уже упоминавшийся выше сборник работ под редакцией Даниэля Фабра, посвященных этнологии и социологии в современных практиках культурного наследия (Émotions patrimoniales / Dir. D. Fabre), и особенно большое введение самого Фабра, руководителя всего проекта: Le patrimoine porté par l’ émotion. Р. 13–98 (https://books.openedition.org/editionsmsh/3585). Фабр пишет об анахроническом времени культурного наследия, «сложной темпоральности, состоящей из изобретений и повторных воспроизведений (relectures), развертываний и складок».
[Закрыть].
Одновременно с таким возвращением памятника в популярной культуре наблюдается и смешение прежде четко ограниченных областей «памятника» и «документа». Еще Жак Ле Гофф, основатель исторической «школы наследия», то есть метода использования памятников культуры в качестве источника исторических данных, писал о том, как в современном историческом знании утрачивается различие между памятником с его функцией «напоминания» и документом, задача которого, даже исходя из этимологии, состоит в том, чтобы научать и поучать (лат. docere)[153]153
Cerasini R. The Difference between «Document» and «Monument» // Cerasini R. Literature as Document: Generic Boundaries in 1930s Western Literature. Brill, 2019. Р. 15–27.
[Закрыть]. Эти две инстанции, две модальности, в которых нам дается прошлое, начинают контаминировать друг с другом: так, памятник – изначально объект почитания – оказывается источником для исторического суждения, и наоборот: историк начинает обращаться с документом как с памятником. Мишель Фуко связывал этот поворот с решительным эпистемологическим сдвигом, когда с появлением частных исторических дисциплин нарушилось принятое в систематической истории представление о непрерывности времени в развитии и на первый план вышли «пороги, разрывы, мутации, трансформации». Фуко пишет, что история мысли, знания, философии, литературы открывает все больше и больше разрывов во времени, тогда как история в общем смысле, наоборот, все больше описывает стабильные структуры. Параллельно этому документ перестает быть средством для восстановления некоего целого: исторической эпохи, явления или события. Он все больше приобретает свойства хрупкого следа, который надо не просто читать на предмет получения данных, но расшифровывать с учетом его собственной истории, конституции, материальности; это документ, превратившийся в памятник, чтобы сообщить нечто большее, чем то, что в нем написано. Если раньше археология – «наука о немых памятниках, инертных следах, об объектах без контекста и вещах, оставшихся от прошлого» – претендовала на статус истории, то теперь, наоборот, история в ее частных направлениях претендует на статус археологии, изучая документы так, как археология раньше описывала памятники[154]154
Foucault M. Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York: Pantheon Books, 1971. Р. 5–7.
[Закрыть].
Здесь мы снова наталкиваемся на двойственность отношений, связанных с неустранимой для нас, субъектов патримониальных чувств и практик, двойной жизнью и двойной телесностью вещей. В структуре капитализма с его «патримониальным синдромом», как выразилась Шоэ, обнаруживаются два комплекса, полярных по содержанию, два фокуса одержимости, две доктрины, из которых первую можно условно назвать «доктриной светильников» (учение Джона Рёскина), а вторую – «доктриной химер» (наиболее полно сформулированной Виолле-ле-Дюком). Ниже я вернусь к этим двум общеизвестным дискурсам, поскольку вижу в них наиболее полное выражение противоречий «патримониального комплекса». Эта антиномия, возникшая в баталиях историзма позапрошлого столетия, приобретает новую релевантность и в наши дни, когда поляризация дискурсов прошлого между элементами «химер» и «светильников» воспроизводится уже в новых технологических и идеологических условиях. Я буду рассматривать первое («светильники») в качестве примера тактильного отношения к прошлому как к наследию, а второе («химеры») – как случай прошлого, присвоенного как наследство, в модусе оптической апроприации.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!