Текст книги "История свободы. Россия"
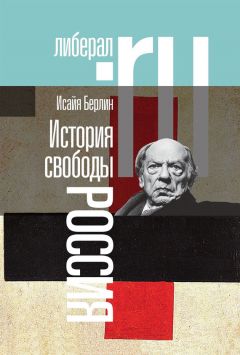
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Его художественные вкусы сформировались еще в ранней молодости, и он навсегда остался верным властителям дум той эпохи. Память о Скрябине (одно время Пастернак сам хотел быть композитором) была для него священной. Я никогда не забуду дифирамб Скрябину, услышанный мною как-то раз из уст Пастернака и Нейгауза (известный музыкант, бывший муж Зинаиды Николаевны, жены Пастернака). Скрябинская музыка сильно повлияла на них обоих. Подобное же отношение было и к художнику-символисту Врубелю, которого, наряду с Николаем Рерихом, они ценили больше всех современных им художников. Пикассо и Матисс, Брак и Боннар, Клее и Мондриан значили для них столь же мало, как Кандинский или Малевич. В некотором смысле Ахматову, Гумилева и Марину Цветаеву можно считать последними крупными голосами поэзии XIX века, последними представителями второго русского возрождения (Пастернак и, совсем иначе, Мандельштам принадлежат к какому-то промежутку между двумя столетиями), при всем том, что акмеисты хотели причислить к XIX веку символизм, а сами себя считали поэтами нового века. Модернизм, кажется, совершенно не затронул Пастернака и его друзей – речь идет об их современниках: Пикассо, Стравинском, Элиоте, Джойсе. Ими могли восхищаться, но влияния они не оказали никакого. Как и многие другие течения, модернистское движение в России было насильственно прервано по политическим причинам. Пастернак любил все русское и был готов простить своей стране все ее недостатки – все, за исключением варварства сталинского периода. Но даже это казалось ему в 1945 году тьмой, предвещавшей наступление рассвета; и он изо всей силы напрягал свой взор, стремясь различить его лучи. Эта надежда нашла свое выражение в последних главах «Доктора Живаго». Пастернак верил в то, что он был непосредственно причастен к внутренней жизни русского народа, и разделял его надежды, страхи и мечты. Пастернак считал себя голосом русского народа, как по-своему были Тютчев, Толстой, Достоевский, Чехов и Блок (к тому времени, когда мы познакомились, он не признавал никаких достоинств у Некрасова). Во время наших московских разговоров, когда я приходил к нему в гости и мы сидели одни перед полированным письменным столом, на котором не было ни книги, ни даже клочка бумаги, он постоянно возвращался к одной и той же теме – он был убежден, что близок к самому сердцу России. В то же время он настойчиво и гневно отрицал, что это можно было бы сказать и о Горьком, и о Маяковском (особенно о первом). Пастернак чувствовал, что у него есть нечто, что он должен сказать властителям России, – нечто бесконечно важное, что может сказать лишь он, и он один, хотя что именно – а он часто говорил об этом, – оставалось для меня темным и невнятным. Может быть, в этом недопонимании был виноват я – впрочем, Анна Ахматова как-то сказала мне, что она тоже не понимала Пастернака, когда на него находил этот пророческий порыв.
Именно будучи в одном из таких приподнятых настроений, он и рассказал мне о своем телефонном разговоре со Сталиным относительно ареста Мандельштама. Этот разговор стал впоследствии знаменитым, и ходило и до сих пор ходит много разных версий о нем. Я могу лишь воспроизвести эту историю в том виде, как она мне запомнилась после того, как Пастернак мне ее рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него, его жены и сына, не было никого. Он снял трубку, и голос сказал ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак предположил, что это какая-то идиотская шутка, и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова, и голос в трубке как-то убедил его, что звонок – настоящий. Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидовичем Пастернаком; Пастернак ответил утвердительно. Сталин спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам читал стихотворный пасквиль о нем, Сталине[390]390
См.: Мандельштам Надежда. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 15–16 и глава «Истоки чуда».
[Закрыть]. Пастернак ответил, что ему представляется неважным, присутствовал он или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с ней, но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказывая мне этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные метафизические рассуждения о космических поворотных пунктах в истории, о которых он хотел поговорить со Сталиным, – такая беседа должна была явиться событием огромного исторического значения. Я вполне могу себе представить, как он в таком духе говорил и со Сталиным. Так или иначе, Сталин снова спросил его, присутствовал он или нет при том, как Мандельштам читал свои стихи. Пастернак снова ответил, что самое главное – это то, что ему надо обязательно встретиться со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя откладывать и что от нее зависит все, так как они должны поговорить о самых главных вопросах – о жизни и смерти. «Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить», – сказал Сталин и положил трубку. Пастернак попытался перезвонить Сталину, но, совершенно естественно, не смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему, видно, глубокое мученье: в том виде, в каком она изложена здесь, он рассказывал ее мне, по крайней мере, дважды. Другие посетители также слышали этот рассказ из его уст, хотя, по-видимому, в несколько других версиях. Возможно, что именно попытки спасти Мандельштама, предпринятые в то время Пастернаком, и в особенности его обращение к Бухарину, сыграли свою роль в том, что Мандельштама удалось, по крайней мере на некоторое время, отстоять, – он был уничтожен не сразу, а через несколько лет, – однако Пастернак явно считал, возможно безо всякого на то основания, но, как, впрочем, считал бы на его месте любой человек, не ослепленный самодовольством или глупостью, что другой ответ, может быть, более помог бы обреченному поэту[391]391
Согласно Лидии Чуковской, Ахматова и Надежда Мандельштам считали, что в этой ситуации «он вел себя на крепкую четверку».
[Закрыть].
За этой историей последовали рассказы о других жертвах: Пильняк, испуганно ждавший («он постоянно выглядывал из окошка») человека, который должен был принести ему на подпись заявление об осуждении и обличении одного из людей, обвиненных в 1936 году в измене. Когда никто в конце концов не пришел, Пильняк понял, что он тоже обречен. Пастернак рассказывал об обстоятельствах самоубийства Цветаевой в 1941 году. Он считал, что эту трагедию можно было предотвратить, если бы только «литературные тузы» не отнеслись к ней с такой возмутительной бессердечностью. Он рассказал о человеке, который просил его подписать открытое письмо с осуждением маршала Тухачевского. Когда Пастернак отказался и объяснил пришедшему причины своего отказа, тот заплакал, сказал, что он самый благородный и святой человек из всех, кого ему доводилось когда-нибудь видеть, горячо обнял его и побежал с доносом прямо в НКВД. Затем Пастернак сказал, что, хотя Коммунистическая партия и сыграла во время войны положительную роль, и не только в России, одна мысль о возможности какого-либо соприкосновения с партией наполняла его все большим отвращением: Россия – это галера, каторжное судно, а партия – это надсмотрщики, бичующие гребцов. Хотел бы он знать, почему один дипломат из далекой английской «территории», аккредитованный тогда в Москве, которого я наверняка знаю, человек, который немного владеет русским языком, представляется как поэт и иногда заходит к нему, – почему этот господин твердит при любой подходящей или неподходящей оказии, что он, Пастернак, должен сблизиться с партией? Он совсем не нуждается в том, чтобы господа с другого конца планеты советовали ему, что делать, – могу я сказать этому субъекту, что его визиты нежелательны? Я пообещал, что скажу, но не сказал отчасти из страха повредить положению Пастернака, и без того шаткому. Этот дипломат из одной из стран британского Содружества вскоре покинул Советский Союз и, как мне рассказали его друзья, впоследствии немного изменил свои взгляды.
Пастернак упрекнул и меня: не за то, что я пытался навязать ему мои мнения по политическим или иным вопросам, но за нечто, казавшееся ему почти столь же дурным: вот мы оба в России; куда ни кинешь взгляд, повсюду отвратительно, жутко и мерзостно, – везде свинство; а между тем я кажусь положительно в экстазе ото всего этого, я брожу и гляжу на все, заявил Пастернак, зачарованными глазами. Я ничуть не лучше других иностранных гостей, ничего не желающих замечать и страдающих от абсурдных, ложных представлений, которые для несчастных туземцев просто непереносимы.
Пастернак был очень чувствителен к возможным обвинениям в том, что он старается приспособиться к партии и государству и подлаживается к их требованиям. Даже то, что он остался в живых, не давало ему покоя: он все боялся, что люди подумают, что он старался ублаготворить власти и пошел на какой-то низкий компромисс со своей совестью, чтоб его не трогали. Пастернак все время возвращался к этой теме и доходил до абсурда, пытаясь доказать, что он никак не способен на такие компромиссы, в которых ни один из людей, хоть мало-мальски знавших его, и не думал его подозревать. Как-то раз он спросил меня, читал ли я его сборник военного времени «На ранних поездах». Слышал ли я, чтобы кто-нибудь говорил об этих стихах как о попытке примириться и сблизиться с господствующим режимом? Я совершенно честно ответил ему, что никогда ничего подобного не слышал и что само предположение кажется мне полнейшим абсурдом. Анна Ахматова, связанная с Пастернаком узами самой теплой дружбы и уважения, рассказывала мне, что когда она возвращалась в Ленинград из Ташкента, куда ее в 1941 году эвакуировали, она остановилась в Москве и заехала в Переделкино. Через несколько часов после приезда она получила известие от Пастернака, что он не может видеть ее – у него температура, он в постели, это невозможно. На следующий день ей было передано то же самое. На третий же день Пастернак сам заявился к ней – выглядел он на редкость хорошо – ни малейших следов недомогания. Первое, что он спросил ее, было – читала ли она его последний сборник стихов. При этом выражение лица его было столь страдальческим, что она тактично ответила, что нет, еще не читала. У Пастернака просветлело лицо: он явно испытывал огромное облегчение, и все пошло как нельзя лучше. По-видимому, он стыдился их, и совершенно зря, потому что они встретили холодный прием у официальной критики. Наверное, эти стихи представлялись ему чем-то вроде нерешительной попытки написать гражданские стихи – жанр, к которому он питал полнейшее отвращение; тем не менее в 1945 году он продолжал надеяться на великое обновление русской жизни в результате очистительной бури, которой, в его представлении, явилась война, война, столь же страшно и ужасающе преобразительная, как и Революция, – чудовищный катаклизм, лежащий вне наших обывательски узких моральных категорий. Он полагал, что подобные гигантские перемены не подлежат нашему суду; надо постоянно думать о них, думать неустанно и непрерывно, всю жизнь, пытаясь понять и постичь их в меру наших возможностей. Они лежат по ту сторону добра и зла, приятия или неприятия, сомнения или согласия. К ним следует относиться как к стихийным переворотам, землетрясениям, внезапным приливным волнам. Это – преобразующие события, находящиеся за пределами любых исторических и моральных мерок и понятий. Подобным же образом мрачный кошмар доносов, чисток, убийств ни в чем не повинных людей, после которых разразилась ужасающая война, казался ему необходимой прелюдией к какой-то будущей неизбежной неслыханной победе духа.
После этой первой встречи я не видел Пастернака 11 лет. В 1956 году его отчуждение от политического режима, господствовавшего в его стране, было полным и бескомпромиссным. Он не мог без содрогания говорить о режиме или его представителях. К тому времени его друг Ольга Ивинская, по его словам, уже подверглась аресту, допросам, издевательствам и мучениям. Целых пять лет она уже провела в лагере. Министр государственной безопасности Абакумов сказал ей во время допроса: «А твой Борис, наверное, презирает и ненавидит нас?» – «Они были правы, – сказал мне Пастернак. – Она и не отрицала этого». Я ехал в Переделкино вместе с Нейгаузом и одним из его сыновей от Зинаиды Николаевны, его первой жены, которая потом вышла замуж за Пастернака. Нейгауз все повторял, что Пастернак – святой, человек не от мира сего; надеяться, что советские власти решатся опубликовать «Доктора Живаго», было настоящим безумием. Более вероятно, что они замучат автора романа; Пастернак – величайший писатель, которого знала Россия в течение последних десятилетий, и вот теперь власть его уничтожит, как были уничтожены многие другие; это – наследие царского режима; какие бы различия ни были между Россией старой и новой, они едины в том, что касается недоверия к писателям и их преследования. Зинаида Николаевна говорила ему, что Пастернак твердо решил где-нибудь напечатать свой роман. Он пытался его разубедить, но безуспешно. Если Пастернак будет об этом говорить со мной, смогу ли я – это страшно важно, более чем важно – это вопрос жизни и смерти, да, даже теперь кто может быть в чем-либо уверен? – так смогу ли я убедить его, чтобы он воздержался от своего предприятия? Мне показалось, что Нейгауз прав: возможно, действительно Пастернака надо было физически спасать от самого себя.
Мы прибыли к домику Пастернака. Он поджидал меня у ворот и, впустив Нейгауза внутрь, сердечно обнял меня и сказал, что многое произошло за те одиннадцать лет, что мы не виделись, – в основном ужасное. Он остановился и спросил меня: «Вы, наверное, хотите мне что-то сказать?» И я выпалил с невероятной бестактностью (если не сказать идиотством): «Борис Леонидович, я очень рад видеть вас в полном здравии. Самое замечательное – это то, что вы выжили; некоторым из нас это кажется просто чудом» (я имел в виду антисемитские преследования периода последних лет жизни Сталина). Тут его лицо помрачнело, и он посмотрел на меня с нескрываемым гневом. «Я все знаю, что вы думаете», – сказал он. «Что, Борис Леонидович?» – «Я знаю, все знаю, что у вас на уме, – ответил он срывающимся голосом (слушать его было страшно), – не виляйте, я читаю ваши мысли яснее, чем свои собственные». – «Что же у меня на уме?» – спросил я снова, огорченный и расстроенный его словами. «Вы думаете – я знаю, что вы думаете, – что я сделал что-то для них». – «Я уверяю вас, Борис Леонидович, я никогда ничего подобного не имел в виду – я не слышал, чтобы кто-либо – даже в шутку – хотя бы намекнул на это!» В конце концов он, кажется, поверил мне. Вид у него, впрочем, был самый расстроенный. Только после того, как я уверил его, что культурные люди во всем мире уважают его не только как писателя, но и как свободную и независимую личность, он начал возвращаться в свое нормальное состояние. «Во всяком случае, – сказал он, – я могу повторить вслед за Гейне, что даже если я не заслужил, чтобы меня помнили как поэта, меня, по крайней мере, будут помнить как простого солдата в рядах армии человеческой свободы».
Он повел меня в свой кабинет. Там он вручил мне толстый конверт. «Вот – моя книга, – сказал он. – В ней все. Это мое последнее слово. Пожалуйста, прочтите ее!» Я принялся читать «Доктора Живаго» сразу же после того, как вернулся от Пастернака, и закончил его уже на следующий день. В отличие от некоторых читателей романа в Советском Союзе и на Западе, книга эта показалась мне произведением гениальным. Я считал – и считаю и сейчас, – что роман передает полный спектр человеческого опыта, автор творит целый мир, пусть даже его населяет всего лишь один подлинный обитатель. Язык романа беспримерен по своей творческой силе. Встретившись с Пастернаком по прочтении романа, я почувствовал, что мне трудно сказать ему все это. Я просто спросил его, что собирается он делать с романом. Он сказал мне, что дал экземпляр книги итальянскому коммунисту, который работал в итальянской редакции советского радиовещания и в то же время состоял агентом миланского коммунистического издателя Фельтринелли. Он передал Фельтринелли всемирные авторские права на свой роман. Он хотел, чтобы роман, его завещание, это самое настоящее, самое целостное из всех его произведений, – по сравнению с романом, его поэзия – это ничто (хотя, по его мнению, стихи из романа – лучшие из всех стихов, когда-либо написанных им), – чтобы его труд распространился по всему миру и стал «глаголом жечь сердца людей».
Улучив момент, когда знаменитый рассказчик Ираклий Андроников стал развлекать общество длинным и сложным рассказом об итальянском актере Сальвини, Зинаида Николаевна увлекла меня в сторону и стала со слезами на глазах умолять, чтобы я отговорил Пастернака от его намерения напечатать «Доктора Живаго» за границей без официального разрешения. Она не хотела, чтобы пострадали дети, – я ведь могу себе представить, на что «они» способны. Эта просьба глубоко тронула меня, и при первой же возможности я заговорил с поэтом. Я сказал, что закажу микрофильмы с рукописи и попрошу, чтобы их спрятали во всех концах света – в Оксфорде, в Вальпараисо, в Тасмании, на Гаити, в Ванкувере, в Кейптауне и Японии так, что текст сможет сохраниться, даже если разразится ядерная война. Готов ли он бросить вызов советским властям, подумал ли он о последствиях?
И тут – второй раз в течение одной недели – я услышал настоящий гнев в его словах, обращенных ко мне. Он ответил мне, что мои слова, несомненно, были продиктованы самыми лучшими намерениями, что он тронут моей заботой о его безопасности и о безопасности его семьи (последнее было сказано не без иронии), но он прекрасно знает, что делает. Нет, я еще хуже, чем тот заморский дипломат, который одиннадцать лет назад пытался обратить его в коммунистическую веру. Он уже поговорил со своими сыновьями, и они готовы пострадать. Я не должен был более упоминать об этом деле – я ведь прочел книгу и, несомненно, должен понимать, что́ она – и в особенности ее широкое распространение – значит для него. Мне стало стыдно, и я ничего не возразил.
Через некоторое время, возможно, для того, чтобы разрядить атмосферу, он сказал: «Знаете, ведь мое нынешнее положение не столь уж шаткое, как можно подумать. Например, мои шекспировские переводы с успехом идут на сцене. Хотите, я расскажу занятную историю?» После этого он напомнил мне, что однажды познакомил меня с одним из самых знаменитых советских актеров – Ливановым (которого на самом деле звали, добавил он, Поливанов). Так вот, Ливанов был в восторге от пастернаковского перевода «Гамлета» Шекспира и несколько лет назад захотел его поставить и самому играть в нем. Он получил на это официальное разрешение, начались репетиции. Как-то раз его пригласили на один из обычных банкетов в Кремле, где должен был присутствовать сам Сталин. Во время банкета Сталин имел обыкновение выходить из-за стола и обходить всех гостей, приветствуя их и чокаясь бокалами. Когда он приблизился к столу, за которым сидел Ливанов, актер спросил его: «Иосиф Виссарионович, как нужно играть “Гамлета”?» Он хотел, чтобы Сталин сказал хоть что-нибудь, пусть даже самое незначительное, чтобы это можно было унести с собой под мышкой и козырять этим потом повсюду. Как выразился Пастернак, если бы Сталин сказал: «Сыграйте его лилово», Ливанов бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая, что Вождь дал насчет этого совершенно ясные указания – надо играть лилово. Лишь он один, Ливанов, был бы в состоянии точно понять, что имел в виду Вождь, так что и режиссеру и всем остальным останется лишь повиноваться. Сталин остановился и сказал: «Вы артист? Артист МХАТа? Тогда обратитесь с вашим вопросом к художественному руководителю театра. Я не специалист по театральным делам». Затем, помолчав, добавил: «Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко мне, я отвечу вам: “Гамлет” – упадочная пьеса, и ее не следует ставить вообще». На следующий же день репетиции были прерваны. «Гамлета» не ставили до самой смерти Сталина. «Вот видите, – сказал Пастернак, – есть перемены. Все время происходят какие-то перемены». Снова воцарилось молчание.
После этого, как часто бывало раньше, он заговорил о французской литературе. Со времени нашей последней встречи он достал сартровскую «Тошноту» и нашел, что ее невозможно читать, ее непристойность возмутила его. Как же это может быть, чтобы после четырех столетий гениального творчества этот великий народ совсем перестал создавать литературу? Арагон – приспособленец, Дюамель и Гезино невыносимо скучны. А что, пишет ли еще Мальро? Прежде чем я собрался ответить, одна из присутствовавших на обеде – женщина с невинным, трогательным и милым лицом, такие лица гораздо чаще встречаются в России, чем на Западе, – учительница, которая совсем недавно освободилась из концлагеря, где провела пятнадцать лет только за то, что преподавала английский, застенчиво спросила, написал ли что-нибудь Олдос Хаксли после «Контрапункта» и пишет ли еще Вирджиния Вулф? Она ни разу не видела ни одной ее книги, но из заметки в одной старой французской газете, которая каким-то неизъяснимым образом попала в лагерь, она поняла, что ей может понравиться проза Вирджинии Вулф.
Трудно передать все то удовольствие, которое я испытал, когда начал делиться новостями о литературе и искусстве большого мира с этими людьми, так страстно тосковавшими по всему новому, новостями, которые они не могли тогда получить ни из какого другого источника. Я рассказал ей и всем присутствующим все, что я знал об английской, американской и французской литературах: это было похоже на разговор с людьми, потерпевшими кораблекрушение, заброшенными на необитаемый остров и отрезанными от всякой цивилизации. Все, что они слышали, казалось им новым, волнующим и прекрасным. Грузинский поэт Тициан Табидзе, большой друг Пастернака, погиб во время чисток; его вдова Нина Табидзе была среди гостей. Она хотела знать, считаются ли до сих пор на Западе великими драматургами Шекспир, Ибсен и Шоу. Я ответил, что интерес к Шоу сильно упал, но что повсюду любят Чехова, пьесы которого часто ставятся на сцене. Я добавил, что Ахматова как-то сказала мне, что она не могла понять, в чем причина этого культа Чехова: его мир бесцветен и уныл, в нем никогда не светит солнце, не сверкают мечи, все покрыто отвратительным серым туманом, мир Чехова – это море грязи, в котором беспомощно барахтаются жалкие человеческие существа, это искажение жизни (я слышал однажды, как У.Б. Йейтс высказывался в подобном же духе: «Чехов не знает ничего о жизни и смерти, – сказал он, – он не знает, что подножие небес полно лязгом скрещивающихся мечей»). Пастернак ответил, что Ахматова глубоко ошибается: «Скажите ей, когда увидите ее, – мы не можем свободно поехать в Ленинград, как, наверное, можете вы, – скажите ей от имени всех нас здесь, что все русские писатели обращаются к читателям с проповедью, даже Тургенев говорит нам, что время – великий целитель, и так далее в том же духе. Лишь один Чехов свободен от этого. Он – чистый художник, все растворено в искусстве. Он – наш ответ Флоберу». Он заметил далее, что Ахматова обязательно заговорит со мной о Достоевском и будет нападать на Толстого. Но на самом деле Толстой прав в оценке Достоевского: «Его романы – это ужасная белиберда, невыносимая смесь шовинизма и истерической церковности, а Чехов… – скажите это Анне Андреевне от моего имени! Я очень ее люблю, но никогда не мог ни в чем ее убедить». Когда я снова встретился с Ахматовой – уже в 1965 году, в Оксфорде, я почел за благо не передавать ей эти слова Пастернака: может быть, ей бы захотелось ему что-то возразить, ответить… но Пастернак уже был в могиле. А о Достоевском она действительно говорила мне со страстным восхищением.
Но здесь я хочу вернуться в 1945 год и описать мои встречи с поэтом (она ненавидела слово «поэтесса») в Ленинграде. Это произошло так: я прослышал, что книги в Ленинграде в магазинах, называемых в Советском Союзе «антикварными», стоят гораздо дешевле, чем в Москве. Чрезвычайно высокая смертность и возможность обменять книги на еду во время блокады города привели к тому, что много книг, особенно принадлежавших старой интеллигенции, оказалось на прилавках государственных букинистических магазинов. Рассказывали, что некоторые ленинградцы настолько ослабели из-за голода и болезней, что у них не было сил относить книги в магазин, поэтому зачастую друзья раздирали для них книги на отдельные страницы и главы, и в таком виде книги оказывались на прилавках у букинистов, а там их можно было купить. Я бы сделал все возможное, чтобы попасть в Ленинград в любом случае: мне не терпелось своими глазами снова увидеть город, где я провел четыре года моего детства. Книжный соблазн лишь еще сильнее разжигал мое желание. После обычной волокиты мне дали разрешение провести в Ленинграде две ночи в старой гостинице «Астория», в обществе представителя Британского Совета в Советском Союзе, мисс Бренды Трипп, весьма умной и симпатичной барышни, специализировавшейся в области органической химии. Мы приехали в Ленинград серым осенним днем в конце ноября.
III
Я не был в этом городе с 1919 года, когда мне было 10 лет и моей семье разрешили вернуться в нашу родную Ригу, столицу в то время независимой республики. В Ленинграде воспоминания детства вернулись ко мне с необычайной отчетливостью. Я был невыразимо тронут видом улиц, домов, статуй, набережных, рынков, внезапно знакомых сломанных перил в маленькой лавочке, где чинили самовары, в подвале дома, где мы жили. Внутренний двор дома выглядел таким же заброшенным и грязным, как и тогда, в первые годы революции. Воспоминания об отдельных событиях, эпизодах, переживаниях как бы стали между мною и окружающей действительностью. Я как будто бы бродил по легендарному городу и сам был частью этой яркой, полузабытой легенды. Одновременно я смотрел на все это с позиции стороннего наблюдателя. Город был сильно поврежден, но тогда, в 1945 году, он оставался еще неописуемо стройным и прекрасным. Когда я посетил его снова через одиннадцать лет, он казался уже полностью восстановленным. Я направился прямо к цели моего путешествия – на Невский проспект, в книжную лавку писателей, о которой я был много наслышан. В то время (наверное, и сейчас) в некоторых русских книжных магазинах были две половины: одна, внешняя, для общей публики, в которой книги лежали по ту сторону прилавка, и другая – внутренняя, со свободным доступом к полкам, куда допускались писатели, журналисты и другие привилегированные лица. Поскольку мисс Трипп и я были иностранцами, нас допустили во внутреннее святилище. Рассматривая книги, я вступил в разговор с человеком, перелистывавшим книжку стихов. Он оказался известным критиком и историком литературы. Мы разговорились о недавних событиях, и он рассказал мне об ужасной участи Ленинграда во время блокады, о мученичестве и героизме ленинградцев. Он сказал, что многие умерли от голода и холода, другие – особенно те, что помоложе, – выжили, некоторых эвакуировали. Я спросил его о судьбе писателей-ленинградцев. Он ответил: «Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?» Ахматова была для меня фигурой из далекого прошлого. Морис Баура, переводивший некоторые из ее стихов, говорил, что о ней не было слышно со времени Первой мировой войны. «А Ахматова еще жива?» – спросил я. «Ахматова, Анна Андреевна? – сказал он. – Да, конечно. Она живет недалеко отсюда, на Фонтанке, в Фонтанном доме. Хотите встретиться с ней?» Для меня это прозвучало так, как будто бы меня вдруг пригласили встретиться с английской поэтессой прошлого века мисс Кристиной Россетти. Я с трудом нашелся, что сказать, и пробормотал, что очень бы желал с ней встретиться. «Я позвоню ей», – ответил мой новый знакомец и возвратился с известием, что она примет нас в три часа. Мне надо было прийти обратно в книжную лавку, откуда мы должны были вместе отправиться к Ахматовой. Я тем временем возвратился в «Асторию» к мисс Трипп и спросил ее, хочет ли она посетить поэта, на что она ответила, что не может, поскольку у нее уже что-то было назначено на это время.
Я вернулся к назначенному часу. Критик и я вышли из книжной лавки, повернули налево, перешли через Аничков мост и снова повернули налево вдоль набережной Фонтанки. Фонтанный дом, дворец Шереметевых, – прекрасное здание в стиле позднего барокко, с воротами тончайшего художественного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград. Внутри – просторная зеленая площадка, напоминающая четырехугольные дворы какого-нибудь большого колледжа в Оксфорде или Кембридже. По одной из крутых темных лестниц мы поднялись на верхний этаж и вошли в комнату Ахматовой. Комната была обставлена очень скупо, по-видимому, почти все, что в ней стояло раньше, исчезло во время блокады – продано или растащено. В комнате стоял небольшой стол, три или четыре стула, деревянный сундук, тахта и над незажженной печкой – рисунок Модильяни. Навстречу нам медленно поднялась статная, седоволосая дама в белой шали, наброшенной на плечи.
Анна Андреевна Ахматова держалась с необычайным достоинством, ее движения были неторопливы, благородная голова, прекрасные, немного суровые черты, выражение безмерной скорби. Я поклонился – это казалось уместным, поскольку она выглядела и двигалась, как королева в трагедии, – поблагодарил ее за то, что она согласилась принять меня, и сказал, что на Западе будут рады узнать, что она в добром здравии, поскольку в течение многих лет о ней ничего не было слышно. «Однако же статья обо мне была напечатана в “Дублин ревью”, – сказала она, – а о моих стихах пишется, как мне сказали, диссертация в Болонье». С ней была ее знакомая, принадлежавшая, по-видимому, к академическим кругам, и несколько минут мы все вели светский разговор. Затем Ахматова спросила меня об испытаниях, пережитых лондонцами во время бомбежек. Я отвечал, как мог, чувствуя себя очень неловко, – веяло холодком от ее сдержанной, в чем-то царственной манеры себя держать. Вдруг я услышал какие-то крики с улицы, и мне показалось, что я различаю свое собственное имя! Некоторое время я пытался не обращать на них никакого внимания – ясно, что это была галлюцинация, но крики становились все громче и громче, и можно было вполне явственно различить слово «Исайя!». Я подошел к окну, выглянул наружу и увидел человека, в котором я узнал сына Уинстона Черчилля, Рандольфа. Похожий на сильно подвыпившего студента, он стоял посреди большого двора и громко звал меня. Несколько секунд я не мог сдвинуться с места – ноги буквально приросли к полу, – после чего я пришел в себя, пробормотал извинения и сбежал вниз по лестнице. Единственное, о чем я мог в ту минуту думать, было – как предотвратить его появление в комнате Ахматовой. Мой спутник, критик, выбежал вслед за мной. Когда мы вышли во двор, Черчилль подошел ко мне и весело и шумно меня приветствовал. «Мистер Х., – сказал я совершенно механически, – я полагаю, вы еще не знакомы с мистером Рандольфом Черчиллем?» Критик застыл на месте, на лице его выражение недоумения сменилось ужасом, и он поспешно скрылся. Я больше никогда не встречал его, но его статьи продолжают печататься в Советском Союзе, из этого я делаю вывод, что наша случайная встреча ему никак не повредила. Я не знаю, следили ли за мной агенты тайной полиции, но никакого сомнения не было в том, что они следили за Рандольфом Черчиллем. Этот невероятный инцидент породил в Ленинграде самые нелепые слухи о том, что приехала иностранная делегация, которая должна была убедить Ахматову уехать из России, что Уинстон Черчилль, многолетний поклонник Ахматовой, собирался прислать специальный самолет, чтобы забрать ее в Англию, и т. д. и т. п.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































