Текст книги "История свободы. Россия"
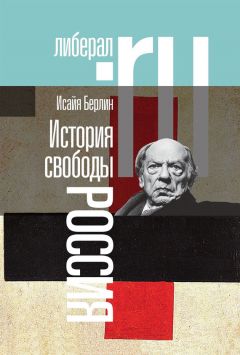
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«… жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту… все это я обожаю. Что до меня – я прикован к земле. Я предпочту созерцать торопливые движения утки, которая влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи. Или длинные блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено, – всему тому, что херувимы… могут увидеть в небесах»[59]59
Тургенев И.С. ПССП. Письма. Т. 1. С. 297–298 (письмо было написано по-французски).
[Закрыть].
Почему же? Потому что небо – это не земля, а «вечная и пустая беспредельность»[60]60
Там же. С. 297.
[Закрыть], всеобщая, абстрактная, недетализированная, не имеющая связи с земным миром вещей и людей, ощущений, эмоций и идей, цветов, запахов, поступков, рождения и смерти – миром природы, который, при всей его эфемерности и холодном безразличии к радостям и печалям человека, один только и существует на самом деле; остальное – пустые разговоры, дым.
Но Тургенев жил тогда, когда жил, и социальные учения западных проповедников всколыхнули его так же, как и его современников. Ощущая на себе взгляд Белинского – и в 40-е годы, когда они близко общались, и после смерти критика, – Тургенев ставит в центр всех своих романов «проклятые» социальные вопросы. Пространных доказательств тому не нужно: «Накануне», «Новь», а в особенности, что неудивительно, «Отцы и дети» отнюдь не утратили своего значения и сегодня – причем последний роман был оценен по достоинству, возможно, только в наши дни. Одновременно Тургенев настойчиво утверждает, что не встает ни на чью сторону, – он всего лишь творец; он знает, что, когда автор резонно воздерживается от проявления собственных симпатий, читатель, покинутый на произвол судьбы, без «направления» и руководства, просто теряется, не зная, что и думать. Необходимость самостоятельно делать выводы раздражает его. Реальность – хаотичная, неровная – нервирует; ведь читателю нужно, чтобы его вели за ручку, ему нужны положительные герои.
Тургенев гордо отказывается удовлетворить такие требования; писателей типа Шекспира или Гоголя, чьи персонажи, оторвавшись от авторов, начинают независимую жизнь, он ставит выше разрядом, чем тех литераторов, чьи герои, неспособные двигаться сами по себе, связаны с автором неразрывно. Творения их обычно отличаются искренностью, задушевностью и теплотой, в них есть личная правда, но мало правды объективной, недостаточно мастерства и оконченности[61]61
Тургенев И.С. ПССП. Сочинения. Т. 5. С. 368.
[Закрыть]. Однако в 1855 году, спустя семь лет после смерти Белинского, он пишет Боткину, который к тому времени превратился в пламенного защитника «чистого искусства»: «Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством – а есть интересы выше поэтических интересов», – и провозглашает, что «момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в развитии отдельного лица»[62]62
Тургенев И.С. ПССП. Письма. Т. 2. С. 282.
[Закрыть]. Ту же самую мысль он выражает и в письме к Толстому в 1858 году, замечая, что время требует не «лирического щебетанья», не «птиц, распевающих на ветке»[63]63
Там же. Т. 3. С. 188.
[Закрыть]. Он отказывается участвовать в посвященном «чистому искусству», не «загаженном» социальными вопросами журнале, проект которого тогда обдумывал Толстой: «Политическая возня вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; – да ведь и на улицах грязь и пыль – а без городов нельзя же»[64]64
Там же. С. 210.
[Закрыть]. И, наконец, вот вам знаменитый пассаж об «Отцах и детях» из письма к Салтыкову-Щедрину: «Я готов сознаться, что я не имел права давать нашей реакционерной сволочи возможность ухватиться за кличку – за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину»[65]65
Там же. Т. 11. С. 191. Под «кличкой» Тургенев подразумевает слово «нигилист».
[Закрыть].
Есть мнение, что Тургенев написал эту фразу, желая оправдаться перед суровым писателем, но все равно это знак, симптоматическая черта долгого противоборства между требованиями искусства, как их понимали русские писатели, – а в вопросе о сущности искусства писатели 50–60-х годов XIX века были единодушны (разве что за исключением Некрасова, чья позиция на сей счет остается несколько неясной) – и требованиями, которые налагаются политическими убеждениями или личным нравственным кодексом. То было не столько противоборство между «эстетической критикой» и «натуральной школой» – хотя без этого, разумеется, не обошлось, – сколько внутренняя борьба с самим собой: Толстой, Тургенев, Гончаров, Писемский – все они мучились этими противоречиями, кто относительно мирно, кто нестерпимо страдая, в зависимости от темперамента. К критикам радикального «Современника» это имело мало отношения. Разве к концу 60-х годов у писателей осталась хоть капля уважения к Чернышевскому или Добролюбову, к Антоновичу или даже к Некрасову? Герцен не брал на себя задачу руководить, будь то из Лондона или из Женевы, литературной совестью русских писателей – даже тех, кто был с ним близко знаком. Несомненно, именно призрак Белинского, этот ужасный, неподкупный дух, преследует русских литераторов – это он раз и навсегда, на горе и на радость, задал нравственный тон общественно активной литературе, а также спорам о ее природе и ценности в России второй половины XIX века, которые в некотором смысле продолжаются и ныне.
То был не просто диспут, не просто ряд партизанских вылазок и ответов на них, а подлинный кризис, «la crise de foi»[66]66
«кризис веры» (фр.). – Примеч. пер.
[Закрыть]. Даже молодой Чернышевский не совсем глух к требованиям искусства: в 1856 году, рецензируя «Детство», «Отрочество» и «Военные рассказы» Льва Толстого, он пишет:
«Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности – единство произведения и что потому, изображая “Детство”, надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в “Илиаде” – Макбета, в Вальтере Скотте – Диккенса, в Пушкине – Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в «Каменном госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать свое сочувствие к Петру Великому, «Каменный гость» вышел бы произведением нелепым в художественном отношении. Всему свое место: картинам южной любви – в «Каменном госте», картинам русской жизни – в «Онегине», Петру Великому – в «Медном всаднике». Так и в «Детстве» или в «Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, – а патриотизму, геройству, военной жизни будет свое место в «Военных рассказах»; странной нравственной драме – в «Записках маркера», изображению женщины – в «Двух гусарах». Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, сидящей у окна ночью, помните ли, как бьется ее сердце, как сладко томится ее грудь предчувствием любви?»[67]67
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 16 т. М., 1939–1953. Т. 3. С. 429–430.
[Закрыть]
Затем он переходит к похвалам Толстому за то, что тот не вводит в свои творения ничего лишнего. Толстой для Чернышевского – поэт, творец истинной красоты и истинной поэзии. Но, несмотря на банальность суждений и более чем банальную манеру письма, все это еще отвечает критериям Белинского, Тургенева и даже Аполлона Григорьева.
Вскоре все меняется. Добравшись до пресловутой статьи о повести Тургенева «Ася», мы сталкиваемся с классическим Чернышевским, восклицающим: «Бог с ними, с эротическими вопросами, – не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян»[68]68
Там же. Т. 5. С. 166.
[Закрыть], с автором знаменитого отзыва о полотнах художников-маринистов. Оказывается, их главная ценность в том, что они дают жителям наших сухопутных провинций возможность узреть нечто им недоступное[69]69
Там же. Т. 2. С. 77.
[Закрыть]. Вот такие-то чудовищные глупости, выходившие из-под пера честных, но обделенных эстетическим чутьем критиков, этих мучеников русского социализма, вкупе с добролюбовской концепцией литературной критики (призванной, на его взгляд, оценивать литературу исключительно как орудие социологического анализа) и порожденной ею пропагандой революционных мер, и проложили дорогу, которая привела к Плеханову, Ленину и всем последующим событиям. Да, Белинский – родоначальник этой тенденции, но не один, а вместе с Тургеневым, Толстым, Салтыковым-Щедриным и даже Аполлоном Григорьевым, если принять во внимание экстатические страницы, исписанные им во славу непревзойденной, гениальной Жорж Санд.
Позвольте мне повторить: решающим, переломным моментом я считаю начало 40-х годов, когда учение сенсимонистов, найдя отзвук в измученной душе чрезмерно впечатлительного Белинского, оказало существенное влияние и на других крупных писателей, не всегда разделявших его взгляды. Мне кажется, Белинский заразил своих последователей искренней ненавистью к попыткам укрыться за фантазиями, ко всему, что встает между писателем и его задачами, что уводит от действительности и мешает видеть то, что для него – непосредственная реальность. Поэтому он так яростно отвергает архаику, сентиментальный местный патриотизм, романтизирование всего далекого и экзотического вообще и идиллического прошлого славян в особенности. В этой связи он истово настаивает на необходимости искренности, не уставая подчеркивать, что от писателя требуются только две вещи: талант – неважно, откуда он берется, хоть с неба, – и верность истине. Произведение должно быть порождено Erlebnis[70]70
«переживанием» (нем.).
[Закрыть] писателя или пережито им либо в реальности, либо в воображении. Это влечет за собой пренебрежение к банальной ремесленной умелости, к технике, к непрошеным вторжениям дискурсивного интеллекта, этого врага свободной игры творческого воображения, кончается все это требованием, чтобы автор умел вычленить нравственную сущность описываемой им ситуации – постичь ее высший смысл для человечества в целом, противополагаемый преходящему значению для читателей, чьи эфемерные желания и жизненные обстоятельства вскоре исчезнут без следа. Влияние этих канонов на Тургенева очень явственно. Однако у Белинского был и другой, еще более талантливый, хотя непрямой, но тоже бессознательный ученик.
Лев Толстой знаменит как жертва своего художественного таланта и гражданской совести. Было время, когда его страстная любовь к «чистому искусству» и ненависть к политике, подогреваемые в нем Фетом и Боткиным, достигли апогея. В 1858 году он пишет:
«Большинство публики начало думать, что задача всей литературы состоит только в обличении зла, в обсуждении и в исправлении его… что времена побасенок и стишков прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться, что чистое искусство невозможно, что литература есть только орудие гражданского развития общества и т. п. Правда, слышались в это время заглушенные политическим шумом голоса Фета, Тургенева, Островского… но общество знало, что оно делало, продолжало сочувствовать одной политической литературе и считать ее одну – литературой. Увлечение это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. Для того, чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним, оно должно было увлекаться дальше цели, чтобы достигнуть ее, должно было одну эту цель видеть перед собой. И действительно, можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность избавиться от него. Как думать о прекрасном, когда становилось больно! Не нам, пользующимся плодами этого увлечения, укорять за него… Но как ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлечение, оно не могло продолжаться, как и всякое увлечение. Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития»[71]71
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.; Л., 1928–1958, 1964. Т. 5. С. 271–272.
[Закрыть].
Однако было у Толстого и другое убеждение, от которого он никогда не отказывался, – он верил, что рядом с «политической литературой» существует литература другого рода, «отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность»[72]72
Там же. С. 272.
[Закрыть]. Семь лет спустя он пишет Боборыкину:
«Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы»[73]73
Там же. Т. 61. С. 100.
[Закрыть].
Несмотря на все, что произошло впоследствии, когда Толстой отверг искусство в целом как суету и разврат, поскольку оно не помогает исцелять нравственные раны, его творческие порывы оставались неудержимы. Спустя много лет, когда он написал «Хаджи Мурата», кто-то спросил у него, как он пришел к этой повести – какую нравственную или духовную идею он заложил в нее? Толстой ледяным тоном ответил, что старается разграничивать свой труд художника и свои нравственные проповеди. Он не требовал морализаторства от Чехова; и не желал иметь дела с Бернардом Шоу, хотя того никак нельзя было обвинить ни в невнятности, ни в недостаточной прямоте, ни в бегстве от социальных проблем, ни в отсутствии позитивных убеждений. Шоу написал Толстому восторженное письмо: в конце концов, те множества врагов, которых обличали он и Толстой, во многом совпадали. Но старик не отступился от своего мнения; пьесы и статьи Шоу он находил вульгарными, поверхностными и, главное, откровенно дурными с художественной точки зрения. Старания Толстого выработать простую и связную жизненную философию, основанную на неопровержимых истинах, были еще более героическими, требовали еще большего насилия над его собственными инстинктами, стремлениями и интуицией, чем усилия Белинского или Тургенева, и, соответственно, закончились еще более ужасным крахом. Все та же дилемма – все та же попытка найти квадратуру круга – составляет сущность поздних статей Блока «Народ и интеллигенция» и «Крушение гуманизма». Еще болезненнее, если такое возможно, эта проблема становится в «Докторе Живаго» и опубликованных, а возможно, и неопубликованных или даже не написанных произведениях Синявского и писателей его круга.
Вернемся к особому отношению Толстого к Белинскому. Читать его Толстой начал в 1856 году, нехотя поддавшись на уговоры Дружинина, который Белинского не выносил, и Тургенева, который его обожал. По словам Толстого, однажды ночью ему приснилось, будто, по мнению Белинского, социальные доктрины справедливы только тогда, когда их «пусируют до конца», и будто сам он с этим мнением согласен[74]74
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 47. С. 198.
[Закрыть]. Он был в восторге от статей Белинского о Пушкине, и в особенности от идеи, что понять писателя можно, лишь уйдя в него с головой и ничего, кроме него, не видя. 2 января 1857 года Толстой записывает в дневнике: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться»[75]75
Там же. С. 108.
[Закрыть], и хотя позже он считал Белинского скучным и бездарным автором, сформулированные им принципы прочно въелись в его, толстовское мировоззрение. Мне кажется неслучайным, что Толстой проводил в жизнь заветы Белинского со столь необычайной, хотя и молчаливой и, возможно, неосознанной, преданностью. В словаре Толстого-критика нет более уничижительного эпитета, чем «выдуманный»; только чистосердечность, только простота, только ясность, – если писатель вполне отчетливо осознает, что именно он хочет сказать, и если его взгляду ничто не мешает, eo ipso получится произведение искусства. Таким образом, Толстой идет еще дальше, чем был готов идти Белинский даже на пике своего радикализма; Белинский никогда не отступался от мнения, что художественный дар – нечто совершенно своеобычное, а следовательно, искренность – или тот факт, что некто видит жизнь своими собственными, а не чужими глазами и описывает увиденное ясно и без обиняков, – сама по себе еще не может считаться достаточным условием для того, чтобы создать произведение искусства. Позиция Толстого, как часто с ним бывало, – это упрощенный и гиперболизированный вариант и без того простого тезиса.
Настойчивые призывы к искренности, выпады против того, что в наши дни под влиянием неогегельянства и экзистенциализма именуется нечистой совестью[76]76
Термин «нечистая совесть» (mauvaise foi) в его экзистенциалистском изводе восходит к «Бытию и ничто» Сартра. – Примеч. пер.
[Закрыть] и ложным сознанием, чаще всего раздаются, когда Толстой уничтожающе критикует других писателей, прежде всего своих современников по XIX веку. Гете, например, достается за то, что он смотрел на свои творения со слишком удаленной точки; и потому его романы и пьесы при всем их изяществе, при всем мастерском умении автора распоряжаться самим собой и материалом, остаются неубедительными. Великолепные, но холодные и отрешенные, они неспособны на то, что Толстой считает главным смыслом и единственным предназначением искусства, а именно не могут напрямую передавать читателю чувства. Это обвинение в благодушно-презрительной самодостаточности, эти ироничные упоминания об олимпийском спокойствии Гете среди общественных потрясений, об его холодном самодовольстве, осторожности, сознательной неуязвимости – не что иное, как отголоски слов Белинского; те же упреки, несмотря на свое преклонение перед Гете, повторяет Тургенев в статье о «Фаусте» и в других местах. Лучше Тургенева о Гете не писал ни один русский писатель, да и по темпераменту Гете был созвучнее Тургеневу, чем, скажем, Герцену или Толстому. Но сенсимонистское зелье сделало свое дело: Тургенев отдавал предпочтение Шиллеру, Байрону и Жорж Санд и заявлял об этом вслух. Точно так же, с характерной для него иронией, Толстой пишет, что задается вопросом: что бы сделал Флобер, столь блестяще описавший, как святой Юлиан Странноприимец обнял прокаженного, оказавшегося Христом, – что бы сделал Флобер на месте своего героя? Это сомнение подрывает в Толстом доверие к писателю, веру в его искренность, которая для него самого – основа истинного искусства.
Как бы мы ни расценивали этот подход – как абсурд или как нечто резонное, – это, по сути, та же нравственная позиция, которая была свойственна Белинскому и вызывала восторг его сторонников, а также негодование оппонентов. То же самое и с Толстым: вознамерившись пригвоздить к позорному столбу недостатки некоторых из самых уважаемых писателей своего времени, он заимствует свои отравленные, метко разящие стрелы именно из колчана Белинского. Своих противников он берется судить на основе трех desiderata: серьезности описываемых ими проблем, нравственной искренности и художественных способностей. Толстой сообщает нам, что Тургенев определенно «пережил», выстрадал в своем сокровенном внутреннем мире то, что описывает так живо и художественно. Но достойны ли эти грустные переживания и думы хиреющих русских дворян, которые либо сидят у себя в усадьбах и предаются мрачным мыслям, либо рассуждают о своих личных отношениях с другими помещиками, такими же развращенными, такими же малохарактерными образчиками человечества в целом, – достойны ли они того, чтобы занимать ум серьезного, «здорового» существа, крестьянина, добросовестного рабочего, нравственно «не испорченного» человека?
Что до Некрасова, кто посмеет отрицать, что этот писатель наделен огромным художественным талантом? Кто посмеет отрицать серьезность и значимость для человечества тех проблем, которые он поднимает, – нищеты и угнетения крестьян, подвергаемых жестокостям и беззакониям? А вот искренность… Действительно ли Некрасов пережил в реальности или хотя бы в воображении все то, что описывает? Передается ли читателю ощущение личной сопричастности происходящему, или стихи Некрасова – лишь жанровые картинки, созданные умелым, но равнодушным живописцем, сказать по чести – владельцем крепостных, которых он и не думает отпускать на волю, художником, чья частная жизнь и реальные, личные заботы далеки от страданий жертв, от социально-нравственного убожества жизни, которую он столь ловко перелагает стихами, в реальности не ощущая никакой личной сопричастности? Такое отношение Толстого к Некрасову, поскольку тот неискренен, то есть не всего себя отдает идее, гораздо радикальнее, чем, скажем, отношение Белинского к Гончарову. Белинский тоже добросовестно стремился докопаться до истины, какой бы неоднозначной она ни оказалась, но Толстой, «пусируя до конца» свои мысли, заходит еще дальше, чем заводила Белинского его гражданская совесть.
Наконец, вот вам один из вердиктов, вынесенных Толстым Достоевскому: он признает величайшую духовную важность поднимаемых Достоевским проблем; признает и то, что позиция его глубоко искренна, но, увы, тот не отвечает первоочередному критерию Толстого (и Белинского): у него нет таланта, он не способен просто и ясно выражать свое личное видение мира. После того как его персонажи продефилируют по сцене, дальнейшее (считает Толстой) сводится к работе сюжетного механизма: все предсказуемо, тягуче, бесталанно, и так страница за страницей Достоевскому есть что сказать, но ни писать, ни строить композицию он не умеет.
V
На эти примеры из Тургенева и Толстого я сослался потому, что их обоих обычно не причисляют к традиции социальной критики, заложенной Белинским. Я же полагаю, что противоречие между требованиями искусства и требованиями общества в случае Белинского не исчерпало себя, разрешившись безусловной победой последних, и соответственно, отнюдь не породило кристально-ясную, радикальную традицию Чернышевского, Писарева, Плеханова и их эпигонов-марксистов. Напротив, оно осталось неразрешенным и вызвало к жизни дилемму, которой отныне суждено терзаться всем русским писателям и художникам; дилемму, сильно повлиявшую на все течения русской мысли и искусства, да и на общественную деятельность – на терзаемых сомнениями либералов и консерваторов, на «прогрессистов» и на всех, кто, наотрез отвергая политическую деятельность, искал спасения в чем-то ином (среди них – и Толстой с народниками, как и объект презрительной его ненависти – «декаденты» рубежа веков).
Мне кажется, итоговая позиция Белинского наиболее ясно выражена в его статье 1843 года о литературной критике: «Нас спросят: каким образом в одной и той же критике могут органически слиться два различные воззрения, историческое и художественное? или: как можно требовать от поэта, чтобы он, в одно и то же время, свободно следовал своему вдохновению и служил духу современности, не смея выйти из ее заколдованного круга?»[77]77
Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 284.
[Закрыть] Белинский считает, что этот вопрос легко решить и теоретически, и исторически:
«Каждый человек, а следовательно, и поэт, испытывает на себе неизбежное влияние времени и местности. С молоком матери всасывает он в себя те начала, ту сумму понятий, которою живет окружающее его общество. От этого он делается французом, немцем, русским и т. д.; от этого он, родившись, например, в 12 веке, благочестиво убежден, что самое святое дело жечь на кострах людей, думающих так, как не все думают, а родившись в 19 веке, он религиозно убежден, что никого не должно жечь и резать, что дело общества не мстить наказанием за проступок, а исправить наказанием преступника, чрез что удовлетворится и оскорбленное общество, и выполнится святой закон христианской любви и христианского братства. Но человечество не вдруг же перескочило от 12 века к 19-му: оно должно было прожить целые шесть веков, в продолжение которых развивалось, в своих моментах, его понятие об истинном, и в каждом из сих шести веков это понятие принимало особенную форму. Вот эту-то форму философия и называет моментом развития общечеловеческой истины; а этот-то момент и должен быть пульсом созданий поэта, их преобладающею страстию (пафосом), их главным мотивом, основным аккордом их гармонии. Нельзя жить в прошедшем и прошедшим, закрыв глаза на настоящее: в этом было бы что-то неестественное, ложное и мертвое. Отчего европейские живописцы средних веков писали все мадонн да святых? – Оттого, что религиозность христианская была преобладающим элементом жизни Европы того времени. После Лютера все попытки к восстановлению религиозной живописи в Европе были бы тщетны. “Но, – скажут нам, – если нельзя выйти из своего времени, то не может быть и поэтов не в духе своего времени, а следовательно, нечего и вооружаться против того, чего быть не может”. – Нет, отвечаем мы: это не только может быть, но и есть, особенно в наше время. Причина такого явления – в обществах, которых понятия диаметрально противоположны их действительности, которые учат в школах детей своих такой нравственности, за которую над ними же теперь смеются, когда те выйдут из школы. Это есть состояние безрелигиозности, распадения, разъединения индивидуальности и – ее необходимого следствия – эгоизма: к несчастью, слишком резкие черты нашего века! При таком состоянии обществ, живущих старыми преданиями, которым более не верят и которые противоположны новым истинам, открытым наукою, выработавшимся из исторических движений, – при таком состоянии обществ иногда самые благородные, самые даровитые личности чувствуют себя отделенными от общества, одинокими, и те из них, которые послабее характером, добродушно делаются жрецами и проповедниками эгоизма и всех пороков общества, думая, что так, видно, должно быть, что иначе быть не может, что не нами-де началось, не нами и кончится, другие – и это, увы! часто лучшие – убегают вовнутрь себя, с отчаянием махнув рукою на эту оскорбляющую чувство и разум действительность. Но это средство к спасению ложное и эгоистическое: когда на улице пожар, должно бежать не от него, а к нему, чтоб вместе с другими искать средств и трудиться братски для потушения его. Но многие, напротив, из этого эгоистического и малодушного чувства сделали себе начало, доктрину, правило жизни, наконец, догмат высшей мудрости. Они им горды, они с презрением смотрят на мир, который, изволите видеть, не стоит их страданий и их радостей: засев в разубранном тереме своего фантастического замка и смотря из него сквозь расцвеченные стекла, они поют себе, как птицы… Боже мой! человек делается птицею! Какое истинно овидиевское превращение! К этому еще присоединилась обаятельная сила немецких воззрений на искусство, в которых действительно много глубокости, истины и света, но в которых также много и немецкого, филистерского, аскетического, антиобщественного. Что же из этого должно было выйти? – Гибель талантов, которые, при другом направлении, оставили бы по себе в обществе яркие следы своего существования, могли бы развиваться, идти вперед, мужать в силах. Отсюда происходит это размножение микроскопических гениев, маленьких-великих людей, которые действительно обнаруживают много таланта и силы, но пошумят, пошумят да и замолкнут, скончавшись вмале еще прежде своей смерти, часто во цвете лет, в настоящей поре силы и деятельности. Свобода творчества легко согласуется с служением современности: для этого не нужно принуждать себя, писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяет убеждений от дела, сочинения от жизни. Что вошло, глубоко запало в душу, то само собой проявится вовне»[78]78
Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 284–286.
[Закрыть].
Впрочем, это еще никак не та позиция, к которой Белинский, в сущности, пришел. В том же 1843 году он начинает писать цикл статей о Пушкине и в пятой из них развивает идею, столь взволновавшую Толстого, – о том, что прочитать писателя по-настоящему можно, лишь если смотришь только на него, отрешившись от всего остального мира. Итак, вот как следует смотреть на «Каменного гостя» или «Цыган», имеющих с глубинными интересами народа так же мало общего, как ледяные шедевры Гете или, беря ниже, «Обыкновенная история» Гончарова. Однако Белинский знал: все это подлинные произведения искусства, созданные людьми, которые не бежали, когда на их улице случался пожар. Столь пространный отрывок из статьи 1843 года я привел потому, что в нем, как мне кажется, Белинский высказался наиболее открыто – высказался не о том, что есть искусство, и не о том, каким оно могло бы или обязано быть, но о том, каким желали бы видеть искусство он сам и его единомышленники, о том, что согревало их сердца, хотя они знали, что их позиция не абсолютна, но, по большому счету, субъективна, что она обусловлена историческими обстоятельствами, что она непременно пошатнется под воздействием реальных событий, не сообразующихся с ней наглядных примеров, смены общественных настроений.
И все же, как бы мы ни толковали вышеприведенное заявление, являющее собой, как и знаменитое письмо к Гоголю, profession de foi[79]79
исповедание веры, кредо (фр.).
[Закрыть] Белинского, оно совсем не равнозначно призывам Чернышевского к обслуживанию непосредственных потребностей общества; оно равно далеко от формализма и марксизма. Флобер, Бодлер или Мопассан, несомненно, с негодованием отвергли бы его. Для Стендаля, Джейн Остин или Троллопа – даже для Джеймса Джойса, несмотря на его социалистическую юность, – оно мало бы что значило. Марксисты приняли бы его лишь с множеством оговорок; шестидесятники его не цитировали. Но фразу Короленко: «Я нашел… свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература»[80]80
Короленко В.Г. История моего современника, гл. 27. Цит. по: Короленко В.Г. Собрание сочинений: В 5 т. Л., 1989–1991. Т. 4. С. 270.
[Закрыть] (а не сама Россия) – мог бы произнести в любой момент последних ста лет всякий русский писатель. А конечная причина этого, на мой взгляд, таится в воздействии, которое оказал на Белинского и его окружение сенсимонистский диспут о функциях художника: это воздействие сыграло здесь гораздо большую роль, чем всякий другой, отдельно взятый фактор. Скажи какой-нибудь английский современник Короленко – скажем, Арнольд Беннет, – что его родиной является не Англия, а английская литература, что бы это, собственно, значило? Да и мог ли Беннет вообще так сказать? Более того – даже если бы обеспокоенный социальными вопросами писатель-активист типа Эптона Синклера или Анри Барбюса заявил: «Моя родина – американская литература» или «французская литература», эта фраза показалась бы темной до невразумительности.
В этом и есть суть перемен, которые, возникнув в 40-е годы XIX века, привнесла в мир русская доктрина социальных обязательств художника – русская, поскольку в сердца и кровь своих сторонников она въелась глубже, чем в своих первых создателей из Парижа и прочих мест. За ней стоит чувство, абсолютно понятное сейчас в Азии и Африке, да и кое-где поближе; именно оно всегда и повсеместно волновало и волнует и либерально-реформистскую, и революционно-радикальную интеллигенцию (термин этот я использую исключительно в комплиментарном смысле). Процитировав слова Гете, мечтавшего о читателе, который бы «меня, себя и целый мир забыл и жил бы только в книге моей», Белинский комментирует их так: «При немецкой апатической терпимости ко всему, что бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не может сделаться ничем, – мысль, высказанная Гете, поставляет искусство целью самому себе, и через это самое освобождает его от всякого соотношения с жизнию, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни»[81]81
Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 305. Редактор собрания сочинений Белинского не смог установить источник цитаты из Гете.
[Закрыть]. Это можно принимать или отвергать, подвергать сомнению или оспаривать, но двусмысленным назвать нельзя. Мне представляется, что эпицентр борьбы лежит между этим высказыванием и позицией, которую старался отстаивать Белинский, то и дело оглядываясь на искусство, не ведающее тревог и не испытывающее на себе давления, характерного для «критических» периодов истории, – позицией, которая, на мой взгляд, наиболее исчерпывающе выражена в его «манифесте» 1843 года. Вот где уже десятки лет пролегает линия фронта: именно здесь, а не между дубовыми директивами, с помощью которых следующее поколение русских позитивистов и марксистов пыталось не столько разрешить, сколько разрушить проблему.









































