Текст книги "История свободы. Россия"
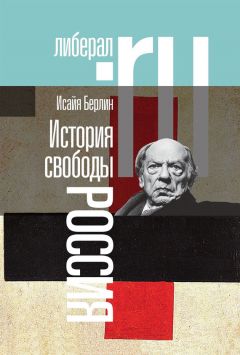
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Обязательства художника перед обществом
[9]9
«Tolstoy and the Enlightenment» © Isaiah Berlin 1961
[Закрыть]
Русский вклад в мировую культуру
Я ставлю перед собой двоякую задачу: во-первых, наглядно проиллюстрировать одно явление современной культурной истории, весьма, на мой взгляд, интересное и важное, но – вероятно, ввиду своей излишней самоочевидности – не слишком замеченное; и, во-вторых, защитить по мере сил некоторых духовных отцов русской либеральной интеллигенции от несправедливого, но весьма привычного обвинения в том, будто они вольно или невольно ковали цепи, уготованные советским творческим людям, прежде всего писателям. Позвольте начать с первого из этих тезисов.
I
В XIX веке многие русские критики отмечали, что всякая более или менее значимая для русской мысли идея, если не учитывать сферу естествознания и других специальных дисциплин, всякая идея общего плана приходила из-за границы; что на русской почве не родилось ни одной философской или исторической, общественной или художественной доктрины либо тенденции, которая оказалась бы жизнеспособной. С этим положением я в принципе согласен; но более интересным мне представляется тот факт, что все эти идеи, каково бы ни было их происхождение, падали в России на столь гостеприимную, столь плодородную духовную почву, что вскоре разрастались пышными, бескрайними зарослями и таким образом преображались.
Исторические причины хорошо известны. Поскольку в первой половине XIX века образованные люди в России были малочисленны и находились в культурной изоляции от основной массы населения, этому меньшинству приходилось искать духовную пищу за пределами родины; оно жаждало идей – любых идей; его пылу способствовало множество факторов: медленное, но верное распространение просвещения, которое в итоге стало доступно и слоям недовольных режимом; знакомство с идеями западных либералов посредством книг и «салонов», а больше – благодаря поездкам на Запад, особенно после похода победоносных армий на Париж в 1814–1815 годах; метания в поисках веры или идеологии, которая заполнила бы вакуум на месте ветшающей религии и все более вопиющего несоответствия откровенно средневекового абсолютизма потребностям «развивающейся» страны. Но первостепенную роль тут играли мучительные искания ответа на «социальный вопрос» – лекарства для язвы, вызванной существованием огромной пропасти между привилегированными, образованными людьми и широкими массами их угнетенных, нищих и неграмотных братьев, чье положение пробуждало в человеческом сердце и гнев, и нестерпимую личную вину.
Все это достаточно знакомо; я же привлеку внимание к тому, что отсталые в культурном плане регионы часто принимают новые идеи со страстным, порой некритическим энтузиазмом и вкладывают в них такие эмоции, такую надежду и веру, что в своем обновленном, концентрированном, упрощенном до примитива варианте идеи эти становятся гораздо величественнее, чем раньше на своей родине, где их со всех сторон толкали и теснили другие доктрины и среди множества течений не было ни одного неопровержимого. Соприкоснувшись с неистощимым русским воображением, воспринятые всерьез людьми, чей принцип – проводить свои воззрения в жизнь, некоторые из этих идей, преображенные, напоенные живительной силой, вернулись на Запад и оказали на него огромное влияние. Оставив родину в форме светских, теоретических, абстрактных доктрин, они вернулись пламенными, сектантскими, квазирелигиозными верованиями. Такова была, к примеру, судьба поклонения народу: оно восходит к Гердеру и немцам, но, лишь обрядившись в русские одежды, вырвалось за пределы Центральной Европы и стало в наше время взрывоопасным движением мирового масштаба; так было и с историцизмом, особенно в его марксистском варианте; еще более яркий пример – идея коммунистической партии, которая, будучи прямым логическим продолжением принципов, сформулированных Марксом и Энгельсом, лишь в руках Ленина превратилась в такое орудие, какое и не снилось ее основоположникам.
Вышеописанное явление мне хотелось бы назвать «рикошетом» или «эффектом бумеранга». Затрудняюсь сказать, есть ли у него равнозначные параллели в истории: греческий стоицизм, преобразованный римлянами, не вернулся, чтобы преобразовать родной мир Восточного Средиземноморья; не выдерживает критики и мысль о том, что влияние Америки на мир вылилось в повторное завоевание Европы идеями Локка и Монтескье, общим правом и доктринами пуритан. Скорее, на мой взгляд, во взаимодействии России и Запада есть что-то свое, неповторимое, особое, хотя, несомненно, особый эффект от интервенции западных идей в культурно отсталые страны сам по себе не уникален и вполне известен. Мне хотелось бы рассмотреть одно из проявлений этого эффекта, а именно – феномен обязательств художника, прежде всего литератора, перед обществом, который в России XIX века именовался «направлением», а позднее получил название «engagement» («ангажированность»). Феномен этот сыграл определяющую роль чуть ли не для всех направлений русской мысли и искусства и, сделав их своим проводником, оказал сильнейшее воздействие на весь остальной мир, хотя ныне пик его влияния, возможно, уже в прошлом.
Разумеется, сама мысль, что художник несет социальную ответственность – ответственность перед обществом, появилась очень давно. Платон, который, видимо, первым из европейских писателей поднял этот вопрос (как и многие другие из основных вопросов, и доныне будоражащих Запад), считал, что ответ на него очевиден. В диалоге «Ион» поэт – вдохновенный пророк, знающий истину и возглашающий ее под влиянием сверхъестественных сил. В «Государстве» поэт – талантливый лжец, причиняющий вред. И в том, и в другом случае важная роль поэта для социума не отрицается. Позднее, в классическом Средневековье, никто, насколько мне известно, тоже открыто не отрицал и не преуменьшал могущество и ответственность художника. Писатель, а точнее, любой творец, был либо учителем добродетелей, либо одописцем, прославляющим заказчика или правящий режим, либо потешником, который услаждает публику, либо вдохновенным провидцем, либо, в самом худшем случае, ремесленником, сообщающим полезные знания или произносящим полезные слова. Даже в эпоху Ренессанса, которая не была склонна к утилитарным доктринам, самым высоким положением, на какое мог претендовать художник, был статус полубога (sicut deus), поскольку художник творит свой мир рядом с Божьим миром, одушевляет свое творение, вкладывая в него свою творческую душу, как Бог одушевляет реальный мир. Творчество есть чудо, ибо оно – один из способов единения с anima mundi[10]10
душой мира (лат.).
[Закрыть], которая, согласно доктрине христианского неоплатонизма, одушевляет вселенную и движет ею. Данте, Тассо, Мильтон в глазах своих почитателей (а возможно, и в своих собственных) были боговдохновенными пророками. В других видели потешников, призванных нас развлекать, – так, вероятно, относились к себе Боккаччо, Рабле, Шекспир. Искусство всегда подчинено какой-то внешней, высшей цели: оно должно сообщать истину, учить, тешить, исцелять, переделывать людей или служить Богу, приукрашивая сотворенную им вселенную и подвигая сердца и умы на исполнение Божьих (или природных) замыслов.
Доктрина искусства ради искусства и сопутствующее ей отрицание социальной ответственности или функции художника – учение о том, что художник творит, как птичка поет на ветке и как распускается цветок, судя по всему, без какой бы то ни было внешней надобности, и следовательно, художник – дитя природы, имеющее право, если ему угодно, не обращать внимания на окружающие его сомнительные людские конструкции, – короче, мысль о том, что существование искусства оправдывает само искусство, достаточно поздняя и возникла как реакция на старое, традиционное воззрение, которое начало стеснять людей или, во всяком случае, утратило убедительность. Сама концепция цели, преследуемой исключительно ради нее самой, отсутствует, насколько мне известно, и в античном мире, и за его пределами, в великих религиозных учениях Запада. Вселенная и деятельность человека в оной воспринимаются как составная часть промыслительного замысла, сценария, который всегда мыслится как единый и всеобщий при всем несходстве конкретных концепций в разных культурах: для одних это гармония вне пространства и времени, для других – космическая драма, движущаяся к некоей апокалиптической или запредельной кульминации. Переходя с теологического на гуманистический язык, можно сказать, что это могут быть искания счастья, или истины, или знания, или справедливости, или любви, или раскрытие творческого потенциала в человеке – словом, любой грандиозный монистический план полной самореализации. Идея, что к некоей цели можно стремиться ради самой этой цели, не думая о последствиях, не заботясь о согласованности этих усилий с другими действиями, с естественным порядком вещей или с устройством мира, возникает в русле одного из течений протестантизма (и, возможно, иудаизма), которое впервые открыто оформилось в Германии в XVIII веке, еще до Канта. Как только был провозглашен принцип долга во имя долга, чары всеобщности рассеялись и приятие плюрализма независимых друг от друга, а то и несовместимых целей стало возможно как идеология. Красота ради красоты, власть ради власти, удовольствие, слава, знание, самовыражение индивида, чья личность и чей темперамент уникальны, – все эти понятия (или их противоположности) теперь могли мыслиться как самоцели, независимые друг от друга. К ним следовало стремиться не потому, будто они имели объективный статус необходимых ингредиентов некоего общепризнанного предназначения человека, но потому, что это твои личные, собственные цели – цели данного индивида, данной нации, данной церкви, данной культуры, данной расы. Все большая популярность индивидуального и коллективного самовыражения, а не поиски объективной истины, при которых искатель играет подчиненную роль, – это сердцевина романтизма и национализма, элитаризма и анархизма с культом народа.
На такой почве и произросла со временем доктрина искусства ради искусства. Сила родилась как протест художника против попыток привязать его к какой-то внешней цели, которую он находит чуждой, стесняющей либо унизительной. Такова позиция Канта, Гете, Шеллинга, Шлегелей. Антиутилитаристская и антифилистерская, она направлена против попыток якобинцев, Директории или Наполеона мобилизовывать художников на службу государству и, что было особенно характерно для времен Реставрации, обуздывать крамольные идеи, направляя мысль и искусство в желательное с точки зрения политики или религии русло. После 1830 года эта доктрина принимает форму страстных выпадов против коммерциализации искусства, против диктата буржуазного потребителя, против взгляда на художника как на поставщика массовой продукции; она помогает резко осудить тех, кто предлагает ему продать свои принципы, дар и независимость за деньги, славу, популярность или покровительство властей. Романтический бунт против единообразия, законов, дисциплины, подчинения любым правилам, кроме свободно избранных (а то и спонтанно придуманных творческой личностью), сливается с обличением грубых нивелирующих процессов индустриализации и их последствий – регламентации жизни, деградации и дегуманизации людей. Герой мифологии протеста выступает в образе художника-одиночки, который живет по-настоящему лишь в своем внутреннем мире, в творчестве. Это Чаттертон, Ленц[11]11
Скорее всего, имеется в виду Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751–1792), немецкий писатель «Бури и натиска», считающийся предтечей натурализма. – Примеч. пер.
[Закрыть], Бетховен, Байрон – люди, с презрительным или вызывающим видом стоящие перед сплоченными рядами врагов искусства и культуры: перед развращенной, филистерствующей публикой, варварской чернью, церквями, полицией, солдафонами-военными. Представители экстремального крыла «чистых» обрушивались даже на таких львов романтизма, как Вальтер Скотт, Бальзак, Гюго, которые, по их мнению, предали свое священное призвание и проституируют искусство в угоду массовым вкусам, сочиняя, подобно каким-нибудь Дюма и Эжену Сю, ради славы или денег.
Философскую базу подо все это подводили критики и профессора, очарованные кантовским тезисом о том, что необходимое условие всех величайших добродетелей – истины, добра, красоты – это бескорыстие. Такая мысль красной нитью проходит через учение парижских законодателей: Саси, Катрмера де Кинси, позднее – Кузена, Жоффруа и в особенности Бенжамена Констана, воспринимавшего якобинский террор и нивелировку человеческих индивидуальностей как истинный кошмар и заговорившего об «искусстве для искусства» еще в 1804 году. Вначале врагом свободного художника был истеблишмент – государство, церковь, рынок, традиция, но вскоре открылся и второй фронт, слева: угроза художнику возникла со стороны ранних коллективистских движений, вдохновленных идеями Сен-Симона и Фурье, которые от нападок на безответственность фривольного, гедонистического XVIII века перешли к обличению тех, кто продолжал эту линию в веке XIX. Шиллер писал, что в раздробленном обществе, где люди оторвались от своих истинных, полноценных душ, когда-то гармоничных и цельных, именно искусство призвано отомстить за оскорбленную природу и сделать так, чтобы люди и целые общества вновь обрели себя. Только искусство, только воображение в силах врачевать раны, нанесенные разделением труда, специализацией функций, развитием массового общества, все усиливающимся уподоблением человека машине.
Таким образом, теперь функция искусства состоит в том, чтобы исцелять, чтобы заново творить неискалеченных людей. К этой руссоистской позиции – к пониманию искусства как Bildung[12]12
образование, просвещение, воспитание (нем.). – Примеч. пер.
[Закрыть], как формирования полноценного человека – склонялся даже Гете, ненавидевший все, в чем есть хоть капля утилитарности. Еще дальше пошел Сен-Симон. Глупость, невежество, безответственность, праздность – вот причины великой катастрофы якобинского террора, этого триумфа темных сил, когда звероподобная чернь сокрушала разум и гений. Одного здравомыслия и даже гениальности еще недостаточно. Общество надо перестроить на новой, «непоколебимой», рациональной основе, созданной специалистами по общественной жизни – людьми, постигшими природу и цели социальных процессов; и важнейшая роль в этой мирной реконструкции общества отведена художникам. Если художник участвует в сотворении нового рационального общества, это вовсе не значит, что он подчиняет свое творчество какой-то чуждой цели.
Сенсимонисты первыми из мыслителей выработали что-то вроде связной доктрины или всеобъемлющей идеологии. Искусство, учили они, не что иное, как общение; оно призвано выражать сознательные представления человека о его потребностях и идеалах, обусловленные представлениями класса, к которому он принадлежит. Эти коллективные представления в свою очередь обусловлены тем, на какой стадии научно-технического развития находится общество, часть которого – данный класс. Поскольку, выражая некую мысль при помощи слов или каких-либо других средств коммуникации, мы неизбежно пытаемся убедить, призвать к действиям, заклеймить, разоблачить или предостеречь кого-то, пропагандировать некие конкретные убеждения, надо осознать этот факт и поставить его на службу целостному жизненному идеалу, опирающемуся на истинное, то есть научное, понимание исторического процесса. Только за счет этого можно определить истинные цели данного общества и распределить между теми или иными индивидами либо группами людей приличествующие им роли, необходимые, чтобы вырваться из плена иллюзий, разоблачить ложных пророков и тем самым максимально реализовать свой потенциал в социальном контексте, где люди в любом случае вынуждены действовать и жить. Эту доктрину позднее переработали, развили и кодифицировали разные школы марксизма. Вполне естественно, что для учеников Сен-Симона, занимавшихся функцией искусства (прежде всего Буше, Пьера Леру и их единомышленников), оторванность от социальных проблем или нейтральное отношение к ним были не только знаком поверхностности или эгоизма, но и нравственной (точнее, безнравственной) позицией. За ней они видели презрение к идеалам, которые художник игнорирует или отрицает либо неспособен их узреть по трусости, по слабости, по нравственной испорченности, не позволяющей ему взглянуть в лицо социальной реальности своего времени и соответственно действовать[13]13
«В сегодняшнем обществе художники, – писал Кс. Жонсьер в «Ле Глоб» (8 апреля 1832 года), – никогда не понимали и не понимают союза поэзии и общества. Мы, напротив, хотим все увязать с политикой в широчайшем смысле этого слова. Не мешкая, мы сообразуем с ней все, что попадается к нам в руки. Литература наличествует в нашем мире, и она должна получить права гражданства и занять место в нашей политической жизни». Сравните со строками другого автора «Ле Глоб» (10 марта 1831 года): «Функция искусства, понимаемого в его священном смысле, состоит в том, чтобы беспрерывно сопровождать, предостерегать и побуждать человечество в его продвижении к все более прекрасному уделу, порой гармоничной музыкой, а иногда суровым и грубым голосом». Цитаты взяты из книги Джорджа Г. Иггерса «Культ авторитета» (Iggers George G. The Cult of Authority. The Hague, 1958. Р. 173).
[Закрыть].
Вот кредо европейских радикалов 30-х годов XIX века. Ради него они и нападали на литературу века XVIII; Карлейль, ее самый яростный и вызывающе известный критик, был далеко не одинок в своих обличениях. «Молодая Франция», «Молодая Германия», «Молодая Италия», даже англичане Вордсворт и Колридж – а тем более Шелли – с головой уходили в религию искусства, понимаемого как способ спасения, личного и политического, общественного и частного. Искусство – священная миссия духовно одаренных существ – поэтов, мыслителей, провидцев, которые, как учил Шеллинг, наделены способностью интуитивно понимать реальность глубже, чем ученые, политики или заурядные филистеры-буржуа. Вытекающая отсюда идея социальной ответственности в 30-е годы XIX века стала основным аргументом тех, кто нападал слева на доктрину, гласящую, что без абсолютной независимости художник – пустое место, что он должен посвятить себя свету, горящему в его душе, и больше ничему. Неважно, видят ли этот свет окружающие и имеет ли он для поборников традиции социальное, нравственное, религиозное или политическое значение.
Именно против этого взгляда на художника как на жреца общественной религии, а также против более грубых попыток навязать ему социальный конформизм направлена знаменитая диатриба самого красноречивого защитника новой доктрины «искусства для искусства» – поэта и прозаика Теофиля Готье. Мы находим ее в знаменитом «Предисловии» Готье к его роману «Мадемуазель де Мопен»:
«Нет, глупцы, нет, зобастые недоумки, книга – это тарелка супа, роман – это вам не пара сапог, сонет – не клистирная трубка, драма – не железная дорога. Она никак не связана с достижениями цивилизации, ведущими человечество по стезе прогресса.
Нет, клянусь кишками всех прежних, нынешних и грядущих пап: нет и нет!
Из метонимии не сошьешь ночного колпака, сравнение не напялишь на ногу вместо домашней туфли, антитезой не прикроешься вместо зонтика. Втайне я глубоко убежден, что ода – слишком легкое платье на зиму…»[14]14
Готье Т. Мадемуазель де Мопен / Пер. Е. Баевской. М.: ТЕРРА, 1997. С. 21. Роман опубликован в 1835 году, «Предисловие» датировано 1834 годом.
[Закрыть]
Хотя филиппика Готье направлена против всех форм позитивизма, утилитаризма, социализма и в особенности против того, что в его времена именовалось «реализмом», а позднее – «натурализмом», она была всего лишь самым громким залпом в битве, которая, начавшись в те дни, не утихает и теперь. Настоятельные утверждения, что искусство – не искусство, если оно не бесполезно; что красота – сама себе цель и оправдание, и это верно не только для красоты, но и для безобразия, для абсурда, для всего, что выходит за пределы «juste milieu»[15]15
«золотой середины» (фр.).
[Закрыть] Июльской монархии и не принадлежит к миру банкиров, промышленников, аферистов, карьеристов либо тупого или развращенного конформистского большинства; что использовать искусство как социальное или политическое орудие для достижения посторонних ему целей – значит его проституировать… – утверждения эти поддерживали Мюссе, Мериме, а в последние годы жизни и Гейне, который, несмотря на свой сенсимонистский период и радикальную юность, приберег некоторые из своих горчайших насмешек для тех, кто призывал мобилизовать искусство на службу политическим надобностям. Флобер и Бодлер, Мопассан и Гонкуры, парнасцы и эстеты боролись под этим флагом с пропагандистами социальной ответственности – с проповедниками и пророками, натуралистами, социалистами, моралистами, националистами, клерикалами, романтичными утопистами. Однако самое страстное, а сейчас и самое важное наступление на доктрину «чистого искусства» осуществили те, кто явился на этот пир с опозданием, неотесанные варвары из-за восточных болот – русские писатели и русские критики, еще совершенно неизвестные на Западе.
II
В свое время Россия тоже прельстилась обаянием доктрины «искусства для искусства». В 1830 году Пушкин в своем замечательном стихотворении «Поэту» пишет: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»[16]16
Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1974–1978 (далее СС). Т. 2. С. 225.
[Закрыть]. Кроме того, он заявляет: «Цель поэзии – поэзия – как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все невпопад»[17]17
Там же. Т. 9. С. 146.
[Закрыть]. Эта позиция (самый знаменитый пример ее, несомненно, кредо поэта в стихотворении «Поэт и чернь») имеет силу не только для Пушкина, но и для всей блестящей плеяды его товарищей: аристократов, дилетантов, рожденных в XVIII веке и, как правило, уходящих в него корнями. Их сочувствие декабристам в большинстве случаев – если не считать Рылеева и, возможно, Кюхельбекера – не сформировало у них идеалов социально ответственного искусства. Для сравнения приведем слова, написанные спустя несколько лет после смерти Пушкина Белинским, который, что бы о нем ни говорили, выражал мнение целого слоя русского общества:
«Никто, кроме людей ограниченных и духовно малолетных, не обязывает поэта воспевать непременно гимны добродетели и карать сатирою порок; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов»[18]18
Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1959 (далее ПСС). Т. 7. С. 345.
[Закрыть].
Вот первый выстрел сражения, во время которого были нащупаны проблемы глубочайшей важности, сражения, которое продолжается и сегодня. В своих мемуарах Тургенев рисует забавный и трогательный портрет Белинского, который, меряя шагами комнату, декламирует строки Пушкина – презрительное обращение поэта к черни: «Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь!»[19]19
Пушкин. СС. Т. 2. С 167.
[Закрыть] «– И конечно, – твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, – конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, – и прежде чем любоваться красотой истукана – будь он распрефидиасовский Аполлон, – мое право, моя обязанность накормить своих – и себя, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам!»[20]20
Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968 (далее ПССП). Сочинения. Т. 14. С. 45–46.
[Закрыть] Яростное неприятие эстетизма, свойственное Белинскому в 40-х годах XIX века, как это часто случается, было мучительным радикальным отречением от его собственных былых убеждений. Когда-то он разделял мнение Фихте (в своем понимании), а до и после «фихтеанского периода» – Шеллинга, что суть искусства – это высвобождение человеком своего «я», это побег духа из эмпирической реальности в чистую сферу духовной свободы, где человеческая душа сможет созерцать идеал, который отражают души даже самых низменных созданий. Способность подняться до такого прозрения, избыв зрелище хаоса, уродства, борьбы, подняться над всеми этими случайностями обыденного мира, над чувственными ощущениями дарована элите вольных духом, тем, кому дано созерцать истинную реальность.
В конце 30-х годов статьи Белинского исполнены страстного, фанатичного, неоплатонического эстетизма, преломившегося в Шеллинге и преподанного Белинскому (который плохо знал немецкий) его менторами Станкевичем и Бакуниным. В 1839 или 1840 году Белинский ценой сильнейших душевных страданий обращается в гегелианский квиетизм, но это не слишком отразилось на его воззрении, будто всякое подлинное искусство независимо и само себя оправдывает. Если «все действительное разумно»; если (как считал предтеча Гегеля Поуп) всякое зло – лишь ложно понятое добро; если понять что-то означает постичь его рациональную необходимость и, следовательно, найти ему оправдание; если действительность постижима как всеобъемлющая матрица развития духа, в свете которой то, что близорукому глазу кажется грубым, уродливым, несправедливым, отвратительным, при взгляде с иной, возвышенной точки окажется необходимой составляющей более широкой гармонии, достигаемой нравственным духом в его диалектическом восхождении (то есть постоянных усилиях духа постичь как себя, так и внешний мир, который не что иное, как истинное «я» духа, оторванное и отчужденное от самого себя) – если все именно так, тогда любой протест против устройства общества, любая попытка воспользоваться искусством, чтобы побыстрей улучшить человеческую жизнь, – вульгарность, близорукость, ребячество, преждевременное и нецелесообразное действие, ложное представление о глубинных интересах человеческого духа. Именно поэтому Белинский сурово критикует ранние пьесы Шиллера, а также Виктора Гюго (который после запрета его драмы «Король забавляется» переметнулся из правого в левое крыло оппозиции), Жорж Санд, Леру и всю французскую школу социальной критики и социального искусства. В том же (несколько беркеанском) духе он громит Грибоедова вкупе с другими русскими критиками и сатириками, которые не смогли вознестись на ту высоту, откуда рациональный дух зрит, почему все должно быть так, как оно есть, почему неразумно желание все переделать за одну ночь по ребячески утопической, капризной, субъективной прихоти. Содержание истинной поэзии, утверждает Белинский в 1840 году, «не вопросы дня, а вопросы веков, не интересы страны, а интересы мира, не участь партий, а судьбы человечества»[21]21
Белинский В.Г. ПСС. Т. 3. С. 399.
[Закрыть]. В той же статье он пишет, что искусство «служит обществу, выражая его же собственное сознание…; но оно же служит обществу не как что-нибудь для него существующее, а как нечто существующее по себе и для себя, в самом себе имеющее свою цель и свою причину»[22]22
Там же. С. 397.
[Закрыть]. Тут нет ничего, что могли бы оспорить Готье или Флобер. Сходных воззрений в тот период помимо Белинского придерживались и члены философского кружка, сложившегося вокруг Станкевича (которому оставалось жить меньше года), – и Тургенев, и Бакунин, и Катков, и Боткин, и Панаев, и западники, и славянофилы: в общем, все, кроме пламенных сенсимонистов Герцена и Огарева.
Однако совсем неудивительно, что человек с темпераментом Белинского (возможно, тут сыграло роль и его социальное происхождение) недолго оставался равнодушен к обаянию социальной критики. Он решительно отринул гегельянское приятие нравственно неприемлемой действительности – это «примирение» с миром угнетения, несправедливости, жестокости и людских страданий во имя некоей расположенной где-то над звездами гармоничной действительности, где все сущее мыслится как рационально необходимое и, для мудреца, всецело постижимое. Отныне Белинский считает обманом и злой насмешкой все, что не дает человеку утешения, когда он страдает, все, что не дает ответа взывающим о милосердии. Даже в краткую пору гегельянства, через силу подавляя в себе сомнения, он не мог принять концепцию искусства, развитую в лекциях его учителя об эстетике. «Искусство нашего времени, – писал Белинский в 1843 году, – есть… осуществление в изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия»[23]23
Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 280.
[Закрыть]. Однако искусство ради искусства «может удовлетворять разве что записных любителей художественности по старому преданию»[24]24
Там же. С. 277.
[Закрыть]. «Подобно истине и благу, красота есть сама себе цель»[25]25
Там же. С. 497.
[Закрыть]. «Миновать этот момент – значит никогда не понять искусства. Остаться при этом моменте – значит односторонне понять искусство»[26]26
Там же. С. 276.
[Закрыть]. Белинский идет еще дальше: «Наш век особенно враждебен такому направлению искусства. Он решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты»[27]27
Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 277.
[Закрыть].
Эти цитаты прямо вторят «гражданственной» позиции сенсимонистов в грандиозном споре, расколовшем на два лагеря парижскую прессу. Ясно, что к 1843 году, в статье по поводу «Речи о критике» Никитенко, которую сам Белинский назвал своей пламенной филиппикой против эстетов, жребий брошен: «Действительность – вот лозунг и последнее слово современного мира»[28]28
Там же. Т. 6. С. 268.
[Закрыть]. Жорж Санд, когда-то отвергнутая им вместе с Гюго, Шиллером и Грибоедовым, которых он счел недалекими мятежниками, неспособными узреть великолепное зрелище медленно разворачивающейся во всю свою ширь разумной действительности, теперь провозглашена «решительно Иоанной д‘Арк нашего времени, звездой спасения и пророчицей великого будущего»[29]29
Там же. Т. 12. С. 115.
[Закрыть]. Белинский становится преданным, некритичным почитателем ее творчества и ее лирического социалистического популизма; в этом он не одинок. Под прямым влиянием Жорж Санд написана повесть Герцена «Кто виноват?». Было время, когда Тургенев, Салтыков-Щедрин и даже Достоевский видели в этой писательнице непревзойденного гения. Писемский схлестнулся с цензурой из-за крамольных идей, явно навеянных ее «Жаком»; даже «абсолютный эстет» Дружинин был многим ей обязан в своей повести «Полинька Сакс»; при Николае I у ее ног, казалось, была вся молодая Россия Москвы и Петербурга. Однако все это не побудило Белинского поддаться некоей разновидности протомарксизма или хотя бы «протозоляизма». В 1843 году Белинский – находясь на пике своего увлечения парижскими социалистами – провозглашает, что искусство ничего не выигрывает, если его называют умным, правдивым, глубоким и все же непоэтичным, и еще, что идеал – это «не преувеличение, не ложь, не ребяческая фантазия, а факт действительности, такой, как она есть; но факт, не списанный с действительности, а проведенный через фантазию поэта, озаренный светом общего (а не исключительного, частного и случайного) значения, “возведенный в перл создания”[30]30
Образ из 7-й главы поэмы Гоголя «Мертвые души».
[Закрыть], и потому более похожий на самого себя, более верный самому себе, нежели самая рабская копия с действительности верна своему оригиналу»[31]31
Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 526.
[Закрыть]. Пусть искусство ради искусства – это заблуждение, но произведение искусства, сколько бы в него ни было вложено высоконравственных чувств и интеллектуальной проницательности, не может считаться таковым, не пройдя испытания эстетикой.
Этого убеждения Белинский придерживался до конца дней. Четыре года спустя, в один из периодов острейшего радикализма, он сопоставил повесть Герцена «Кто виноват?» с романом Гончарова, опубликованным примерно в то же время. Герцен «философ по преимуществу, – пишет Белинский, – а между тем немножко и поэт»[32]32
Там же. Т. 10. С. 326.
[Закрыть]. В этом смысле ярчайшей ему противоположностью будет автор «Обыкновенной истории». Гончаров – поэт, художник, и не более того. Он не питает ни любви, ни вражды к создаваемым им персонажам; они его не забавляют и не раздражают; он не учит морали ни их, ни читателя. Принцип его таков: «Кто в беде, тот и в ответе, а мое дело – сторона»[33]33
Там же.
[Закрыть].
«Изо всех нынешних писателей он один, только он приближается к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство – и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный»[34]34
Там же. С. 326–327.
[Закрыть].









































