Текст книги "История свободы. Россия"
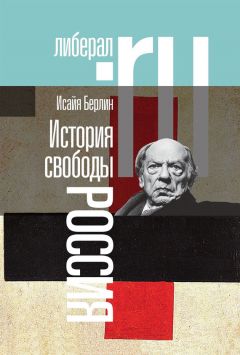
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
К этой идее Белинский возвращается еще раз:
«У Искандера [то есть у Герцена] мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям. Картины Искандера отличаются не столько верностию рисунка и тонкостию кисти, сколько глубоким знанием изображаемой им действительности, они отличаются больше фактической, нежели поэтическою истиной, увлекательны словом не столько поэтическим, сколько исполненным ума, мысли, юмора и остроумия, – всегда поражающими оригинальностью и новостию… В таланте г. Гончарова поэзия – агент первый и единственный…»[35]35
Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. С. 343–344.
[Закрыть]
Из воспоминаний Гончарова мы узнаем, что Белинский порой буквально накидывался на него за то, что он не выказывал никакой злости, никакого раздражения, никаких субъективных чувств:
«“Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, – всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!” И это скажет (и не раз говорил) с какою-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шепотом: “А это хорошо, это и нужно, это признак художника!” – как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю»[36]36
Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1972. Т. 6. С. 427.
[Закрыть].
Возможно, Герцен Белинскому нравился больше, но в глазах Белинского Гончаров был художником, а Герцен – все-таки нет.
Позиция Белинского кристально ясна: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии – в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное»[37]37
Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. С. 303.
[Закрыть]. Дело в том, что «направление» писателя (его обязательства перед обществом) «должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего… Идея… не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и для всякой литературной деятельности»[38]38
Там же. С. 312.
[Закрыть]. Но и на этом Белинский остановиться не может. Мы уже обращали внимание на его слова в статье о Пушкине от 1844 года: «…каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов»[39]39
См. выше, соответствующую сноску к этой статье.
[Закрыть]. По радикализму это высказывание лишь немногим уступает нашумевшему приговору 1845 года: «Теперь искусство – не господин, а раб; оно служит посторонним для него целям»[40]40
Белинский В.Г. ПСС. Т. 9. С. 78.
[Закрыть]. Хотя он уточняет, что это относится только к «критическим» эпохам (так сенсимонисты называли переходные периоды, когда старое, сделавшись невыносимым, рушится и агонизирует, а нового еще нет), перед нами тем не менее неподдельный «cri de coeur»[41]41
«Крик души» (фр.).
[Закрыть]. Это не что иное, как перефразированные в более жестком ключе его же высказывания 1843 года: «наше время алчет убеждений, томится голодом истины»[42]42
Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 267.
[Закрыть] и «наш век – весь вопрос, весь стремление, весь искание и тоска по истине»[43]43
Там же. С. 269.
[Закрыть].
Вот самое раннее и самое пронзительное определение тоски, зачастую переходящей в мучительное самокопание, – тоски, которой отныне суждено терзаться русской интеллигенции. Впредь ни один русский писатель не сможет до конца освободиться от этой нравственной позиции: даже отказываясь подчиняться ее давлению, он будет чувствовать, что надо объясняться с ней, искать компромиссы. Однако в 1846 году Белинский сообщает нам, говоря о «Каменном госте» Пушкина, что это – истинный шедевр, что подлинным любителям искусства он должен казаться «лучшим и высшим в художественном отношении созданием Пушкина», «перлом созданий Пушкина, богатейшим, роскошнейшим алмазом в его поэтическом венке», а затем добавляет, что искусство такого рода не может снискать популярности – оно создается для немногих, но эти «немногие» будут любить его со «страстью» и с «энтузиазмом», и к этим «немногим» причисляет себя[44]44
Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 569.
[Закрыть]. Таких противоречий, которые, возможно, лишь кажутся противоречиями, в последние годы его жизни становится все больше. В уже процитированном мной обзоре русской литературы за 1847 год – изумительной статье, которая в каком-то смысле стала его лебединой песней, – мы находим самые знаменитые его строки:
«Отнимать у искусства право служить общественным интересам – значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит – лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия»[45]45
Там же. Т. 10. С. 311.
[Закрыть].
Но чуть ниже следует пассаж, который я уже частично цитировал: «Теперь многих увлекает волшебное словцо “направление”; думают, что все дело в нем, и не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и сознательною мыслию, – что для него, этого направления, так же надобно родиться, как и для самого искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал… если у вас нет поэтического таланта… идеи и направления останутся общими реторическими местами»[46]46
Там же. С. 312. Сравните с: ПСС. Т. 7. С. 311: «У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята, – произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое».
[Закрыть].
Если из-под пера настоящего писателя вышли слова или образы, «проведенные через собственную натуру, получившие отпечаток его личности», самый отъявленный формалист не откажет им в праве считаться произведениями искусства, даже если вызвали их злободневные «проклятые вопросы»[47]47
Хотя к 30-м годам XIX века слово «вопросы» широко использовалось по отношению к социальным проблемам, волновавшим русскую интеллигенцию, автором крылатого выражения «проклятые вопросы» был, по всей видимости, М.Л. Михайлов – в 1858 году, переводя стихотворение Гейне «Zum Lazarus» (1853–1854), он так передал по-русски слова «die verdammten Fragen» (см.: Стихотворения Гейне // Современник. 1858. № 3. С. 125, и с. 225 третьего тома собрания сочинений Гейне – «Heinrich Heines Samtliche Werke», вышедшего в издательстве «Oskar Walzel» (Лейпциг, 1913). Возможна и другая версия: эта точная калька со слов Гейне уже существовала, и Михайлов просто ею воспользовался. Однако мне не удалось найти его в печатных текстах до Михайлова. – Примеч. ред. англ. изд.
[Закрыть]. По всем признакам, Белинский и на этом не успокаивается. Он подчеркивает, что социальная ситуация налагает на писателя особые обязательства: что в такие времена он не волен сочинять только ради собственного удовольствия, что одного гедонизма недостаточно, и читатель имеет право требовать, чтобы писатель поднимал острые социальные вопросы. Есть и фатальное заявление Белинского – сделанное лишь единожды, но этого хватило – о том, что в наши ужасные времена искусство должно быть рабом, служителем посторонних целей. Это уже безапелляционность того сорта, на которую французские адепты «чистого искусства» отвечали неистовыми и вполне резонными контратаками. Одновременно Белинский открыто заявляет, что и сам считает творчество Гете искусством par excellence – как свойственно великому искусству, оно отражает глубочайшие тенденции своего времени; но в нем нет «направления», как нет «направления» в «Каменном госте», этом «перле» пушкинского творчества. Что же касается «Онегина», этой «энциклопедии русской жизни»[48]48
Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 503.
[Закрыть], его «направление», видимо, неверно. Белинский критикует Пушкина за то, что тот заставил Татьяну остаться с нелюбимым мужем, проповедуя конформистское смирение перед лживыми устоями общества, к которому она принадлежит: точно так же Анна Ахматова как-то подосадовала, что Толстой убил Анну Каренину не в соответствии со своим собственным нравственным кодексом – сам-то он знал, что правда на ее стороне, – а в угоду своим московским тетушкам. Однако Белинский и помыслить не может о том, чтобы отказать в высокой гениальности чистейшим, напрочь лишенным социального «направления» стихотворениям Пушкина; на эстетизм Пушкина он не сетует.
Что же в таком случае он декларирует? Неужели Белинский – просто впечатлительный неуч с кашей в голове, исключенный из университета за недостаточные умственные способности, клубок пламенных, но несвязных, нестройных чувств, живое доказательство того, что одной искренностью и горячностью не обойдешься, жалкий самоучка, каким его изображали позднейшие литературные критики – Волынский, Айхенвальд, Чижевский? Эти критики писали, что свои мысли он получал готовыми от других, а потом вываливал их, не обдумывая, не упорядочивая, без удержу, хаотично, с бухты-барахты. Пожалуй, говорят они, его можно и простить – ему приходится работать с лихорадочной скоростью, добывая хлеб насущный, но воззрения его не следует воспринимать всерьез. Это – чистая, даже благородная душа, но не авторитет и даже не самобытная личность, в лучшем случае симптом интеллектуально-сырой, нервной молодости той эпохи; как критик он недостоин и прикасаться к одеждам Шлегеля, Сент-Бева или даже Гершензона. И в наши времена его иногда обвиняют в том, что он создал занудную утилитарную или дидактическую критику (или, по крайней мере, подготовил почву для нее), вменяют ему в вину грубые и жестокие нападки на теорию и практику «чистого искусства», на которые не скупились его эпигоны и принявшие у них эстафету госинспекторы современной нам советской литературы.
Такого мнения придерживается, в сущности, и современный американский исследователь, написавший самую вдумчивую и оригинальную, по моему мнению, работу о Белинском, Руфус Мэтьюсон, чья книга «Положительный герой в русской литературе»[49]49
Mathewson Rufus W. The Positive Hero in Russian Literature. 2-d ed. Standford, 1975.
[Закрыть] показалась мне, хотя я не согласен с ее идеями, настоящим шедевром исследовательской проницательности. Однако я не считаю справедливым приговор, вынесенный Мэтьюсоном Белинскому, – а именно, что тот, не будучи представителем авторитаризма или тоталитаризма, все же заложил их фундамент[50]50
Ibid. Р. 42.
[Закрыть]. Подчеркну: никогда, даже в моменты наибольшего неистовства и неприятия эстетизма, Белинский не отрицал, что искусство есть искусство и что судить его должно по законам эстетики. Ключевым мне тут кажется его противопоставление Гончарова Герцену. Герцен по сердцу Белинскому, «направление» Герцена он принимает всей душой, а взглядам Гончарова не особенно симпатизирует; тем не менее художником считает не Герцена, а Гончарова. Преданное служение Белинского русской литературе: он увенчал лаврами Пушкина, воспел хвалу Гоголю, открыл Достоевского, Гончарова, Тургенева, окончательно расчистил путь от всяческих Кукольников, Марлинских, Загоскиных и Сенковских – эта славная, в буквальном смысле эпохальная работа делалась без оглядки на то, насколько внимательны эти писатели к проблемам общества, без сознательной или бессознательной опоры на критерии, отличающие позиции радикалов от взглядов либералов (кстати, блестяще сформулированные Мэтьюсоном): радикал считает, что писатель – производное от свойственной этому писателю идеологии, а либерал воспринимает идеологию как производное от темперамента и индивидуальности писателя.
Разумеется, социальные вопросы волновали Белинского – и гораздо сильнее, чем большинство его современников; безусловно, ему хотелось, чтобы лучшие художники его времени откликались душой на социальную действительность, которую по определению сознавали и чувствовали тоньше, чем их менее даровитые собратья. Он, возможно, предпочел бы, чтобы Гончаров не был холодным наблюдателем, отрешенно фиксирующим нравственные качества и социальное положение своих персонажей, ведь Белинский полагал, правомерно или неправомерно, что глубокая озабоченность нравственными вопросами не обязательно препятствует чисто художественным достижениям. Он знал – и говорил вслух, – что Григорович второстепенный художник, даже когда превозносил его умение обнажить перед читателем ужасы крестьянской жизни; он предпочел бы, чтобы Пушкин порвал с той удобной моралью, которую Белинский относил на счет его сословно-классовой принадлежности, социального положения и воспитания. Все это так. Но, на мой взгляд, Белинский никогда не позволял своим тревогам об обществе, которые, признаюсь, и я в чем-то разделяю, толкнуть его на путь отрицания или извращения художественной ценности писателей, чье творчество он анализирует (кстати, многих из них он открыл первым).
Ошибки Белинского представляются мне, по большей их части, скорее огрехами вкуса, чем следствием социальной, политической либо нравственной предвзятости; он не занимается искусственным продвижением «прогрессистов» за счет реакционеров, консерваторов, колеблющихся либералов или тех, кто равнодушен к общественной жизни. Мысль, что «Фауст» Гете – воплощение духа своего времени и общества, Белинский выводит из того, что «Фауст» – великое произведение искусства. Другими словами, он не говорит, что «Фауст» – велик, ибо автор придал ему сознательное социальное направление. Сердцем Белинский глубоко презирал холодную натуру Гете и его конформистский, робкий, консервативный образ жизни – и все же ни на миг не усомнился в его гениальности по сравнению с заурядными способностями таких обеспокоенных социальными проблемами, сострадающих униженным и оскорбленным писателей, как, к примеру, Гюго, Эжен Сю или Григорович. Правда, Белинский – как и все его современники – сильно переоценил дар Жорж Санд, но это не в счет. Мэтьюсон справедливо предполагает, что доктрина обязательств перед обществом сковывает художественную деятельность уже тем, что препятствует созданию противоречивых, амбивалентных произведений. Он цитирует Чехова, сказавшего примерно так: дело художника – не предлагать решение, а правильно поставить вопрос перед читателем[51]51
См: Mathewson Rufus W. The Positive Hero in Russian Literature. Р. 93; отрывок взят из письма Чехова Суворину от 27 октября 1888 года (Мэтьюсон приводит неверную дату).
[Закрыть]; кстати, именно это, на взгляд Белинского, и делал Гончаров. В конечном счете Белинский не требует от художника ничего, кроме творческой одаренности и искренности; ему достаточно, чтобы тот исследовал и образно выражал все что угодно – лишь бы он действительно пережил это сам, на собственном опыте. Он критикует лишь то, что кажется ему фальшью, – например, подмену действительности идиллиями, фантазиями, псевдоклассическими пастишами, преувеличениями, экстравагантными выдумками, архаикой, все эти попытки бегства от того, что действительно «прожито» писателем. Именно поэтому Белинский порой нападает на влюбленность романтиков в старину и их увлеченность региональными культурами – для него это безнадежные экспедиции в дальние или экзотические закоулки жизни, отчаянные попытки любой ценой увильнуть от самопознания. Так формируется некая этика искусства, концепция определенной ответственности художника, который словно бы связан клятвой говорить только правду. Но это совсем не то, что терпеть, а тем более приветствовать контроль общества или политиков над искусством или хотя бы государственное меценатство в той его форме, к какой сам Сент-Бев настойчиво пытался склонить Наполеона III.
Позвольте мне пойти еще дальше: позиция Белинского действительно обрекает его воспринимать искусство как говорящий голос, как форму коммуникации между двумя людьми или анонимными группами людей, создателями «Эдд» или храмов Ангкор-Вата. Эта идея впрямую оспаривает мнение оппонентов, отлично выраженное, к примеру, у Готье и состоящее в том, что высшая цель существования художника – это делать красивые вещи, будь то эпические поэмы или серебряные шкатулки, а личность художника, его мотивы, его жизнь, волнующие его проблемы, его характер, повлиявшие на него социальные или психологические обстоятельства – все это не имеет ни малейшего значения для самого произведения искусства, которое, как полагал Т.С. Элиот, само себе светит. Таковы, несомненно, были убеждения критиков-классицистов XVII–XVIII веков, такова доктрина, которую, в разных ее формах, яро отстаивали Бодлер и Флобер, Малларме и Элиот, Патер[52]52
Патер, Уолтер Горацио (1839–1894), английский теоретик эстетики. – Примеч. пер.
[Закрыть] и Пруст, да и сам Гете. У нее достаточно защитников и в наши дни.
Для Белинского вышеизложенная доктрина была пагубным заблуждением – но не по тем причинам, которыми сегодня руководствуются фрейдисты, марксисты или психологи-когнитивисты. Белинский считал, что человек – это нечто целостное, а не составное, не разделенное на уровни или роли. Если то, что человек говорит в одном качестве, не соответствует тому, что он говорит в другом качестве, значит, тут имеет место фальшь или, в любом случае, снижение пафоса – слова превращаются в машинальный жест либо дань условности. Если слова, которые некий человек говорит неважно в каком качестве – как художник, как судья, как солдат, как трубочист, окажутся ложными или неискренними в том случае, если он произнесет их, выступая в ином качестве – как отец, как революционер, как влюбленный, тогда эти слова фальшивы или пусты даже в их первоначальном контексте. Нет сферы, где с человека слагалась бы ответственность под тем предлогом, будто он всего лишь выполняет свою функцию, «métier»[53]53
род занятий (фр.) Здесь – «профессиональные обязанности». – Примеч. пер.
[Закрыть], или играет роль. Если ты решаешь скрыть правду, подменить ее фантазиями, изменить своему жизненному материалу, играть на впечатлительном человеческом сердце, как на музыкальном инструменте, если ты решаешь возбуждать, развлекать, пугать, прельщать, ты используешь свой дар, чтобы достигнуть власти, извлечь наслаждение, получить прибыль, и тем самым предаешь то человеческое, что в тебе есть. Ради политики в самом низменном, отвратительном смысле ты бессовестно попираешь ногами или, по крайней мере, отбрасываешь то самое, известное тебе и всем людям на свете, подлинное предназначение человечества.
Искусство – не журналистика и не нравоучение. Искусство есть искусство, но это не избавляет его, а еще точнее – художника, от ответственности. Творческая деятельность – не костюм, который можно по настроению надевать и снимать: это либо выражение нераздельной сущности, либо ничто. Гениальный творец и филистер могут уживаться в одном человеке – у Гете это доказывают «Герман и Доротея» и «Избирательное сродство», в случае Гегеля – его характер и биография. Значимо лишь то, что выражает произведение искусства, и неважно, порождено ли оно сознательными усилиями или неясным инстинктом: ибо произведение – это и есть его создатель, его наиподлиннейший голос, его «я». Шекспир, Мильтон, Диккенс, Рафаэль, Гоголь для Белинского равны их произведениям; их личная жизнь не имеет к нему прямого отношения – важно лишь их мировоззрение, вескость и глубина мыслей, важен их подход к основным проблемам, над которыми человечество мучительно размышляет от начала времен.
Эта позиция, с которой Белинский после 1842–1843 годов уже не сойдет, восходит скорее к Сен-Симону или его ученикам, чем к Фейербаху. Ее первоисточник – шиллеровская концепция художника как мстителя за оскорбленную природу, как строителя, восстанавливающего цельного человека, который был изуродован или уничтожен условностями, а также метафора Августа Вильгельма Шлегеля, уподобившего художника зажигательному стеклу, в котором глубочайшие и самые характерные тенденции общества и эпохи собираются в единый пучок, очищаются и преображаются в яркую квинтэссенцию реальности, с коей неспособно соперничать воспроизведение разрозненных фрагментов обыденной жизни. Историк русской литературы обнаружит здесь начало луча, протянувшегося к Толстому и Тургеневу, к некоторым из лучших критических статей Михайловского и Плеханова, а на противоположном конце спектра окажутся шестидесятники и редукционный материализм Чернышевского, идеологизированный радикализм Добролюбова, свойственные Писареву одержимость наукой и неимоверное презрение к чисто художественным задачам, не говоря уже о штампах официозных советских формулировок. А непосредственным истоком этого центрального течения русской мысли и словесности, влияние которого на Запад за последние сто лет не поддается никакому учету, мне кажется, – не что иное, как полемика сенсимонистов со сторонниками «чистого искусства». Социальные корни и косвенные следствия этой роковой схватки – уже совсем другая история.
III
Но на этом тема не исчерпана. Возгласы Белинского – при всей их изолированности, – что «теперь искусство – не господин, а раб»[54]54
Белинский В.Г. ПСС. Т. 9. С. 78.
[Закрыть] или что «чистое искусство в наше время невозможно»[55]55
Там же. Р. 77.
[Закрыть] отнюдь не равносильны утверждению, что художник – а следовательно, и его творчество – обязательно уходит корнями в конкретные социальные обстоятельства, а оторвавшись от них, непременно увянет или деградирует до голой развлекательности. Белинский заходит гораздо дальше, оставляя французские первоисточники своих идей далеко позади, и этот факт придает вес притязаниям Добролюбова на право считаться последователем Белинского. Истина, как мне представляется, в том, что Белинский (пользуясь тургеневской метафорой) – это Дон Кихот, человек страстный, целеустремленный, готовый умереть за свои убеждения и в то же самое время снедаемый неразрешимыми внутренними противоречиями. С одной стороны, литературу он обожал: он был наделен необыкновенным инстинктивным чутьем, позволявшим безошибочно отличать настоящую литературу от подделки; его дар выдержал испытание временем; благодаря своему чутью он стал самым самобытным, самым влиятельным и (несмотря на несколько случаев, когда вкус его катастрофически подводил) самым справедливым и проницательным литературным критиком России в XIX столетии. Литература – первая и последняя любовь всей его жизни: потребность окунуться с головой в мир писателя, испытать его чувства, полностью принять его точку зрения – это свойство субъективное, очень личное, особая способность к психологической, эстетической абсорбции, упражнение в том, что Гердер называл «Hineinfühlen»[56]56
«Hineinfühlen» дословно «вчувствоваться» (нем.). – Примеч. пер. – «Herder’s sämmtliche Werke». Берлин: Изд-во «Bernhard Suphan»; 1877–1913. Т. 5. С. 503. – Примеч. автора.
[Закрыть], неподвластное требованиям, налагаемым социальными обстоятельствами и меняющимися от эпохе к эпохи потребностями людей. Одновременно Белинский искал для себя всеобъемлющую, несокрушимо верную идеологию; в его времена «голод истины» был повсеместным, но никто мучительнее Белинского не страдал за Россию с ее несправедливостью, нищетой, жестоким произволом – и никто так ярко не описал все ее ужасы на бумаге. Итак, он отчаянно пытался найти ответ на вопрос, каким следует быть человеку, как нужно жить; он надеялся и мечтал, что все сферы человеческой деятельности – прежде всего литература, составлявшая для него всю жизнь, – займутся этим и помогут искателям истины. Он готов принести себя в жертву своим идеям, он готов биться не на жизнь, а на смерть с врагами доктрины, добытой ценою многих мук. Он сознает свои недостатки, знает за собой склонность переоценивать чисто общественно-политическую значимость текста – ведь если тот не имеет художественной ценности, то, каким бы похвальным целям он ни служил, он будет чем угодно, только не литературным произведением. На этом Белинский не устает настаивать до последнего вздоха – и одновременно сознается, что в душе пристрастен. В знаменитом письме Василию Боткину он пишет, что пусть даже в повести недостаточно поэзии и художественности – если она «сколько-нибудь дельна», он «не читает, а пожирает ее», лишь бы она «не отзывалась диссертациею» или «не впадала в аллегорию». «Главное, чтобы она [повесть] вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление»[57]57
Белинский В.Г. ПСС. Т. 12. С. 445.
[Закрыть]. Он признается, что даже низкосортная беллетристика, если она имеет общественное значение, содержит мысли, вызывает вопросы, порой может взволновать его душу сильнее, чем любое произведение искусства. Я веду к тому, что Белинский не путает эти два жанра: искусство остается искусством вне зависимости от своей общественной значимости и сохраняет свою нетленную ценность вне зависимости от ценности социальной; меж тем как самая глубокая заинтересованность социальными проблемами, самый глубокий ум и искренность писателя еще не делают текст произведением искусства. Шиллер благороднее и сердечнее Гете, но как художник Гете более велик. В этом Белинский не сомневался.
Мучительные споры, бушевавшие в душе Белинского, сильно повлияли на его современников. Белинского за границей не читали; но великие русские прозаики, сформировавшиеся именно при нем, и более поздние проповедники социальных преобразований со временем оказали воздействие на западную мысль. Тут имело место явление, которое я назвал «эффектом бумеранга»; если его не учесть, история западной культуры будет неполной.
IV
Судьбы сенсимонистского движения во Франции широко известны: некоторые из ближайших учеников его отца-основателя, вдохновленные идеей плановой централизованной индустриализации, стали преуспевающими банкирами и «железнодорожными королями», именно они организовали строительство Суэцкого и Панамского каналов. На основе доктрины Сен-Симона его ученик Огюст Конт создал позитивизм, который глубоко повлиял на марксизм, а также сказался на развитии других, более умеренных учений социалистов и радикалов второй половины века. Идеи сенсимонистов, распространяясь из вышеописанной точки, заняли свое место рядом с другими идеологическими течениями – консервативными, либеральными, монархистскими, марксистскими, клерикальными, антиклерикальными – и, по-разному комбинируясь с ними, образовали социальную, экономическую и интеллектуальную историю Второй империи и Третьей республики.
В России их последствия не столь бросались в глаза, но оказались более глубокими, поистине революционными. Сенсимонизм стал первой цельной идеологией, которую открыло для себя нравственно и умственно впечатлительное меньшинство, искавшее комплекс принципов, который мог бы послужить руководством к действию, – и тут отлично подошли идеи, изложенные в работах левых сенсимонистов: социалистических трактатах и статьях Пьера Леру и его единомышленников по «Ревю индепендан», яростных филиппиках против капитализма, что выходили из-под пера их верного ученика Ламенне, но прежде всего в социалистических романах Жорж Санд. Нравственный идеализм этого движения повлиял на Герцена, Белинского и их друзей, когда они были в самом впечатлительном возрасте, и, как бы разительно ни менялись потом их личные воззрения, этот гуманный и цивилизованный радикализм с его искренней ненавистью к социальному неравенству и жестокой эксплуатации слабых сильными неотступно владел их умами. И именно эту деятельность в ее организованных, институциализированных формах – на основе марксизма, на основе ли позитивизма – позднее высмеивал и обличал Достоевский, в молодости тоже подпавший под влияние более ограниченной, но в социальном плане еще более радикальной доктрины Фурье.
Я вовсе не хочу сказать, что если бы Герцен и его друзья не прочли Сен-Симона, либо если бы Белинский с Тургеневым в самый подходящий момент не прочли Жорж Санд, либо если бы в Россию не ввозили контрабандой трактаты Пьера Леру, Луи Блана или, если уж на то пошло, Фурье и Фейербаха, то в 40-х годах XIX века не было бы никакого общественного недовольства, никаких кающихся дворян, а в 60-х – никаких заговоров, репрессий и, хотя бы в зачатке, организованного революционного движения. Такое утверждение нелепо. Мне просто хочется отметить, что русская мысль и литература приобрели известные нам формы прежде всего благодаря влиянию, оказанному на конкретные слои русского общества 30–40-х годов XIX века данными французскими доктринами и возникшими на их основе дискуссиями – особенно теми, что касались искусства. Не знаю, была ли это прямая причинно-следственная связь или просто благоприятное стечение обстоятельств, в любом случае именно сенсимонистская закваска и вызванное ею противодействие указали Герцену и Белинскому направление, которому оба они остались верны до конца. Процесс, в течение которого это конкретное семя было заронено в ту необыкновенно плодородную почву, которую являли собой молодые русские интеллигенты, взыскующие идеалов, сыграл, как мне хочется верить, более значимую, чем принято считать, роль в развитии русского либерализма и русского радикализма, как умеренного, так и революционного. Отсюда естественно следует, что доктрина эта должна была буквально преобразить главную фигуру этого периода – Белинского, являвшего собой ярчайший, беспримерный образец обеспокоенного нравственными вопросами литератора; сила его влияния (о которой равно свидетельствуют популярность его идей и сопротивление им) на мысль и дело в его родной стране, а затем и в остальном мире кажется мне доселе недооцененной по достоинству.
Таков мой первый тезис. Я хотел бы дополнить его вторым, а именно подчеркнуть, что ни Белинский, ни кто-либо из его друзей ни разу не поддались искушению той привычной для нас идеи, будто искусство, и в особенности литература, не может состояться как искусство, если оно не выполняет прямую социальную функцию – не становится оружием в борьбе прогрессивной части человечества. Как близко ни подходил бы порой Белинский к этой мысли, требуя, чтобы искусство забыло приличествующие ему задачи и обслуживало посторонние потребности, он никогда не путал искусство с нравоучением и тем более с пропагандой в любой форме. В этом смысле Чернышевский и Добролюбов, Плеханов и советские толкователи, взявшие у Белинского только то, что им было нужно, исказили его образ.
Возможно, еще более поучительна история его друга и в некотором роде ученика – Ивана Сергеевича Тургенева. Изо всех русских прозаиков, пожалуй, именно Тургенев наиболее близок к западному идеалу чистого художника. Если он и пронес сквозь свою жизнь какое-либо твердое убеждение, это была вера, что искусство в наивысшей его форме не проводник сознательных воззрений художника, но что-то вроде «отрицательной способности», как у Шекспира, которого Шиллер назвал богом, сокрытым за своими собственными творениями и реализовавшим себя через эти творения, чья цель – они сами. Главной причиной нелюбви Тургенева к Чернышевскому (помимо того факта, что Чернышевский вызывал у него брезгливое презрение как человек и критик) были настойчивые утилитаристские призывы подчинить искусство политике, науке, этике, поскольку искусству прежде всего приличествует действие – преобразование общества, сотворение нового человека. Когда Тургенев заставляет Рудина сказать: «Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? как может он знать, что он должен сам делать, если…»[58]58
Тургенев И.С. ПССП. Сочинения. Т. 6. С. 263.
[Закрыть] – это говорит не автор, а Бакунин или какой-то другой типичный русский радикал 40-х годов. У Тургенева голос совсем другой. Самая сущность его натуры, как мне кажется, лучше всего выражена в его словах из письма к Полине Виардо от 1848 года:









































