Текст книги "История свободы. Россия"
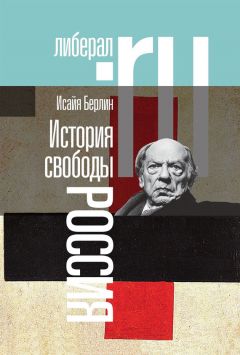
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Две позиции, которые я пытался обрисовать, можно обнаружить и в спорах между «чистыми» и «общественно активными» русскими художниками и критиками, и при рассмотрении борьбы, которую каждый из них вел с самим собой. В этом сражении участвовали, но так и не смогли найти решение проблемы выдающиеся писатели: Тургенев, Толстой, Герцен, Белинский. Этим отчасти объясняется непреходящая живучесть их теоретических дискуссий, в то время как аргументы большинства их западных современников – Леру, Шасле и даже Тэна с Ренаном – кажутся мертвыми. Ибо речь идет о проблеме, которая, будучи стержнем социальных конфликтов в современном обществе, остро проявляется только в относительно отсталых странах, где отсутствует дисциплинированность, порождаемая богатой и сильной традиционной культурой, в странах, насильственно понуждаемых приспосабливаться под чуждые структуры и в то же самое время еще свободных – во всяком случае, пока свободных – от практического тотального контроля над жизнью и искусством.
Герцен и Бакунин о свободе личности[82]82
«Artistic Commitment: The Russian Legacy» © Isaiah Berlin 1996
[Закрыть]
– Жизнь человека – великий социальный долг, – <сказал Луи Блан>, – человек должен постоянно приносить себя в жертву обществу.
– Зачем же? – спросил я вдруг.
– Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица – благосостояние общества.
– Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.
– Это игра слов.
– Варварская сбивчивость понятий, – говорил я, смеясь.
С 13 лет… я служил одной идее, был под одним знаменем – война против всякой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. И я буду продолжать эту маленькую партизанскую войну, как настоящий казак, auf eigene Faust[84]84
на свой страх и риск (нем.).
[Закрыть] – как говорят немцы.
I
Из всех русских революционных писателей XIX столетия больше всего привлекают внимание Герцен и Бакунин. Они очень различны и по сути своих учений, и по темпераменту, но едины в одном: идеал свободы личности стоит в центре их идей и действий. Оба посвятили жизнь бунту против любой формы угнетения – социального и политического, общественного и частного, явного и скрытого, но само многообразие их талантов привело к некоторой неясности в оценке их воззрений по этой ключевой проблеме.
Бакунин был одаренным журналистом, а Герцен – гениальным писателем, чья автобиография остается одним из шедевров русской прозы. Как публицист он выше всех в XIX столетии, благодаря уникальному сочетанию живости воображения, меткой наблюдательности, внутренней страстности и остроумия. Это и определяет его писательскую манеру, язвительную и изысканную, ироничную и яркую, живо захватывающую и возвышающуюся до необычайного благородства чувства и выражения. То, что Мадзини сделал для итальянцев, Герцен осуществил для своих соотечественников: он создал, практически в одиночку, традицию и «идеологию» систематической революционной агитации и, таким образом, стал основателем революционного движения в России. Вклад Бакунина в русскую литературу не столь велик, но по личному обаянию он не знал себе равных даже в тот героический век народных трибунов. От него идет традиция политической конспирации, которая сыграла важнейшую роль во всех крупных переворотах ХХ века. И все же как раз эти достижения, которые обеспечили обоим друзьям и соратникам право на бессмертие, способствовали тому, что их относительная ценность как политических и социальных мыслителей оказалась нераскрытой. Ведь Бакунин при всем своем удивительном красноречии, при способности к ясной, умной, энергичной, а порой и сокрушительной критике редко выражается точно, глубоко или прочувствованно, то есть на основании «прожитого», в любом смысле этого слова, тогда как Герцен, несмотря на его яркость, безрассудную спонтанность и пресловутую «пиротехнику», выражает смелые и оригинальные идеи и вправе считаться первоклассным политическим (а значит, нравственным) мыслителем. Рассматривая его взгляды наряду со взглядами Бакунина как некоторую форму полуанархического «народничества» или, наряду с идеями Прудона, Робертса или Чернышевского, как еще один вариант раннего социализма с аграрным уклоном, мы упустили бы самый значительный его вклад в политическую теорию. Эту несправедливость следует исправить. Основные политические идеи Герцена уникальны не только по российским, но и по европейским стандартам. Россия не так уж богата первоклассными мыслителями, чтобы не обратить внимания на одного из трех гениальных духовных учителей, родившихся на ее земле.
II
Александр Герцен рос в мире, где царили французский и немецкий романтизм. Провал Великой французской революции дискредитировал оптимизм натурфилософии XVIII столетия столь же глубоко, сколь русская революция в ХХ веке ослабила престиж викторианского либерализма. Центральным понятием Просвещения была убежденность в том, что главные причины человеческих бед, несправедливости и угнетения – невежество и безрассудство. Точное знание законов, правящих в мире природы и раз и навсегда открытых и сформулированных божественным Ньютоном, должно было со временем обеспечить человечеству господство над природой; осознав неизменные причинные законы природы и подчинившись им, люди начнут жить так хорошо и счастливо, сколь это возможно по самой сути этого мира; во всяком случае, они избегнут страданий и нестроений, проистекающих из пустых и невежественных попыток противостоять этим законам или обойти их. Одни считали, что мир, как и представлялось Ньютону, – то, что он есть de facto, без всякой причины; конечная, необъясненная реальность. Другие верили, что они могут открыть рациональный план – «природный» или божественный Промысел, руководствующийся конечной целью, к которой стремится все творение; и человек, подчинившись ему, не склонится перед слепой необходимостью, но сознательно признает ту роль, которую он играл в гармоничном, ясном и тем самым оправданном процессе. Но независимо от того, использовалось ли Ньютоново построение как чистое описание или как теодицея, оно становилось идеальной парадигмой любого объяснения; гению Локка оставалось указать тот путь, следуя по которому можно упорядочить и объяснить на основе тех же самых принципов нравственный и духовный мир. Если естественные науки позволяют людям формировать материальный мир согласно своим желаниям, этика дала бы им возможность так регулировать свое поведение, чтобы навсегда избежать несоответствия между убеждениями и фактами и положить конец любому злу, невежеству и отчаянию. Если бы вместо королей, аристократов, священства и их одураченных сторонников миром правили философы – и натурфилософы, и моралисты, – то в принципе можно было бы достигнуть всеобщего счастья.
Последствия Французской революции разрушили магию этих идей. Среди учений, которые пытались объяснить, что же тут неверно, доминирующее положение занял немецкий романтизм, и в субъективно-мистической, и в национально-освободительной формах, и в особенности – движение гегельянцев. Здесь не место его исследовать; достаточно сказать одно: он сохранил положения о том, что мир подчиняется доступным для понимания законам; что, согласно некому неизбежному плану, прогресс возможен и тождественен развитию «духовных» сил; что ученые могут открыть эти законы и научить им остальных. Для последователей Гегеля величайший грех французских материалистов заключался в предположении, что эти законы механистичны, что вселенная сложена из отдельных элементов, из молекул, или атомов, или клеток и что все можно объяснить и предсказать в терминах пространственного движения тел. Человек стал не просто сочетанием частиц, он являл собой душу или дух, подчиняющиеся уникальным и сложным законам. Человеческие сообщества стали не просто собранием индивидуумов; они тоже обладали внутренней структурой, аналогичной психической организации отдельной души, и преследовали цели, которых в той или иной степени могли не осознавать входящие в них люди. Знание давало истинную свободу. Только те, кто знает, почему все так, а не иначе и почему неразумны все другие варианты, могут быть поистине разумными, то есть сотрудничать с мирозданием сознательно, а не лезть на рожон, вопреки упрямой «логике фактов». Единственно достижимые цели – только те, которые входят в модель исторического развития. Только они рациональны в силу того, что сама модель рациональна. Любая неудача свидетельствует о неразумности; о том, что мы не поняли, чего требует время, и не осознали, куда движется разум. На каждом отдельном этапе этого развития человек выбирает те ценности (неважно, хорошие или плохие, справедливые или несправедливые, прекрасные или уродливые), которые входят в разумную модель. Осуждая неизбежное или жалея о том, чего не было, мы отвергаем разумные ответы на вопросы: что делать и как жить? Сопротивляться течению равносильно самоубийству, что само по себе чистое безумие. Согласно этому воззрению, и доброта, и благородство, и справедливость, и сила, и неизбежность, и разум в конечном счете – одно и то же; всякий конфликт между ними исключен по логике вещей, a priori. Что касается самой модели, тут могли быть различия. Гердер представлял ее как развитие разных культур. Гегель – как развитие национального государства. У Сен-Симона была более обширная модель единой западной цивилизации, а главную роль в ней играли технический прогресс и противоречия между экономически обусловленными классами, а внутри этих классов решающее влияние принадлежало исключительным личностям – нравственным, интеллектуальным или художественным гениям. Мадзини и Мишле говорили о внутреннем духе каждого народа, пытающегося на свой собственный манер утвердить общечеловеческие ценности, противостоя таким образом личному угнетению или слепой природе. Маркс понимал ее как историю борьбы общественных классов, возникших в ходе развития производительных сил и определяемых в рамках этого развития. Для политико-религиозных мыслителей Германии и Франции это была historia sacra[86]86
священная история (лат.).
[Закрыть], то есть борьба падшего человека за обретение союза с Богом, а в конечном итоге – за установление теократии и подчинение светских сил царству Бога на земле.
Существовало много разновидностей этих основных учений. Некоторые тяготели к гегельянству, другие – к мистике, третьи возвращались к натурализму XVIII века; и все они сражались, обличали ереси, сокрушали бунтарей. Но всех объединяла вера в то, что, во-первых, вселенная подчиняется законам и представляет собой некую модель, которая либо постижима разумом, либо открывается опытным путем, либо является в виде мистического откровения; во-вторых, люди – это элементы неких целокупностей, которые больше и сильнее их, так что поведение человека можно объяснить в терминах этой целокупности, а не наоборот; в-третьих, ответить на вопрос о том, что же надо делать, можно только в том случае, если мы знаем цель объективных процессов истории, в которые люди вовлечены помимо их воли, и ответы эти одинаковы для всех, чье знание истинно, то есть для разумных существ; в-четвертых, ничто не может быть дурным, или жестоким, или глупым, или уродливым, если оно необходимо для достижения объективно данной цели, – оно не может, по крайней мере, быть плохим «в конечном счете» (хотя, на первый взгляд, и может так выглядеть), и наоборот, все, что противоречит этой великой цели, заведомо плохо. Могли существовать разные мнения о том, неизбежны ли эти цели, – тем самым автоматичен ли прогресс, или, напротив, люди свободны в выборе и могут осуществлять их или игнорировать, пустив все на волю волн. Но все сходились в том, что можно найти справедливые для всех объективные цели и только они единственно достойны общественной, политической или личной деятельности. В противном случае мир нельзя рассматривать как «космос» с его действительными законами и объективными требованиями; все убеждения, все ценности окажутся относительными, субъективными, зависящими от настроения и случая, неоправданными и не имеющими оправдания – а этого быть не может.
Против этого грандиозного и всепоглощающего мировоззрения, философской вершины эпохи, которое открыл и перед которым преклонялся метафизический гений Германии, украшая бесчисленными образами; которое признали самые глубокие и почитаемые мыслители Франции, Италии и России, – именно против него неистово восстал Герцен. Он отверг его основания и подверг сомнению его выводы не только потому, что оно казалось ему неприемлемым (как и его другу Белинскому) с точки зрения этики, но и потому, что он считал его интеллектуально недостоверным и эстетически безвкусным. С его точки зрения, это была попытка подогнать природу под убогие представления немецких филистеров и педантов. В своих работах «Письма из Италии и Франции», «С того берега», «К старому товарищу», в «Открытых письмах» к Мишле, Линтону, Мадзини и, конечно же, в «Былом и думах» он высказывал собственные этические и философские взгляды. Из них важнее всего следующие: природа не подчиняется никакому плану, у истории нет заранее написанного сценария; нет такого единственного ключа или формулы, которые могут в принципе разрешить проблемы отдельных личностей или обществ; общие решения – это иллюзия, универсальные цели ничего общего не имеют с реальными, у каждой эпохи своя неповторимая структура и только ей присущие вопросы, поспешные выводы и обобщения никоим образом не заменяют опыта; свобода реальных личностей в определенный момент времени и в определенной точке пространства – это абсолютная ценность; для всех людей минимальная сфера свободы действий – моральная необходимость, и ее нельзя ни в коем случае отменить во имя каких-либо абстракций или общих принципов, которыми так легко жонглировали великие мыслители этого, как, впрочем, и любого другого, века – спасения души, или истории, или гуманности, или прогресса, а тем более государства, или церкви, или пролетариата, всех этих громких слов, призванных оправдать отвратительную жестокость и деспотизм, этих магических формул, созданных для того, чтобы заглушить голоса чувства и совести. Такой либеральный подход явно перекликается с еле заметной, но еще не умершей традицией западного либертарианства, элементы которого сохранялись даже в Германии – у Канта, Вильгельма фон Гумбольдта, в ранних работах Шиллера и Фихте. Выжили они и во Франции и французской Швейцарии у идеологов, а также у Бенжамена Констана, Токвиля и Сисмонди. Кое-какие ростки взошли и в Англии, в среде утилитаристов-радикалов.
Подобно ранним либералам Западной Европы, Герцен восхищался независимостью, разнообразием и свободой игры индивидуального темперамента. Он желал максимально возможного расцвета личных качеств, ценил спонтанность, прямоту, оригинальность, гордость, страстность, искренность, стиль и яркость свободной личности; а презирал конформизм, трусость, подчинение грубой силе и общественному мнению, ничем не оправданное насилие и трепетную послушность. Он ненавидел культ силы, слепое преклонение перед прошлым, перед институтами и мифами; унижение слабых более сильными, сектантство, филистерство, плебейскую злобу и зависть, грубое высокомерие элиты. Его идеалами были социальная справедливость, экономическая эффективность, политическая стабильность, но все они должны лишь обеспечивать защиту человеческого достоинства, гуманитарных ценностей, защиту личности от насилия, охрану тонкости и таланта от частных или общественных нападок. Любое общество, которое по какой бы то ни было причине не смогло предотвратить попрание свободы и дало возможность одним оскорблять, а другим пресмыкаться, он безоговорочно клеймил во всех своих работах и отвергал, несмотря на все социальные и экономические преимущества, которые оно могло бы предлагать совершенно искренне. Его моральное негодование – той же силы, что и у Ивана Карамазова, когда тот отвергает вечное счастье, если надо платить за него мучениями невинного ребенка; но доводы, которые приводил Герцен, и описание врага, которого он выбрал, чтобы осмеять и уничтожить, изложены языком, который и по тону, и по существу совсем непохож на богословское или либеральное красноречие той эпохи.
Как точный и проницательный исследователь своего времени он сравним, возможно, с Марксом и Токвилем, но его нравственное учение гораздо интересней и оригинальней.
III
Обычно говорят, что человек стремится к свободе. Более того, полагают, что у людей есть какие-то права и потому они претендуют на некоторую свободу действия. Сами по себе эти формулы представляются Герцену совершенно пустыми. Им необходимо дать конкретное содержание, но и тогда, в качестве гипотез о наших реальных представлениях, они не окажутся истинными. Их не подтверждает история; массы редко желали истинной свободы:
«Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими… К личной свободе, к независимости слова они равнодушны: массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо; они под равенством понимают равномерный гнет… массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим – им и в голову не приходит»[87]87
«С того берега»: VI, 124.
[Закрыть].
Здесь вообще слишком много «романтизма для сердца» и «идеализма для ума»[88]88
Там же: VI, 123.
[Закрыть] – слишком сильно стремление к словесной магии, слишком велико желание подменить предмет словом. Результатом этого были кровавые столкновения, в которых погибло много невинных людей, а самые ужасные преступления прощались во имя пустых абстракций:
«Нет в мире народа… который пролил бы столько крови за свободу, как французы, и нет народа, который бы менее понимал ее, менее искал бы осуществить ее на самом деле… на площади, в суде, в своем доме… Французы – самый абстрактнейший и самый религиозный народ в мире; фанатизм к идее идет у них об руку с неуважением к лицу, с пренебрежением ближнего; у французов все превращается в идол – и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру. Француз дерется геройски за свободу и не задумываясь тащит вас в тюрьму, если вы не согласны с ним в мнении… Тираническое salus populi[89]89
благо народа (лат.).
[Закрыть] и инквизиторское, кровавое pereat mundus et fiat justitia[90]90
Пусть погибнет мир, но да совершится правосудие (лат.).
[Закрыть] равно написано в сознании роялистов и демократов… читайте Жорж Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишле, – везде вы встретите христианство и романтизм, переложенные на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная риторическая нравственность без соотношения к практической жизни»[91]91
«Письма из Франции и Италии», письмо 10-е: V, 175–176.
[Закрыть].
Словом, пишет Герцен дальше, это не что иное, как бессердечное легкомыслие, мы жертвуем людьми во имя пустых слов, которые разжигают страсти и за которыми, если попытаться дойти до их сути, ничего не стоит, именно такое политическое jaminerie[92]92
ребячество (фр.).
[Закрыть] «взволновало и очаровало» Европу, но ввергло ее в нечеловеческую и ненужную бойню. «Дуализм» в понимании Герцена – это подмена фактов словами, построение теорий, пользующихся абстрактными понятиями, которые не проистекают из конкретных потребностей, создание политических программ на основе абстрактных принципов, опять же никак не соотносящихся с конкретными ситуациями. Формулы эти превращаются в ужасное оружие в руках фанатиков и доктринеров, которые готовы навязать их людям, не останавливаясь перед насилием. Все это делается ради какого-то абсолютного идеала, освященного недоступным критике представлением – метафизическим, религиозным, эстетическим, но уж точно никак не связанным с конкретными потребностями реальных людей. Во имя этого представления революционные лидеры убивают и мучают со спокойной совестью – они ведь знают, что только в этом есть – или должно быть – решение всех социальных, политических и личных проблем. Он развивает этот тезис, используя известные аргументы Токвиля и других критиков демократии, и подчеркивает, что массы ненавидят талант, признают только свой образ мыслей и крайне подозрительны ко всякой независимости в мыслях и в поведении:
«Подчинение личности обществу, народу, человечеству – идее – продолжение человеческих жертвоприношений… распятие невинного за виновных… Лицо, истинная, действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Кому жертвовали, об этом никто не спрашивал»[93]93
«С того берега»: VI, 125–126.
[Закрыть].
Так как эти абстрактные понятия – история, прогресс, благо народа, социальное равенство – оказались жертвенниками, обагренными невинной кровью, на них надо остановиться. И Герцен исследует их по очереди.
Если у истории есть жестко определенное направление, некая рациональная структура и цель (возможно, благая), мы должны или смириться с ней, или погибнуть. Но какова эта цель? Герцен не может ее выделить; он не видит никакого смысла в истории, кроме того, что это история болезни, диагноз которой «наследственное хроническое безумие»:
«Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит… что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, – и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине – и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти так же очевидно, как и в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь в жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, – и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство!..
Как только христиан домучили, дотравили зверьми, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из-за вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняют свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики»[94]94
«Доктор Крупов»: IV, 263–264.
[Закрыть].
«История – автобиография сумасшедшего»[95]95
Там же: IV, 264.
[Закрыть]. Так же резко могли бы написать Вольтер и Толстой. Цель истории? Но мы не делаем историю и не отвечаем за нее. Если история – это сказка, поведанная безумцем, то преступно оправдывать угнетение и жестокость, подчиняя тысячи людей весьма сомнительному авторитету во имя пустых абстракций – «требований» «истории» или «исторического предназначения», или «национальной безопасности», или «логики фактов». Все эти «Salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia»[96]96
Благо народа – высший закон, пусть погибнет мир, но да совершится правосудие (лат.).
[Закрыть] пахнут жженым телом, кровью, инквизицией, пыткой и вообще «торжеством порядка»[97]97
«С того берега»: VI, 140.
[Закрыть]. Абстракции, помимо их зловещих последствий, – это просто попытки не замечать фактов, которые не вписываются в заранее построенные схемы.
«Человек только тогда смотрит свободно на предмет, когда он не гнет его в силу своей теории и сам не гнется перед ним. Уважение к предмету не произвольное, а обязательное ограничивает человека, лишает его свободного размаха. Предмет, говоря о котором человек не может улыбнуться, не впадая в кощунство… – фетиш, и человек подавлен им, он боится его смешать с простою жизнию»[98]98
«Письма из Франции и Италии», письмо 5-е: V, 89. См. также замечательный анализ всеобщего желания избежать интеллектуальной ответственности, сотворив себе кумира и преступив вторую заповедь, в работе «Новые вариации на старую тему» (Т. 11. С. 86–102), которая сначала была напечатана в «Современнике».
[Закрыть].
Он становится иконой, объектом слепого поклонения, а значит – тайной, оправдывающей ужасные злодейства. Вот еще о том же:
«Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины… она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присваивает себе такие же права, как монархия, – презирает ее, как монархию, – нет, гораздо больше… Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным salus populi[99]99
См. сноску 14.
[Закрыть]»[100]100
«С того берега»: VI, 46.
[Закрыть].
Он добавляет, что патриотизм – готовность жертвовать собой ради собственной страны – сомнительная доблесть; все же лучше, если живы оба – и страна, и ее гражданин. Вот пока все об «истории». Люди «вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней – рыцарства, католицизма, протестантизма»[101]101
Там же: VI, 35.
[Закрыть].
Кроме того, есть еще те, кто говорит о «прогрессе» и готов пожертвовать настоящим ради будущего, готов причинить страдания сегодня ради того, чтобы отдаленные потомки могли быть счастливы; они оправдывают преступления и унижения, потому что без этого не достигнешь гарантированного счастья. Именно на эту позицию – разделяемую в равной степени реакционными гегельянцами и коммунистами революционного толка, спекулятивными утилитаристами и ревностными ультрамонтанами, то есть всеми, кто оправдывает использование отвратительных средств во имя благородных, но отдаленных целей, – Герцен обрушился с неистовым презрением и сарказмом. Этому посвящены лучшие страницы в работе «С того берега» – его политическом profession de foi[102]102
кредо (фр.).
[Закрыть], своего рода плаче по разбитым иллюзиям 1848 года.
«Если прогресс – цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: “Morituri te salutant”[103]103
Осужденные на смерть приветствуют тебя (лат.).
[Закрыть], только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле. Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой другие когда-нибудь будут танцевать… или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку… со смиренной надписью “Прогресс в будущем”?.. цель бесконечно далека, – не цель, а уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере – заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства…
Цель для каждого поколения – оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе о будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, растворить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем…»[104]104
«С того берега»: VI, 34–35.
[Закрыть]
«… Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика… разум вырабатывается трудно, медленно, – его нет ни в природе, ни вне природы… с ним надобно улаживать жизнь как придется, потому что libretto нет. А будь libretto, история потеряет всякий интерес, сделается ненужна, скучна, смешна… великие люди сойдут на одну доску с театральными героями… В истории все импровизация, все воля, все ex tempore[105]105
тотчас, без приготовления (лат.).
[Закрыть], вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда хотят, куда есть только дорога, – а где ее нет, там ее сперва проложит гений»[106]106
Там же: VI, 36.
[Закрыть].
Дальше Герцен пишет, что исторические процессы, как и природные, могут воспроизводиться миллионы лет или внезапно прекратиться. Хвост какой-нибудь кометы может задеть нашу планету и уничтожить все живое на ней; тогда наступил бы конец истории. Но из этого ничего не следует, из этого нельзя извлечь никакой морали. Нет никакой гарантии, что все будет происходить так, а не иначе. Смерть одного человека не менее абсурдна и непонятна, чем смерть всего человечества; это тайна, которую мы признаем, и нет необходимости пугать ею детей.
Природа не являет плавного телеологического развития, и уж наверняка – такого развития, которое ведет к счастью человечества или к социальной справедливости. Природа для Герцена – это некий клубок потенций, которые реализуются по никому не известному плану. Некоторые осуществляются, некоторые гибнут; при благоприятных условиях некоторые можно реализовать, но они могут изменить направление, потерпеть крах, уйти в небытие. От этого некоторые люди приходят к цинизму и отчаянию. Можно ли сказать, что человеческая жизнь – бесконечная череда подъемов и падений, достижений и провалов? Что же, в ней вообще нет цели? Заканчивается ли всякое усилие неудачей, за которой следует новая попытка, так же обреченная на провал? Если мы так говорим, мы просто не понимаем действительности. Почему природа должна быть задумана как полезное орудие, которое поможет достигнуть прогресса или счастья? Почему от бесконечно богатого, бесконечно щедрого космического процесса нужно требовать осуществления практических целей? Нет ли невыносимой пошлости в вопросе: какая польза цветку от его великолепного цвета, его прекрасного запаха, когда он обречен на скорую гибель? Природа бесконечно и безрассудно плодовита – «… она идет донельзя… до того, что разом касается пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее»[107]107
«С того берега»: VI, 31.
[Закрыть]. Кто сказал, что природа будет подчиняться нашим скучным категориям? Какое имеем мы право настаивать на том, что история бессмысленна, если она не подчиняется тем схемам, которые мы ей навязываем, не преследует наши цели, не стремится к нашим изменчивым и прозаическим идеалам? История – это импровизация, она «стучится разом в тысячу ворот… которые отопрутся… кто знает?
– Может, балтийские – и тогда Россия хлынет на Европу?
– Может быть»[108]108
Там же: VI, 32.
[Закрыть].
Все в природе, как и в истории, существует само по себе и само для себя цель. Настоящее – это осуществление настоящего, оно существует не ради неизвестного будущего. Если бы все существовало ради чего-то другого, каждый факт, каждое событие и существо были бы средством какого-то космического замысла. Неужели мы попросту марионетки, которыми управляют невидимые нити, жертвы таинственных сил в космическом libretto? Так мы представляем нравственную свободу? Разве кульминация любого процесса – тем самым и его цель? Тогда старость – это цель юности только потому, что таков порядок нашей жизни? А цель этой жизни – смерть?
Для чего поет певец? Чтобы, когда он кончит, его песню можно было вспомнить и потосковать по тому, чего не вернешь? Нет. Это фальшивое, близорукое, мелкое представление. Цель певца – песня. Цель жизни – сама жизнь.
Все проходит, но, проходя, может вознаградить путника за его страдания. Гете поведал нам, что гарантий нет, надо довольствоваться настоящим; но нет, мы недовольны, мы отвергаем красоту и радость, потому что должны властвовать и над будущим. Так отвечает Герцен тем, кто, подобно Мадзини и Кошуту, социалистам и коммунистам, призывает к величайшим жертвам и страданиям ради цивилизации, или равенства, или справедливости, или гуманности если не в настоящем, так в будущем. Но это же «идеализм», метафизический «дуализм», мирская эсхатология. Цель жизни – она сама, цель борьбы за свободу – свобода здесь и сейчас, для живых людей с их индивидуальными чаяниями, ради которых они действуют, сражаются и страдают. Эти чаяния священны для них. Растоптать эту свободу, остановить их поиски, разрушить их чаяния ради туманной счастливой будущности попросту безрассудно, потому что это будущее слишком неопределенно и жестоко. Мы посягаем на те единственные нравственные ценности, которые знаем, грубо попирая конкретные человеческие жизни и потребности. И во имя чего? Во имя свободы, счастья, справедливости – всех этих фанатических обобщений, мистических заклинаний, абстракций. Почему стоит стремиться к личной свободе? Только ради нее самой, самодовлеющей ценности, а не потому, что большинство желает свободы. Люди как раз не склонны искать свободы. Руссо полагал, что они рождены свободными. На это Герцен замечает (вслед за Жозефом де Местром), что с таким же успехом можно сказать: «Рыбы родятся для того, чтобы летать, – и вечно плавают»[109]109
«С того берега»: VI, 94.
[Закрыть]. Ихтиофилы могут доказывать, что рыбы «по природе» созданы для полета; но это не так. Да люди по большей части и не любят освободителей. Им легче двигаться по проторенным путям и нести привычное ярмо, чем идти на огромный риск, строя жизнь по-новому. Они предпочитают (снова и снова повторяет Герцен) ужасное бремя настоящего, утешая себя тем, что современная жизнь все же лучше феодализма или варварства. «Народ» не желает свободы, лишь цивилизованные личности стремятся к ней, так как это стремление неразрывно связано с цивилизацией. Свобода, как и цивилизация или образование, не «естественные» блага, они требуют больших усилий; значение же ее в том, что без нее отдельная личность не может реализовать все свои потенции, не может жить, действовать, радоваться, творить бесконечно разнообразными способами в соответствии с тем или иным историческим мгновением, которое непостижимым образом отличается от любого другого. Человек «не хочет быть ни пассивным гробовщиком прошлого, ни бессознательным акушером будущего»[110]110
«Письмо о свободе воли» (сыну Александру): ХХ, 437–438.
[Закрыть]. Он хочет жить в своем собственном времени. Его нравственность нельзя ни выводить из законов истории (которых просто нет), ни из объективных целей развития человечества (их тоже нет, они меняются вместе с изменением обстоятельств и появлением новых личностей). Нравственные цели – это то, чего люди хотят ради себя самих. «Свободный человек создает собственную нравственность»[111]111
«С того берега»: VI, 131.
[Закрыть].









































