Текст книги "История свободы. Россия"
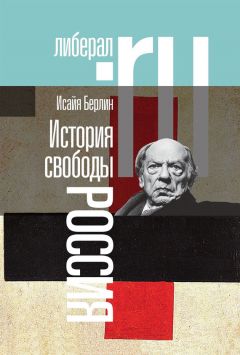
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Посещение Переделкина было назначено через неделю после обеда, на котором я познакомился с Корнеем Чуковским. Покамест, на другом приеме в честь Пристли (я до сих пор благодарен за его присутствие, открывшее мне все двери) я познакомился с г-жой Афиногеновой, венгерско-американской танцовщицей, вдовой драматурга, «погибшего смертью храбрых» во время воздушного налета в Москве в 1941 году. Ей было позволено – а может быть, вменено в обязанность – организовать салон для иностранцев с культурными запросами. Как бы то ни было, она пригласила меня к себе, и у нее я познакомился с целым рядом писателей. Из них самым известным был поэт Илья Сельвинский («У Сельвинского был свой момент, но он, слава Богу, давно прошел», – сказал мне позже Пастернак), который имел смелость предположить, что хотя социалистический реализм и есть наиболее верный род художественной литературы, но не будет ли столь же целесообразно, если коммунистическая идеология создаст литературу социалистического романтизма, более свободно обращающуюся с воображением, но в такой же степени проникнутую полной преданностью советской системе. Его незадолго до того резко критиковали за эту идею, и когда я познакомился с ним, он был явно в нервном состоянии. Он спросил, согласен ли я, что пять самых крупных английских писателей – это Шекспир, Байрон, Диккенс, Уайльд и Шоу, с Мильтоном и Бернсом в резерве. Я сказал, что не сомневаюсь насчет Шекспира и Диккенса, но прежде чем я смог что-нибудь добавить, он сказал, что их интересуют главным образом наши новые писатели, – как насчет Гринвуда и Олдриджа? Что я мог сказать о них? Я понял, что речь идет о современных писателях, но признался, что я никогда ничего о них не слышал, – может быть, потому, что я не был в Англии во время войны. Что они написали? Никто этому, конечно, не поверил. Позднее я узнал, что Олдридж – это писатель-коммунист из Австралии, а Гринвуд – автор популярного романа «Любовь в нищете». Их книги были переведены на русский язык и выходили большими тиражами. Простые советские читатели не имеют ни малейшего представления о соотношении ценностей, которыми живут другие, отличные от их, общества или группы людей. Решения о том, что надо или не надо переводить, каким тиражом издавать и проч., принимаются разными официальными литературными органами, находящимися под руководством отдела культуры Центрального комитета партии. Соответственно, современная английская литература была представлена в это время в основном «Замком Броуди» Кронина, двумя-тремя пьесами Сомерсета Моэма и Пристли и – как оказалось – романами Гринвуда и Олдриджа (эпоха Грэма Грина, Ч.П. Сноу, Айрис Мердок и «сердитых молодых людей» еще не наступила – всех их позднее довольно много переводили). У меня создалось впечатление, что мои хозяева решили, что я явно лукавил, когда говорил, что ничего не слышал об этих двух авторах, – ведь я был агентом капиталистического государства и поэтому никак не мог честно признать всех неоспоримых достоинств писателей левого направления – в той же самой мере, в какой они сами обязаны были ничего не знать (или притворяться, что ничего не знают) о большинстве русских эмигрантских писателей и композиторов.
«Я знаю, – сказал Сельвинский громко и с ораторским пафосом, как будто обращаясь к гораздо большей аудитории, – я знаю, что на Западе нас считают конформистами. Да, мы – конформисты! Мы конформисты, потому что мы видим, что, стоит нам отклониться от линии партии, всегда оказывается, что партия была права, а мы ошибались. Так было всегда. Они не просто говорят, что знают лучше нас, – они действительно знают лучше нас, они дальше видят, их взор острее, их горизонты шире, чем у нас». Остальным гостям от этого стало неловко: эти слова явно предназначались для скрытых микрофонов. Вряд ли нам бы разрешили встретиться в комнате, которая не прослушивалась. В условиях диктатуры человек может выражать одно мнение публично, другое про себя, но тирада Сельвинского была, может быть из-за шаткости его собственного положения, столь неуклюжей и преувеличенной, что за ней последовало смущенное молчание. В тот момент я ничего этого не понимал и возразил, что свободная дискуссия, даже на политические темы, не представляет опасности для демократических учреждений. «Мы – научно управляемое общество, – сказала красивая дама, которая в свое время была секретаршей Ленина и была замужем за известным советским писателем. – В физике нет места свободе мнений. Если человек подвергает сомнению законы движения, то, очевидно, он или невежда, или сумасшедший, – так почему же мы, марксисты, открывшие законы истории и общества, должны позволить свободу мнений в общественной сфере? Свобода заблуждаться – не свобода; вот вы, кажется, думаете, что мы лишены права свободно рассуждать о политических вопросах, а я просто не понимаю, что вы имеете в виду. Правда освобождает. Мы свободнее, чем вы у себя на Западе». Последовали цитаты из Ленина и Луначарского. Я сказал, что, как помнится, идеи такого рода встречаются в работах Огюста Конта, что это тезис французских позитивистов XIX века, чьи взгляды, конечно, отвергались Марксом и Энгельсом. По комнате пробежал холодок, и мы перешли к невинной литературной болтовне. Я усвоил этот урок. Спорить об идеях, когда у власти Сталин, означало получать предсказуемые ответы от одних людей и подвергать опасности других – тех, кто молчит.
Я никогда больше не встречал г-жу Афиногенову и ее гостей. Как видно, я вел себя чрезвычайно бестактно, и их реакцию вполне можно было понять.
II
Через несколько дней, в сопровождении Лины Ивановны Прокофьевой, бывшей жены композитора, я поехал на поезде в Переделкино. Мне рассказали, что Горький организовал эту писательскую колонию, чтобы дать признанным писателям возможность писать в спокойной обстановке.
Горький был полон добрых намерений, но не принял в расчет особенностей творческого темперамента писателей, и в результате его план не всегда обеспечивал гармоническое сосуществование. О наличии расколов, личных и политических, мог догадаться даже несведущий иностранец вроде меня.
Я вышел на обсаженную деревьями дорогу, ведущую к писательским домам. По дороге нас остановил человек, который копал канаву; он выбрался из нее, объявил, что его зовут Язвицкий, спросил, как зовут нас, и довольно долго рассказывал нам о замечательном романе, который он написал, под названием «Костры инквизиции»[385]385
«Сквозь дым костров» (1943). – Примеч. ред.
[Закрыть]. Он от всей души нам рекомендовал прочесть его, а также еще лучший новый роман, над которым он тогда работал, об Иване III и средневековой России. Он пожелал нам счастливого пути и вернулся к своей канаве. Моя спутница нашла все это несколько неуместным, но я был очарован этим неожиданным, прямым, чистосердечным и совершенно обезоруживающим монологом. Эта простота и непосредственность, пусть даже наивные, это отсутствие обязательных светских любезностей встречались вне официальных кругов повсюду и казались мне, и сейчас кажутся, на редкость привлекательными.
Стоял теплый солнечный день, какие бывают ранней осенью. Пастернак, его жена и Леонид, их сын, сидели за простым деревянным столом в маленьком садике на задворках дачи. Поэт радушно приветствовал нас. Марина Цветаева, с которой Пастернак дружил, сказала как-то, что он выглядит как араб и его конь: у него было смуглое, меланхолическое, выразительное и очень породистое лицо, теперь знакомое всем по многочисленным фотографиям и портретам кисти его отца. Пастернак говорил медленно, своего рода монотонным низким тенором. Интонация его речи была плавной, ровной – нечто среднее между гудением и мычанием, – и все, кто знали его, безошибочно отмечали эту манеру. Каждая гласная произносилась им протяжно, как будто на манер заунывных лирических арий из опер Чайковского, но с более концентрированной силой и напряжением. Я неловко протянул ему пакет, который держал при себе, объяснив, что это подарок от его сестры Лидии – пара башмаков. «Ну нет, нет, что же это, что это вы! – сказал Пастернак, явно смущенный, как будто я предлагал ему благотворительное подношение. – Это какая-то ошибка, недоразумение. Это, должно быть, для моего брата». Мне тоже стало страшно неловко. Зинаида Николаевна попыталась исправить положение и спросила меня, оправляется ли Англия от последствий войны. Но прежде чем я смог ответить, Пастернак перебил меня: «Я был в Лондоне в тридцатых годах – в 1935 году – на обратном пути с Антифашистского конгресса в Париже. Давайте я вам расскажу, как это было. Это было летом, и я был на даче. Вдруг приезжают ко мне двое, наверное из НКВД, нет, пожалуй, мне помнится, из Союза писателей – тогда мы, должно быть, не так боялись таких визитов – и один из них говорит: “Борис Леонидович, в Париже происходит антифашистский конгресс. Вы приглашены в нем участвовать. Мы просим вас выехать завтра. Вы поедете через Берлин. Вы можете там пробыть несколько часов и встретиться с кем вам будет угодно. На следующий день вы приедете в Париж и вечером будете выступать на конгрессе”. Я ответил, что у меня нет подходящего костюма для такой поездки. Они сказали, что позаботятся об этом. Они предложили мне визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и стоячим воротничком – и ко всему этому великолепную пару черных лакированных башмаков, которые оказались мне прямо по ноге. Но я как-то ухитрился все-таки поехать в моей обычной одежде. Потом мне рассказали, что в самую последнюю минуту Андре Мальро, один из главных организаторов конгресса, настоял на том, чтобы меня пригласили. Он объяснил советским властям, что если меня и Бабеля не будет, то пойдут лишние толки и пересуды, так как мы были признаны на Западе, а в то время не было уж так много советских писателей, которых готовы были бы слушать европейские и американские либералы. И вот, хоть меня и не было в первоначальном списке советских делегатов – да и как я мог там быть, – они согласились».
Как и было договорено, он поехал через Берлин, где встретился с сестрой Жозефиной и ее мужем. Он сказал, что, когда приехал на конгресс, там было много знаменитых и важных людей – Драйзер, Жид, Мальро, Форстер, Арагон, Оден, Спендер, Розамонд Леман и другие знаменитости. «Я выступил. Я сказал: “Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас – не организовывайтесь!”
Мне показалось, что они страшно удивились. Но что еще мог я сказать? Я думал, что у меня будут неприятности дома после этого, но никто никогда не упомянул об этом – ни тогда, ни теперь[386]386
Я спросил Андре Мальро об этом много лет спустя. Он сказал, что не помнит этой речи.
[Закрыть]. Из Парижа я поехал в Лондон, где встретился с моим приятелем Ломоносовым, – совершенно замечательный человек. Он, как и его тезка, – что-то вроде ученого – инженер. После этого я на одном из наших пароходов отправился в Ленинград. У меня общая каюта с Щербаковым, который тогда был секретарем Союза писателей и был невероятно влиятелен[387]387
Щербаков позднее стал одним из могущественнейших членов сталинского Политбюро и умер в 1945 году.
[Закрыть]. Я говорил без умолку – день и ночь. Он умолял меня перестать и дать ему поспать. Но я говорил, как заведенный. Париж и Лондон разбудили во мне что-то, и я не мог остановиться. Он умолял пощадить его, но я был безжалостен. Наверное, он думал, что я сошел с ума. Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния». Сам Пастернак не сказал этого так прямо: иметь репутацию сумасшедшего или, по крайней мере, чудака было полезным, и, может быть, именно это спасло его во время страшных чисток, но другие присутствующие сказали мне, что они прекрасно поняли, что имелось в виду. Позднее они мне это объяснили.
Пастернак спросил меня, читал ли я его прозу – и в особенности «Детство Люверс» – произведение, которое я очень любил. Я ответил, что читал. «Я вижу по выражению вашего лица, – сказал он без всякого основания, – что вы считаете эти вещи искусственными, вымученными, натянутыми, ужасным модернизмом, – нет, нет, не отрицайте этого, пожалуйста; вы так действительно считаете – и вы совершенно правы. Я сам стыжусь этих вещей – не стихов, а прозы. Она несет на себе отпечаток всего самого слабого и путаного, что было в модном тогда символизме с его мистическим хаосом – конечно, Андрей Белый был гений – в «Петербурге» и «Котике Летаеве» много замечательного, – я сам это знаю, можете мне об этом не говорить, – но его влияние было фатальным; Джойс – другое дело. Все, что я тогда написал, написано через силу, одержимо, изломанно, искусственно, негодно; но сейчас я пишу совершенно по-другому: нечто новое, совсем новое, светлое, изящное, гармоничное, стройное, классически чистое и простое – как хотел Винкельман, да-да, и Гете; и это будет мое последнее слово, мое самое важное слово миру. Это – то, да, это именно то, что я хочу, чтобы запомнилось, осталось после меня; я посвящу этому весь остаток моей жизни».
Я не могу поручиться за точность всего этого разговора, но именно так мне запомнились и сами его слова, и его манера говорить. Этот замысел впоследствии вылился в «Доктора Живаго». В 1945 году он вчерне закончил несколько начальных глав, которые попросил меня прочесть и передать его сестрам в Оксфорде; я так и сделал, но о плане всего романа узнал только много позже. После этого он некоторое время молчал; никто из нас не проронил ни слова. Затем он рассказал нам, как полюбил Грузию, грузинских писателей Яшвили и Табидзе, грузинское вино, как хорошо его принимали каждый раз, когда он туда приезжал. После этого он учтиво спросил меня о том, что слышно на Западе; знаком ли я с Гербертом Ридом и его доктриной персонализма? Тут он объяснил, что доктрина персонализма исходит из нравственной философии (а в особенности из идеи личной свободы) Канта и его истолкователя Германа Когена, которого он хорошо знал и которым восхищался, еще будучи его студентом в Марбурге до Первой мировой войны. Кантовский индивидуализм – Блок совершенно не понял Канта, сделал его в стихотворении «Кант» мистиком – слыхал ли я об этом? Знаю ли я Стефана Шиманского, персоналиста, который издал некоторые его, Пастернака, вещи в переводе? Нет, в России не происходит ничего, рассказывать не о чем. Я должен понять, что в России (я заметил, что ни он, ни другие писатели, с которыми я встречался, никогда не употребляли выражения «Советский Союз») часы остановились в 1928 году или где-то около того, когда были по существу прерваны связи с внешним миром; к примеру, статья о нем и его произведениях в Советской Энциклопедии не упоминает о его жизни и творчестве в позднейший период. Тут вмешалась Лидия Сейфуллина, пожилая известная писательница, вошедшая как раз в середине этой тирады. «Моя судьба точно такая же, – сказала она, – статья обо мне в Энциклопедии заканчивается словами: “В настоящее время С. находится в состоянии психологического и творческого кризиса”. И эта характеристика не меняется уже двадцать лет. Для советского читателя я все еще нахожусь в состоянии кризиса, в своего рода оцепенении. Мы с вами, Борис Леонидович, как жители Помпеи, которых засыпал пепел, не дав им закончить предложение. А как мало мы знаем! Ну вот, я знаю, что Метерлинк и Киплинг умерли, а Уэллс, Синклер Льюис, Джойс, Бунин, Ходасевич – живы?» Пастернаку стало явно неловко, и он переменил тему, заговорив о французских писателях вообще. Он как раз читал Пруста, его французские друзья-коммунисты прислали ему все тома прустовского шедевра – он, конечно, его прекрасно знал и сейчас лишь перечитывал. В то время он еще ничего не слыхал ни о Сартре, ни о Камю[388]388
В 1956 году он уже прочел одну или две пьесы Сартра, но ни одной вещи Камю, который был объявлен реакционером и профашистом.
[Закрыть], а о Хемингуэе был довольно низкого мнения («Не могу понять, что находит в нем Анна Андреевна» (Ахматова), – сказал он). Он очень радушно пригласил меня зайти к нему в его московскую квартиру, он там будет в октябре.
Пастернак говорил великолепными медлительными периодами, которые время от времени перебивались внезапным потоком нахлынувших слов; его речь зачастую перехлестывала берега грамматической правильности – ясные и строгие пассажи перемежались причудливыми, но всегда замечательно яркими и конкретными образами, которые могли переходить в речь по-настоящему темную, когда понять его уже становилось трудно, – и вдруг он внезапно снова вырывался на простор ясности; иногда его разговор был настоящей речью поэта, как и его произведения. Кто-то сказал однажды, что есть поэты, которые поэты только тогда, когда пишут стихи, а когда пишут прозу, становятся прозаиками, а есть поэты, остающиеся поэтами всегда, что бы они ни писали. Пастернак был гениальным поэтом во всем, что он делал и чем он был. Это было совершенно очевидно и из его произведений, и из его обыкновенных разговоров. Я даже отдаленно не могу передать это особое пастернаковское качество. Пожалуй, был еще только один человек, который разговаривал, как Пастернак: Вирджиния Вулф. Если судить по моим немногим встречам с ней, то она, так же как Пастернак, заставляла мысли собеседника гнаться одна за другой; так же вдохновенно – а иногда пугающе – стирала без следа ваше привычное представление о реальности. Я употребляю слово «гений» вполне сознательно. Меня иногда спрашивают, что, собственно, я имею в виду под этим столь богатым ассоциациями, но неточным словом. На это я могу ответить только следующее: Нижинского как-то спросили, как ему удается прыгать так высоко. Его ответ, кажется, сводился к тому, что он не видит в этом особой проблемы. Большинство людей падают вниз сразу же после прыжка. «Но зачем опускаться сразу же? Почему бы не остаться в воздухе немного, прежде чем опуститься!» – говорят, ответил Нижинский. Мне кажется, что один из признаков гениальности – это способность делать нечто совершенно простое и вполне очевидное, что нормальные люди не могут и знают, что не могут сделать, – то, про что нормальный человек не понимает, как это может быть сделано и почему он этого сделать не сможет. Пастернак иногда говорил огромными прыжками, без видимой связи; его слова были более образны, чем я когда-либо встречал. Его речь витала дико и в то же время трогала до крайности. Что говорить, литературная гениальность знает много проявлений: насколько я помню, Элиот, Джойс, Йетс, Оден и Рассел разговаривали не так.
Я не хотел злоупотреблять гостеприимством хозяев и попрощался с поэтом. Его слова и вся его личность глубоко взволновали, даже потрясли меня. Выйдя от Пастернака, я направился на соседнюю дачу Корнея Чуковского, и хотя это был очаровательный собеседник, доброжелательный, интересный, в высшей степени проницательный и крайне забавный, я не мог оторваться мыслями от поэта, которого покинул час назад. На даче у Чуковского я познакомился с Самуилом Маршаком, переводчиком Бернса и сочинителем детских стихов. Маршак стремился держаться подальше от генеральной идеологической линии и политических бурь. Скорее всего этому, а также покровительству Горького, он был обязан тем, что выжил в самые страшные дни. Он был одним из немногих писателей, кому разрешалось встречаться с иностранцами. Во время моего пребывания в Москве он был чрезвычайно радушен и добр ко мне. Маршак был, без сомнения, одним из самых приятных и милых московских интеллигентов, с которыми мне посчастливилось встретиться. Он вполне свободно и с глубокой болью говорил об ужасах прошлого, он не высказывал особой веры в будущее, предпочитал обсуждать любимые им английскую и шотландскую литературы, с которыми он был хорошо знаком. Но как раз по этому поводу его суждения, как мне казалось, не были особенно интересными. Кроме Маршака на даче были и другие гости, и среди них один писатель, чье имя если и было упомянуто, то не удержалось у меня в голове. Я спросил его о современном советском литературном пейзаже: какие писатели, по его мнению, наиболее интересны? Он назвал мне несколько имен и среди них Льва Кассиля. «Автор “Швамбрании?”» (фантазия для подростков), – спросил я. «Да, – сказал он, – автор “Швамбрании”». – «Но ведь это слабая книга, – сказал я, – я читал ее несколько лет тому назад, и она показалась мне абсолютно лишенной воображения, наивной и скучной. А вам она нравится?» – «Да, – ответил он, – пожалуй, нравится. Искренняя книга и неплохо написана». Я не согласился с моим собеседником. Через несколько часов, когда стало уже темно и я сказал, что очень плохо ориентируюсь, он предложил проводить меня до станции. Прощаясь, я сказал моему спутнику: «Вы были исключительно любезны по отношению ко мне, но, простите, я, к моему большому сожалению, не уловил вашего имени». – «Лев Кассиль», – ответил он. Я застыл на месте, сгорая от стыда и раскаяния, совершенно подавленный своею оплошностью. «Почему же вы мне ничего не сказали? – сказал я. – “Швамбрания”…» – «Я уважаю вас за то, что вы сказали то, что на самом деле думали, – нам, писателям, не часто приходится наталкиваться на правду». Я продолжал извиняться до тех пор, пока не подошел поезд. Ни разу я не встречал человека, который вел бы себя так прекрасно. Ни до того, ни после того я не встречал автора, который был бы настолько свободен от всякого тщеславия и самолюбия.
Покамест я ждал поезда, начал накрапывать дождь. На платформе кроме меня были еще двое – молодая на вид пара. Втроем мы пытались укрыться от дождя, притулившись под единственным убежищем, которое нашли, – какими-то досками, нависшими над старым разваливающимся забором. Мало-помалу завязался разговор. Молодые люди оказались студентами. Юноша назвался химиком, а девушка изучала историю России XIX века, в частности революционное движение. Кругом был полный мрак – станция не была освещена, – мы почти не различали лиц друг друга в темноте. Может быть, поэтому молодые люди чувствовали себя довольно безопасно в присутствии полного незнакомца и говорили свободно. Девушка сказала, что в институте их учат тому, что в прошлом веке русская империя была огромной тюрьмой – никакой свободы мысли или слова; однако, хотя, в общем, это представление и кажется правильным, радикалы могли себе позволить достаточно много. В то время инакомыслие, если только оно не сопровождалось прямым террором, как правило, не вело за собой ни пыток, ни смерти. Террористам даже удавалось ускользнуть. «А что, – спросил я, честно говоря, не будучи столь наивным, как мой вопрос, – разве сейчас люди не могут свободно высказываться на волнующие общественные темы?» – «Если кто-нибудь попытается это сделать, то его выметают, как метлой. Никто никогда не узнает, что с ним произошло. Никто его больше никогда не увидит и не услышит», – сказал молодой человек. Мы переменили тему, и молодые люди рассказали мне, что среди русской молодежи нарасхват романы и повести XIX века. Как оказалось, не Чехов и не Тургенев, которые им кажутся устарелыми и занятыми проблемами, не интересующими сейчас никого, и не Толстой, может быть (как они сами объяснили), потому, что их слишком пичкали во время войны «Войной и миром» как великой народной патриотической эпопеей. Нет, они читали, если удавалось достать, Достоевского, Лескова, Гаршина и тех зарубежных мастеров, которые были доступнее других, – Стендаля, Флобера (не Бальзака и не Диккенса), Хемингуэя и, несколько неожиданным образом, О’Генри. «А советских писателей? Как насчет Шолохова, Федина, Фадеева, Гладкова, Фурманова?» – спросил я, перечисляя первые пришедшие мне на ум фамилии современных советских писателей. «А вам они нравятся?» – спросила девушка. «Горький иногда хорош, – сказал молодой человек, – мне раньше нравился Ромен Роллан. В вашей стране, наверное, много чудных, великих писателей!» – «Чудных? Нет, таких, пожалуй, нет», – ответил я. Они никак не могли этому поверить. Наверное, они подумали, что я как-то особенно настроен против английских писателей или что я, должно быть, коммунист, которому претит любое буржуазное искусство. Подъехал поезд, и мы разошлись по разным вагонам – беседу нельзя было продолжать на людях.
Подобно этим студентам, многие русские (во всяком случае, в то время) были уверены в том, что на Западе – в Англии, Франции, Италии – искусство и литература переживают великолепный расцвет, недоступный для них. Когда я пытался выразить по этому поводу сомнение, никто мне не верил: в самом лучшем случае это относили за счет моей вежливости или пресыщенной буржуазной скуки. Даже Пастернак и его друзья были абсолютно убеждены в том, что существует золотой Запад, где гениальные писатели и критики создавали и создают шедевры, скрываемые от русской публики. Эта точка зрения была широко распространена. Ее разделяло большинство писателей, с которыми я столкнулся в 1945 и 1956 годах, – Зощенко, Маршак, Сейфуллина, Чуковский, Вера Инбер, Сельвинский, Кассиль и еще десяток других, и не только писатели, но и музыканты Прокофьев, Нейгауз, Самосуд, режиссеры Эйзенштейн и Таиров, художники и критики, которых я встречал в общественных местах, на официальных приемах, устраиваемых ВОКСом (Всесоюзное общество по культурным связям с заграницей), и изредка у них дома в гостях, философы, с которыми я беседовал на сессии Академии наук, на которой я был приглашен выступить с докладом по инициативе не кого иного, как Лазаря Кагановича, незадолго до того, как он попал в немилость и лишился власти. Все эти люди не только жаждали узнать хоть что-нибудь о расцвете искусства и литературы в Европе (в меньшей степени в Америке), проявляя удивительную любознательность и прямо-таки ненасытность, но и были непоколебимы в своем твердом убеждении, что на Западе безостановочно выходят в свет замечательные творения искусства, литературы и мысли, которые неумолимые советские цензоры ревностно держат под запретом. Omne ignotum pro magnifico.
Вовсе не желая умалить уровень западных достижений, я все же пытался намекнуть на то, что развитие нашей культуры вовсе не было столь неудержимо триумфальным, как они его себе представляли. Возможно, что некоторые из тех, кто эмигрировал на Запад, до сих пор пытаются обнаружить эту богатую культурную жизнь и, не найдя ее, чувствуют страшное разочарование. Кажется вполне правдоподобным, что кампания против «безродных космополитов», по крайней мере частично, объяснялась стремлением подавить этот бурный прозападный энтузиазм, который вполне мог питаться слухами о роскошной жизни на Западе, слухами, которые приносили возвращающиеся оттуда советские солдаты: бывшие военнопленные и сами победоносные войска. В какой-то своей части прозападные чувства являлись неизбежной реакцией на непрерывное грубое и лживое охаивание западной культуры в советской печати и радио. В качестве противоядия такому нездоровому интересу ко всему западному со стороны, по крайней мере, образованной части населения начальство широко использовало русский национализм, подогревавшийся яростной антисемитской пропагандой самого грубого пошиба. Это, однако, в свою очередь вызывало в среде интеллигенции прозападные и филосемитские симпатии, которые казались мне глубоко укоренившимися. В 1956 году я обнаружил меньше неосведомленности о Западе и, соответственно, меньше энтузиазма, но все-таки гораздо больше, чем было бы оправдано реальным положением вещей.
После возвращения Пастернака в Москву я навещал его почти каждую неделю и в конце концов узнал его достаточно близко. Он всегда говорил с каким-то особым, лишь ему присущим колоритом, составленным из смеси жизненной силы и полета гениального воображения. Никому не удалось описать это. Не могу и я надеяться описать преображающий эффект его присутствия, его голоса, его жестов. Пастернак говорил о книгах и писателях. К сожалению, в то время я не вел никаких записей, и через призму многих лет я могу лишь припомнить, что из современных писателей он более всего любил Пруста и был весь погружен в «Улисса» (позднейших вещей Джойса он не читал). Когда через несколько лет я привез в Москву несколько томиков Кафки по-английски, он не проявил к ним никакого интереса. Как сам он мне потом рассказал, он подарил их Ахматовой, которая была ими глубоко тронута; читала их и перечитывала до самого конца своей жизни. Он говорил о французских символистах, о Верхарне и Рильке, с которыми в свое время встречался. Рильке он просто боготворил как человека и поэта. Он был целиком погружен в Шекспира. Собственные переводы Шекспира его не удовлетворяли. Особенно он был недоволен «Гамлетом» и «Ромео и Джульеттой»: «Я попробовал заставить Шекспира работать на меня, – сказал он в начале разговора, – но не вышло». Затем последовали примеры того, что он считал своими неудачами в переводе, но, к сожалению, я их не запомнил. Между прочим, он рассказал мне, что как-то вечером во время войны он слушал Би-би-си и услышал чтение поэзии. Пастернак с трудом понимал английский язык со слуха, но эти стихи показались ему прекрасными. «Чье это?» – спросил он сам себя, стихи показались ему знакомыми. «Да ведь это мое», – сказал он себе, но на самом деле это был отрывок из «Освобожденного Прометея» Шелли. Пастернак рассказывал, что вырос в тени Толстого, с которым хорошо был знаком его отец. Поэт считал Толстого несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоевский, – писателем ранга Шекспира, Гете и Пушкина. Отец, художник, взял его с собой в Астахово в 1910 году, чтобы взглянуть на Толстого на смертном одре. Сам он не мог критически относиться к Толстому – Россия и Толстой были нераздельны. Что до русских поэтов, то гений Блока, несомненно, преобладал в свою эпоху, но блоковское лирическое чувство оставалось ему чуждо. Подробнее об этом он говорить не хотел. Белый был ему ближе – человек, способный к удивительным, неслыханным прозрениям, чудотворец и юродивый в традициях русского православия. Брюсова Пастернак считал своего рода самозаводящейся хитроумной механической boite à musique[389]389
музыкальной шкатулкой (фр.).
[Закрыть] – не поэт вовсе, а умный и расчетливый ремесленник. О Мандельштаме он не упоминал совсем. К Марине Цветаевой, с которой он был связан многими годами дружбы, Пастернак относился с большой нежностью. Гораздо более амбивалентными были его чувства по отношению к Маяковскому: он знал его очень хорошо, они были близкими друзьями, и он многому научился от него. Маяковский был, конечно, титаном – разрушителем старых форм, и к тому же, добавлял он, в отличие от других коммунистов, он всегда и повсюду оставался человеком, – но нет, он не был крупным поэтом, ни в коем случае не был он бессмертным божеством вроде Тютчева или Блока, ни даже полубогом, как Фет или Белый; он уменьшился со временем; в свое время он был нужен, необходим – время породило его, бывали поэты, сказал он, у которых есть их час: Асеев, несчастный Клюев – репрессированный, – Сельвинский, даже Сергей Есенин – такие, как они, бывают нужны в любой момент, они, их талант, их творчество играют решающую роль в развитии национальной поэзии, а потом они уходят в небытие. Из всех таких фигур Маяковский был, несомненно, наиболее крупной. «Облако в штанах» было вещью центрального исторического значения, он совершенно непереносим, этот крик: он раздувал свой талант, мучил и тискал его, как только мог, пока он, наконец, не лопнул: грустные обрывки этого цветного воздушного шарика до сих пор валяются под ногами у каждого русского человека. Он был даровит и сыграл важную роль, но, грубый и как бы недоросль, кончил он сочинителем плакатных агиток. Любовные дела Маяковского имели катастрофические последствия для него как человека и поэта; Пастернак же всегда любил Маяковского как человека, и его самоубийство было одним из самых страшных дней в его жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































