Текст книги "История свободы. Россия"
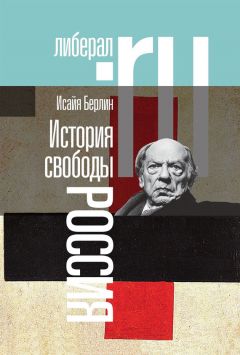
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Однако, хотя враг у Толстого и у славянофилов был общий, их позитивные взгляды расходились весьма резко. Доктрина славянофилов основывалась по большей части на немецком идеализме, а в особенности на представлении Шеллинга (несмотря на многочисленные реверансы в сторону Гегеля и его толкователей) о том, что истинного знания можно достичь не через посредство рассудочной деятельности, но только через своего рода образное самоотождествление с универсальным первопринципом, душой мира – вроде той, которая в минуты вдохновения посещает художников и мыслителей. Некоторые славянофилы находили все это в откровениях православной веры, в мистических традициях русской церкви – и завещали свои представления поэтам русского символизма и более поздним философам. Толстой придерживался полярно противоположной точки зрения. Он был уверен в том, что всякое знание можно обрести только через добросовестное наблюдение; что знание это всегда неадекватно, что простые люди нередко ближе к истине, чем люди образованные, но не потому, что они – вдохновенные проводники божественного озарения, а просто потому, что их взгляд на человека и природу не замутнен пустыми теориями. Острое лезвие здравого смысла, таящееся во всех без исключения толстовских текстах, автоматически отсекает метафизические фантазии и расплывчатую тягу к эзотерическим переживаниям или же поэтические и теологические интерпретации жизненных явлений, основу основ славянофильского мировидения, определив (как и в случае антииндустриального западного романтизма) и ненависть к политике и экономике в обычном смысле этих понятий, и мистический национализм. Более того, славянофилы почитали исторический метод, поскольку он один способен открыть истинную природу (которая обнаружится сама, мало-помалу, неощутимо вырастая во времени) и частных установок, и абстрактных наук.
Навряд ли это могло вызвать особые симпатии у жестко и конкретно мыслящего Толстого, в особенности – у Толстого-реалиста, в середине его жизненного пути. Если у крестьянина Платона Каратаева и есть что-то общее с почвенным этосом славянофильских (и, конечно, панславистских) идеологов – простая деревенская мудрость, противопоставленная нелепостям «шибко умного» Запада, – то Пьер Безухов в ранних набросках к роману заканчивает свои дни в Сибири как ссыльный декабрист, и при всей широте его духовных исканий обвинить его в том, что он нашел успокоение в какой бы то ни было метафизической системе, не говоря уже о православии или другой официальной религии, никак нельзя. Славянофилы понимали, как необоснованны претензии западных социальных и психологических доктрин, и в этом отношении Толстой им сочувствовал; однако их позитивные доктрины его не занимали. Он был противник всех и всяческих непостижимых таинств, «преданий старины глубокой» и любых попыток вернуться к бессмысленному дикарскому лепету; в этом отношении весьма враждебное изображение масонства в «Войне и мире» осталось характерным для него до самого конца жизни. Подобные настроения могли только усилиться за счет его интереса к творчеству Прудона, которого он посетил за границей в 1861 году. Прудоновская смесь иррационализма, пуританства, ненависти к власти и к буржуазным интеллектуалам, приправленная общеруссоистскими идеями, пришлась ему по душе, особенно ее яростный полемический тон. Более чем вероятно, что название своего романа он позаимствовал у вышедшей в том же году прудоновской La Guerre et la paix[308]308
«Война и мир» (фр.).
[Закрыть].
Классический немецкий идеализм не оказал на Толстого практически никакого влияния, но одним, по крайней мере, немецким философом он искренне восхищался. Нетрудно понять, почему его привлекал именно Шопенгауэр: этот одинокий мыслитель изобразил мрачную картину бессильной человеческой воли, отчаянно бьющейся о жестко заданные законы мироздания; он говорил о тщете человеческих страстей, о нелепости рациональных систем знания, о вселенской неудаче, постигшей человечество, пытавшееся постичь иррациональные истоки поступков и чувств, о страданиях плоти и, соответственно, о том, что свести к минимуму нашу уязвимость может крайний квиетизм, поскольку человека бесстрастного трудно разочаровать, унизить или ранить. Эта знаменитая доктрина отражает поздние взгляды самого Толстого: человек страдает, потому что слишком многого ищет, потому что до нелепого амбициозен и склонен преувеличивать свои возможности. К Шопенгауэру может восходить и неотвязная горечь привычного конфликта между иллюзией свободы воли и реальностью правящих миром железных законов, и в особенности представление о неизбежности страданий, причиняемых этой иллюзией, отделаться от которой попросту невозможно. В этом, для Шопенгауэра и Толстого, центральная трагедия человеческой жизни. Если бы только люди смогли понять, сколь ничтожна доступная даже самым умным и самым талантливым из них «зона контроля», как мало они знают о великом множестве факторов, чье упорядоченное движение рождает историю мира, и прежде всего – как претенциозно и глупо утверждать, что ты постиг порядок мироздания, основываясь только на своей отчаянной вере в то, что порядок этот должен существовать, тогда как в действительности ты видишь лишь бессмысленный хаос, вершина которого микрокосм, где в наивысшей степени отразилась неслаженность человеческой жизни – борьба, война.
Самый общепризнанный из литературных долгов Толстого – несомненно, его долг Стендалю. В знаменитом интервью, которое Толстой дал в 1901 году Полю Буайе[309]309
См.: Boyer Paul (1864–1949). Chez Tolstoy. Paris, 1950. Р. 40.
[Закрыть], он сказал, что Стендалю и Руссо он более всего обязан, а всему, что он знает о войне, он научился из стендалевского описания битвы при Ватерлоо в «Пармской обители», где Фабрицио бродит по полю боя, «ничего не понимая». Он добавил, что войну «без рисовки» и «преувеличений», о которой рассказывал ему брат Николай, он позже увидел собственными глазами, когда принимал участие в Крымской кампании. Людей, имевших непосредственный опыт боевых действий, особенно восхищают филигранно выписанные военные сцены Толстого, его описания того, как воспринимает сражение реально участвующий в нем человек.
Толстой, несомненно, был прав, когда говорил, что многим обязан острому стендалевскому взгляду. Однако за спиной Стендаля стоит фигура еще более бескомпромиссная и разрушительная, от которой и сам Стендаль мог, по крайней мере – отчасти, позаимствовать свой новый метод толкования общественных явлений; знаменитый писатель, с чьими трудами Толстой был, вне всякого сомнения, близко знаком и перед которым он находится в долгу гораздо большем, чем обычно принято полагать, ибо разительное сходство между их системами взглядов трудно приписать простому совпадению или таинственным воздействиям Zeitgeist’а[310]310
Духа времени (нем.).
[Закрыть]. Это – знаменитый Жозеф де Местр; и полная история его влияния на Толстого (хотя ученые, занимавшиеся Толстым, и по меньшей мере один из специалистов по де Местру[311]311
См.: Omodeo Adolfo. Un reazionario. Bari, 1950. Р. 40.
[Закрыть] уже обращали на нее внимание) до сих пор остается практически ненаписанной.
V
1 ноября 1865 года, когда «Война и мир» была готова примерно до половины, Толстой записал в дневнике: «Читаю “Maistre”»[312]312
Цит. по: Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Т. 2. С. 309.
[Закрыть], а 7 сентября 1866 года он просит издателя Бартенева, который был для него кем-то вроде помощника по общим вопросам, прислать «архив Maistre», то есть его письма и заметки. Есть несколько причин, по которым Толстой не мог пройти мимо этого ныне не слишком читаемого автора. Граф Жозеф де Местр был роялистом из Савойи и впервые получил известность в последние годы XVIII столетия как автор контрреволюционных трактатов. Обычно его воспринимают как ортодоксально-реакционного католического писателя, столпа реставрации Бурбонов и защитника дореволюционного status quo, в особенности – папской власти, но этот человек куда более сложен. Он придерживался весьма нетрадиционных по тем временам мизантропических взглядов на природу личности и общества и со свойственной ему бескомпромиссной и яростной иронией считал человека существом диким и злобным, говоря о неизбежности постоянных убийств, о войнах как о Божьем промысле и о том, какую ошеломляюще значимую роль играет в человеческих делах страсть к самоуничтожению, которая в гораздо большей степени, нежели природная тяга к общению или искусственное согласие, в ответе за создание и армий, и гражданских сообществ. Если мы хотим, утверждал он, чтобы цивилизация и порядок вообще смогли выжить, необходимы абсолютная власть, наказания и постоянно действующие механизмы подавления, и по содержанию, и по тону его труды ближе скорее к Ницше, д’Аннунцио и проповедникам современного фашизма, чем к респектабельным роялистам современной ему эпохи; вполне понятно, что они вызывали обеспокоенность как в стане легитимистов, так и в наполеоновской Франции. В 1803 году покровитель де Местра, король Пьемонта и Сардинии, который был изгнан из своих материковых владений и жил тогда в Риме, а потом перебрался на Сардинию, отправил его к Петербургскому двору полуофициальным представителем. Де Местр, обладавший изрядным умением очаровывать людей и прекрасным социальным чутьем, очень понравился российскому столичному свету как блистательный придворный, как острослов и проницательный политический обозреватель. Он прожил в Санкт-Петербурге с 1803 по 1817 год, и его написанные изысканным стилем и зачастую пророчески проницательные дипломатические депеши и письма, а также его частная корреспонденция и разного рода заметки о России и ее обитателях, адресованные собственному правительству и местным друзьям и советчикам из русской знати, представляют собой уникальный по ценности источник сведений о жизни и настроениях правящих классов Российской империи эпохи Наполеоновских войн и нескольких последующих лет.
Он умер в 1821 году автором нескольких богословско-политических эссе, но решающие для него книги, особенно знаменитые «Санкт-Петербургские вечера», где, воспользовавшись формой Платонова диалога, он толкует о природе, о мотивах управления человеческими сообществами и о других политических и философских проблемах, а также «Дипломатическая корреспонденция» и собрание писем, вышли в полном объеме только в 1850-х и в начале 1860-х годов стараниями его сына Родольфа и некоторых других людей. Неприкрытая ненависть де Местра к Австрии, его антибонапартизм вкупе с растущей ролью Пьемонтского королевства до и после Крымской войны вполне естественно вызвали в середине века интерес к его личности и к его идеям. О нем стали писать, и эти книги порождали в российских литературных и исторических кругах весьма продолжительные дискуссии. У Толстого были и «Вечера», и дипломатические письма, и письма частные – все эти издания обнаружены в яснополянской библиотеке. Во всяком случае, нет сомнения, что он обильно использовал их в «Войне и мире»[313]313
См.: Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой.
[Закрыть]. Так, известное описание вмешательства Паулуччи в дебаты русского генерального штаба в Дрисском лагере почти дословно взяты из письма де Местра. Разговор князя Василия на приеме у мадам Шерер с «homme de beacoup de mérite»[314]314
Война и мир. Т. 3. Ч. 2, гл. 6.
[Закрыть] о Кутузове тоже, вполне очевидно, основан на одном из писем де Местра, в котором содержатся все до единой разбросанные по этому разговору французские фразы. Более того, в одном из ранних набросков Толстого есть заметка на полях: «У Анны Павловны J. Maistre», – и относится она к балагуру, который пересказывает красавице Элен и восхищенному кружку слушателей дурацкий анекдот о встрече Наполеона с герцогом Энгиенским на ужине со знаменитой мадемуазель Жорж[315]315
Война и мир. Ч. 1, гл. 3. Заметку на полях см. в цит. соч.
[Закрыть]. Привычка старого князя Болконского переставлять кровать из комнаты в комнату, может быть, восходит к истории, рассказанной де Местром о графе Строганове. Наконец, появляется в романе и собственное имя де Местра, среди тех, с чьей точки зрения неудобно и бессмысленно брать в плен наиболее значительных владетельных князей и маршалов из наполеоновской армии, поскольку это привело бы к излишним дипломатическим сложностям. Жихарев, чьи воспоминания Толстой, как известно, использовал, виделся с де Местром в 1807 году и описывал его в восторженных тонах[316]316
Жихарев С.П. Записки современника. М., 1934. Т. 2. С. 112–113.
[Закрыть]. Атмосферу, сходную с общим тоном этих мемуаров, Толстой воспроизводит, описывая видных эмигрантов в гостиной Анны Павловны Шерер (сцена эта открывает «Войну и мир»), и в других упоминаниях о тогдашнем петербургском высшем свете. Эти переклички и параллели тщательнейшим образом отслежены специалистами по творчеству Толстого и не оставляют никакого сомнения в масштабах толстовских заимствований.
Есть среди этих параллелей и более существенные черты сходства. Де Местр считает, что легендарная победа Горациев над Куриациями – как и вообще всякая победа – обусловлена неким неуловимым моральным фактором; Толстой также говорит об исключительной значимости этого неведомого свойства в определении исхода сражений – о неосязаемом «духе» армий и их командиров. Подобный акцент на невещественном и непредсказуемом – неотъемлемая часть свойственного де Местру иррационализма. Более ясно и прямо, чем кто бы то ни было до него, он заявил, что человеческий разум – всего лишь жалкое, негодное орудие в противоборстве с великой мощью природных явлений; а рациональные объяснения человеческих поступков очень редко что-либо объясняют. Он твердо верил, что опереться с достаточной степенью надежности можно только на иррациональное, поскольку оно не поддается объяснению, а значит, его не может подорвать критическая деятельность разума. Приводил он в пример такие иррациональные установления, как наследственная монархия или брак, которые держатся веками, хотя установления рациональные, вроде выборного правления или «свободной любви», быстро и без видимых разумных причин терпели крах, где бы и когда их ни пытались ввести. Де Местр воспринимал жизнь как отчаянную драку без правил на всех возможных уровнях – между растениями и животными, между людьми и народами. От драки этой никто и никогда не получит выгоды, но она уходит корнями в изначальную, таинственную, кровавую и самоубийственную страсть, заложенную в мир по воле Божьей. Этот инстинкт куда сильнее, чем слабые усилия рационально мыслящего человека, который пытается достичь мира и счастья, которые, во всяком случае, относятся не к числу глубинных потребностей сердца, а всего лишь к числу потребностей его карикатурного двойника, либерально ориентированного интеллекта. Человек этот планирует общественную жизнь, не учитывая тех неистовых сил, которые рано или поздно все равно сметут его жалкие постройки, как карточные домики.
Де Местр считал, что поле сражения – прекрасная иллюстрация жизни во всех ее аспектах, и иронизировал над генералами, которым кажется, что они реально контролируют передвижения собственных войск и направляют ход битвы. На его взгляд, ни один человек, действительно оказавшийся в пылу сражения, не сможет связно объяснить, что вокруг него происходит:
«On parle beacoup de batailles dans le monde sans savoir ce que c’est; on est surtout assez sujet à les considérer comme des points, tandis qu’elles couvrent deux ou trois lieus de pays: on vous dit gravement: Comment ne savez-vous pas ce qui s’est passé dans ce combat puisque vous y étiez? tandis que c’est précisément le contraire qu’on pourrait dire assez souvent. Celui qui est à la droit sait-il ce qui se passe à la gauche? sait-il seulement ce qui se passe à deux pas de lui?…représente aisément une de ces scènes épouvantables sur un vaste terrain couvert de tous les apprêts du carnage, et qui semble s’ébranler sous les pas des hommes et des chevaux; au milieu du feu et des armes? feu et des instruments militaires, par des voix qui commandent, qui hurlent ou qui s’éteignent; environné de morts, de mourants, de cadavres mutilés; possédé tour à tour par la crainte, par l’espérance, par le rage, par cinq ou six ivresses differéntesque devient l’homme? que voit-il? que sait-il au bout de quelques heures? que peut-il sur lui et sur les autres? Parmi cette foule de guerriers qui ont combattu tout le jour, il n’y en a souvent pas un seul, et pas même le général, qui sache oû est le vainqueur. Il ne tiendrait qu’а moi de vous citer des batailles modernes, des batailles fameuses dont la mémoire ne périra jamais, des batailles qui ont changé la face des affaires en Europe, et qui n’ont été perdues que parce que tel ou tel homme a cru qu’elles l’étaient; de manière qu’en supposant toutes les circonstances égales, et pas une goutte de sang de plus verseé de part et d’autre, un autre général aurait fait chanter le Te Deum chez lui, et forcé l’histoire de dire tout le contraire de ce qu’elle dira»[317]317
Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Разговор седьмой: Цит. соч. Т. 5. С. 33–34. «Люди рассуждают о сражениях, не зная, что это в действительности такое. В частности, они имеют обыкновение считать, что все происходит в одном и том же месте, в то время как битва растягивается на два или три лье. Они всерьез спрашивают тебя: Как же вы можете не знать, что происходило в этом сражении, если вы сами там были? Тогда как обычно говорить приходится нечто совершенно противоположное. Разве тот, кто справа может знать о том, что происходит слева? Разве может он знать о том, что происходит в двух шагах от него? Я легко могу себе представить подобную жуткую сцену. На широком поле, усеянном всевозможными орудиями убийства и содрогающемся под ногами людей и лошадей, в огне и в клубах дыма, оглушенный и ошарашенный грохотом ружей и пушек, криками, в которых приказ, или ярость, или это крик предсмертный, окруженный мертвыми, умирающими, изувеченными трупами, охваченный попеременно то страхом, то надеждой, то яростью, пятью или шестью различными страстями -что происходит с таким человеком? Что он видит? Что он может понимать по прошествии нескольких часов? Что он может знать о себе самом или о других? Среди толпы бойцов, весь день проведших в сражении, часто не находится ни единого, не исключая генерала, кто знал бы, за кем осталась победа. Сошлюсь хотя бы на современные сражения, знаменитые битвы, память о которых будет жить вечно, битвы, которые изменили лицо Европы и которые были проиграны только потому, что такой-то и такой-то человек решил, что они проиграны; в этих битвах при тех же самых условиях и не пролив ни единой лишней капли крови ни с той, ни с другой стороны, другой генерал тоже мог заставить собственную страну петь Te Deum и нудить историю записать в анналы нечто противоположное тому, что отныне она будет гласить».
[Закрыть].
И ниже:
«N’avons-nous pas fini même par voir perdre des batailles gagnées? <…> Je crois en général que les batailles ne se gagnent ni ne se perdent point physiquement»[318]318
Les Soirées de Saint-Pétersbourg. С. 35. «Разве нам не доводилось видеть, как проигрывают выигранные битвы? … В общем, я считаю, что физически битвы не проигрывают и не выигрывают».
[Закрыть].
И снова, в том же духе:
«De même une armée de 40 000 hommes est inférieure physiquement а une armée de 60 000: mais si la première a plus de courage, d’expérience et de discipline, elle pourra battre la seconde; car ella a plus d’action avec moins de masse, et c’est que nous voyons à chaque page de l’histoire»[319]319
Там же. С. 29. «Точно так же, армия в 40 000 человек физически уступает другой армии в 60 000: но если первая храбрее, опытнее и дисциплинированней, она вполне в состоянии разбить вторую, поскольку меньшая масса означает большую мобильность – что мы и наблюдаем на каждой странице истории».
[Закрыть].
И, наконец:
«C’est l’opinion qui perd les batailles, est c’est l’opinion qui les gagne»[320]320
Там же. С .32. «Человеческий взгляд проигрывает битвы, он же их и выигрывает».
[Закрыть].
Победа есть факт моральный или психологический, но никак не физический:
«…qu’est ce qu’une bataille perdue?… C’est une bataille qu’on croit avoir perdue. Rien n’est plus vrai. Un homme qui se bat avec un autre est vaincu lorsqu’il est tué ou terrassé, et que l’autre est debout; il n’en est pas ainsi de deux armées: l’une ne peut être tuée, tandis que l’autre reste en pied. Les forces se balancent ainsi que les morts, et depuis surtout que l’invention de la poudre a mis plus d’égalité dans les moyens de destruction, une bataille ne se perd plus matériellement: c’est-а-dire parce qu’il y a plus de morts d’un côté que l’autre: aussi Frédéric II, qui s’y entendait un peu, disait: Vaincre, c’est avancer. Mais quel est celui qui avance? c’est celui dont la conscience et la contenance font reculer l’autre»[321]321
Les Soirées de Saint-Pétersbourg. «Что такое проигранная битва? … Это битва, которую, как вам кажется, вы проиграли. Нет ничего более верного. Когда один человек сражается с другим, он терпит поражение, если он убит или упал, в то время как другой остался стоять на ногах; с двумя противостоящими армиями дело обстоит иначе: одна не может быть убита, при том, что другая останется на ногах. И силы, и потери находятся в некотором равновесии, и в особенности после того, как изобретение пороха в значительной степени уравняло средства разрушения, сражения больше не проигрываются материально, то есть в силу того, что одна из сторон потеряла больше, чем другая: вот и Фридрих II, который кое-что понимал в этих материях, сказал: Побеждает тот, кто наступает. А кто наступает? тот, чья выдержка и чей боевой дух заставят противника отступить».
[Закрыть].
Такого предмета как военная наука нет и быть не может, ибо «с’est l’imagination qui perd les batailles»[322]322
Там же. С. 33. «Воображение проигрывает битвы».
[Закрыть] и «peu de batailles sont perdues physiquement – vous tires, je tire… le véritable vainqueur, comme le véritable vaincu, c’est celui qui croit l’être»[323]323
Письмо от 14 сентября 1812 года графу де Фрону: Там же. Т. 12. С. 220–221. «Редкая битва бывает проиграна физически – вы стреляете, я стреляю… … настоящим победителем, как и настоящим побежденным становится тот, кто считает себя таковым».
[Закрыть].
Толстой уверяет, что этот урок он получил от Стендаля, однако слова князя Андрея об Аустерлице – «…мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение – и проиграли»[324]324
Война и мир. Т. 3. Ч. 2, гл. 25.
[Закрыть], – так же как и то обстоятельство, что победу русских над Наполеоном приписывают страстному желанию русских выжить, отсылают не к Стендалю, а к де Местру.
Близкое сходство во взглядах де Местра и Толстого на хаотический и неконтролируемый характер сражений и войн с дальнейшими выводами о человеческой жизни в целом, а также презрительное отношение к наивным теориям, к коим прибегают кабинетные историки, чтобы объяснить свойственную людям жестокость и тягу к войне, были отмечены выдающимся французским историком Альбером Сорелем в малоизвестной лекции, прочитанной 7 апреля 1888 года в École des Sciences Politiques[325]325
Sorel Albert. Tolstoп historien // Revue bleue 41 (январь – июнь 1888). Р. 460–469. Эта лекция, переизданная затем в новой редакции в Сорелевых «Lectures historiques» (Paris, 1894), находится в совершенно не должном пренебрежении со стороны специалистов по Толстому; она могла бы существенно скорректировать взгляды тех (напр., П.И. Бирюкова и К.В. Покровского, в цитированных выше сочинениях, не говоря уж о критиках и историках литературы более поздних времен, которые едва ли не все ссылаются на их авторитет), кто избегает всякого упоминания о Местре. Эмиль Оман был едва ли не единственным из тогдашних ученых, кто проигнорировал вторичные влияния и обратил внимание на истинное положение вещей; см. его «La Culture française en Russie» (1700–1900) (Paris, 1910. Р. 490–492).
[Закрыть]. Он провел параллель между Толстым и де Местром и подчеркнул, что, хотя де Местр был сторонником теократии, а Толстой «нигилистом», оба смотрели на первопричины событий как на некую тайну, низводя при этом значимость человеческой воли к нулю. «Расстояние, – пишет Сорель, – от теократа до мистика и от мистика до нигилиста меньше, чем от бабочки до гусеницы, от гусеницы до куколки и от куколки до бабочки»[326]326
Sorel A. Цит. соч. С. 462. Этот отрывок выпущен в издании 1894 года.
[Закрыть]. Толстой напоминает де Местра прежде всего тем, что пытается добраться до первопричин и задает вопросы вроде де-Местрова: «Expliquez pourquoi ce qu’il y a de plus honorable dans le monde, au jugement de tout le genre humain sans exeption, est le droit de verser innocemment le sang innocent?»[327]327
Там же. С. 10. «Объясните, почему с точки зрения всего, безо всяких исключений человечества, самым благородным в мире делом всегда являлось невинное пролитие крови ни в чем неповинных людей?»
[Закрыть] Он тоже не приемлет рационалистических и натуралистических ответов, подчеркивает неощутимые психологические и «духовные», а иногда и «зоологические» факторы и поднимает их значимость в противовес статистическому анализу соотношения военных сил, совсем как де Местр в донесениях своему правительству. И в самом деле, когда Толстой описывает движения больших людских масс – сражение, бегство русских из Москвы или французов из России, – это можно воспринимать едва ли не как буквальные иллюстрации к теории де Местра о том, что великие события запланировать нельзя. Но сходство еще глубже. Как для савойского графа, так и для графа русского это реакция, причем реакция яростная, на либеральный оптимизм, включающий в себя представления об изначальной доброте и разумности человека и о ценности или о неизбежности материального прогресса. Оба отчаянно отрицают, что человечество можно осчастливить и облагородить сугубо разумными и научными средствами. Первая великая волна оптимистического рационализма, последовавшая за Религиозными войнами, разбилась о жестокость Французской революции и о пришедшую ей на смену эпоху политического деспотизма и суровых испытаний. В России такой вариант развития был заблокирован длинной чередой репрессивных мер, предпринятых Николаем I сначала для того, чтобы преодолеть последствия декабристского восстания, а почти через четверть века – чтобы нейтрализовать влияние европейских революций 1848–1849 годов; к этому необходимо добавить материальные и моральные последствия крымского разгрома. В обоих случаях апелляция к неприкрытым силовым методам загасила не один прекраснодушный порыв и привела к различным типам реалистических и просто «жестких» политических доктрин – среди прочего к материалистическому социализму, авторитарному неофеодализму, воинствующему национализму и другим никак не либеральным движениям. И у де Местра, и у Толстого – при всех непроходимо глубоких психологических, социальных, культурных и религиозных различиях между ними – разочарование приняло форму резкого недоверия к научному методу, неверия в какие бы то ни было виды либерализма, позитивизма, рационализма и влиятельного в Западной Европе стремления к отделению церкви от государства, привело к тому, что они сознательно сосредоточили внимание на «неприятных» аспектах человеческой истории, которых сентиментальные романтики, гуманистические историки и авторы оптимистических теорий общественного развития решительно не желали замечать.
И де Местр, и Толстой говорили о политических реформаторах (как-то их мишенью оказался один и тот же представитель вышеназванной категории, русский государственный деятель Сперанский) в ироническом, едком, презрительном тоне. Де Местра подозревали в том, что он лично приложил руку к отстранению и ссылке Сперанского; Толстой, глазами князя Андрея, описывает бледное лицо бывшего при Александре фаворита, его мягкие руки, его суетливость и чванство, надуманность и пустоту жестов, которые внешне отражают ирреальность этого человека и его либеральных начинаний. Манеру эту де Местр одобрил бы от всей души. Оба с пренебрежением и враждебностью отзываются об интеллектуалах. Для де Местра это не просто гротескные жертвы исторического процесса – нелепые пугала, созданные Провидением, чтобы человечество отшатнулось от них и возвратилось в лоно древней католической веры, но люди, откровенно опасные для общества, зловредная секта смутьянов и развратителей, чью преступную деятельность всякий благоразумный государь должен по возможности пресекать. Толстой скорее презирает их, чем ненавидит, и выводит их несчастными, запутавшимися, недалекими созданиями с нелепой претензией на величие. Де Местр видит в них стаю социальной и политической саранчи, язву в самом сердце христианской цивилизации, самого святого, что только есть на свете; и считает, что спасут от них только героические усилия папы и верной ему Церкви. Для Толстого это умствующие дураки, плетельщики никому не нужных кружев, слепые и глухие к тому, что вполне доступно простым душам. Разозлившись, сгоряча спускает он на них время от времени какого-нибудь мрачного старика, крестьянина-анархиста, чтобы рассчитаться за долгие годы молчания с ничего не смыслящими, болтливыми городскими обезьянами, начитанными, набитыми умными словами, глядящими этак свысока, бессильными и пустыми. Оба отвергают любое толкование истории, которое не ставит во главу угла вопрос о природе власти; оба с пренебрежением говорят о рационалистических попытках решить его. Де Местр от души насмехается над энциклопедистами – над их привычкой изрекать с важным видом банальности, над их дотошно разработанными, но совершенно пустыми категориями – практически в той же самой манере, какую Толстой усвоил в отношении их последователей, адептов научной социологии и истории век спустя. Оба искренне верят в глубокую мудрость неиспорченного простого народа, хотя язвительные словечки де Местра о безнадежном варварстве, продажности и невежестве русских навряд ли пришлись Толстому по вкусу, если он, конечно, дал себе труд их прочесть.
И Де Местр, и Толстой в определенном смысле воспринимали западный мир как «загнивающий», причем разложение казалось им поступательным и быстрым. Эту доктрину в буквальном смысле слова придумали католические контрреволюционеры на рубеже XVIII и XIX веков, и она во многом определила их отношение к Французской революции как к наказанию Божьему, насланному на отступников от веры, в особенности – от веры католической. Из Франции эта связанная с воинствующим клерикализмом доктрина различными путями, в основном – через второразрядных журналистов и их ученых читателей, проникла в Германию и Россию (в Россию – и непосредственно, и в немецких интерпретациях), где нашла вполне подходящую почву среди тех, кто, счастливо избежав революционных потрясений, льстил своему самолюбию верой в то, что у них-то, во всяком случае, осталась возможность возвыситься к вящей силе и славе, в то время как Запад, подточенный падением отеческой веры, разлагается буквально на глазах, нравственно и политически. Несомненно, Толстой воспринял эту часть своего мировоззрения от славянофилов и прочих русских шовинистов в не меньшей степени, чем от де Местра, однако стоит отметить, насколько сильна была эта вера в обоих этих людях, жестких и аристократичных наблюдателях нравов, и насколько важное положение она занимает в их до странного близких способах видеть мир. Оба, в сущности, были неисправимыми пессимистами, чья безжалостная склонность разрушать принятые в обществе иллюзии отпугивала от них современников, даже тогда, когда тем приходилось нехотя признавать их правоту. Хотя де Местр был фанатически убежденным ультрамонтаном и защитником раз и навсегда установленных институтов, тогда как Толстой, совершенно аполитичный вначале, не оставил свидетельств сколь-нибудь радикальных политических мнений, оба вызывали смутное подозрение в нигилизме – и впрямь гуманистические ценности рассыпались во прах, стоило только этим ценностям попасть к ним в руки. Оба искали выхода из глухого, непробойного скептицизма в какой-то огромной, чреватой смыслами истине, которая защитила бы их от их же собственных природных наклонностей и темперамента: де Местр – в Церкви, Толстой – в неиспорченном человеческом сердце и в простой братской любви, которая вряд ли была близка ему. Перед ликом этого идеала повествовательный дар ему изменяет, и выходит нечто безыскусное, ходульное, наивное, отчаянно трогательное, отчаянно неубедительное и, видимо, весьма далекое от его собственного опыта.
Однако пользоваться этой аналогией нужно с известной долей осторожности! И де Местр, и Толстой действительно придавали величайшую значимость войне, но де Местр, как, вслед за ним, и Прудон[328]328
Толстой посетил Прудона в Брюсселе в 1861 году, когда тот опубликовал работу под названием «La Guerre et la paix», тремя годами позже переведенную на русский язык. На этом основании Эйхенбаум пытается отследить в толстовском романе влияние Прудона. Прудон вслед за де Местром воспринимает причины войн как непостижимую и запретную для смертных тайну; в его трудах мы видим смесь иррационализма, пуританства, любви к парадоксам и общеруссоистского флера. Однако эти качества достаточно характерны для всей французской радикальной мысли, и в толстовской «Войне и мире» нелегко найти хоть что-нибудь от Прудона, если, конечно, не считать названия. Общее влияние Прудона на самые разные слои тогдашней русской интеллигенции, конечно, весьма ощутимо; так же легко, а по сути – много легче, доказать, что Достоевский или Максим Горький – потенциальные прудонисты. Однако это было бы пустой демонстрацией профессионального мастерства, ибо параллели носят самый смутный и общий характер, тогда как различия куда глубже, куда многочисленнее и специфичнее.
[Закрыть], считает войну таинственной и божественной, в то время как Толстому она внушает отвращение, и он считает, что объяснить ее можно лишь в том случае, если мы овладеем достаточным объемом микроскопических «причин», знаменитым историческим «дифференциалом». Де Местр верил, что власть – иррациональная сила, что надо ей подчиняться, что преступления неизбежны, страдания и наказания – глубоко значимы. Он видел в палаче краеугольный камень общества, и Стендаль отнюдь не случайно называл его l’ami du bourreau[329]329
Другом палача (фр.) (Примеч. пер.).
[Закрыть], а Ламенне сказал, что у него только две реальности – преступление и наказание, «все его книги как будто бы написаны на эшафоте». Для де Местра мир состоит из диких тварей, которые беспрерывно терзают друг друга, убивают ради жестокого и кровавого удовольствия; он считает это нормальным условием всякой одушевленной жизни. Толстой далек от таких ужасов и от подобного садизма[330]330
Однако и Толстой говорит, что миллионы людей убивают друг друга, зная, что это «физический и нравственный грех», потому, что это «необходимо»; «Поступая так, люди исполняли элементарный, зоологический закон»: Цит. соч. Стб. 526. Это уже чистейшей воды де Местр и очень далеко от Стендаля или Руссо.
[Закрыть]; нельзя назвать его и мистиком (pace[331]331
да не обидятся, не в обиду будь сказано (ит.).
[Закрыть] Альбер Сорель и Вогюэ), мистиком в каком бы то ни было смысле этого слова: запретных тем и вопросов для него нет, и он уверен, что на все можно достаточно просто ответить, если только мы не станем мучить самих себя и искать ответов в более чем странных и удаленных местах, когда они лежат у нас под ногами.
Де Местр был сторонником иерархического принципа и верил, что аристократия готова к самопожертвованию. Верил он и в ее героизм, в ее послушание и в то, что социальные и религиозные элиты должны осуществлять самый строгий присмотр за массами. Понятно, почему он хотел передать иезуитам образование в России, – они, по крайней мере, вдолбили бы в этих диких скифов латынь, священный язык человечества хотя бы в силу того, что он сохранил предрассудки и суеверия минувших веков, выдержавшие проверку историей и жизненным опытом, а только на них и можно выстроить стену, в достаточной степени прочную, чтобы сдержать страшные волны атеизма, либерализма и свободомыслия. В естественных науках и в светской литературе он видел опасные игрушки в руках неосторожных людей или крепкое вино, которое может чрезмерно возбудить, а там и разрушить непривычное к таким излишествам общество.
Толстой всю свою жизнь боролся против явных форм обскурантизма и искусственного подавления человеческой тяги к знаниям. Его самые резкие пассажи направлены против тех государственных деятелей и публицистов последней четверти XIX века – Победоносцева, его друзей и фаворитов, – кто буквально следовал заветам великого католического реакционера. Автор «Войны и мира» открыто ненавидел иезуитов; особенно его раздражало, что они обращали в свою веру светских дам Александровской эпохи, – последние события в жизни ни к чему не годной жены Пьера с некоторой долей вероятности можно возвести к миссионерской деятельности де Местра среди санкт-петербургской аристократии. В общем-то, есть все основания полагать, что иезуитов изгнали из России, а де Местра, соответственно, отозвало его правительство, когда сам император счел его вмешательство в российские дела слишком неприкрытым и слишком успешным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































