Текст книги "История свободы. Россия"
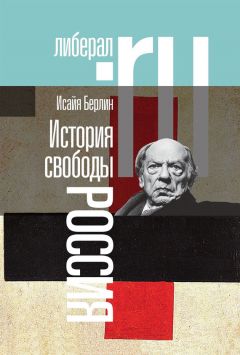
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Однако Толстой не может остановиться на этом, как делали многие либералы. И впрямь, тут же возникает вопрос: как же нам так исхитриться и оставить школьника или студента свободным? Не давать никаких моральных оценок? Предлагать только «факты», а не этические, эстетические, социальные или религиозные доктрины? Позволять, чтобы он делал собственные выводы, не пытаясь подтолкнуть его ни в одном из возможных направлений, чтобы не заразить его нашим болезненным мировоззрением? Но возможно ли между людьми настолько нейтральное сообщение? Ведь, когда мы общаемся, мы сознательно или бессознательно запечатлеваем один характер, или способ жить, или систему ценностей – в других? Бывают ли в принципе люди настолько отделены друг от друга, чтобы, тщательно уклоняясь от всего, что превышает минимальный уровень отношений, оставаться стерильно чистыми, абсолютно свободными в различении правды и лжи, добра и зла, красоты и уродства? Не глупо ли думать, что человека можно уберечь от любого влияния со стороны общества, не глупо ли даже для того мира, в котором протекали зрелые годы Толстого, то есть, строго говоря, без всех тех сведений о нашей природе, которые мы теперь приобрели стараниями психологов, социологов и философов? Да, мы живем в вырождающемся обществе; только чистые могут нас спасти. Но кто будет учить обучающих? Кто чист настолько, чтобы достаточно знать, а уж тем более – суметь излечить наш мир или хоть кого-то одного?
Между этими двумя полюсами – невинностью и ученостью (на одном – факты, природа, то, как оно есть на самом деле; на другом – долг, справедливость, то, как оно должно быть), между требованием непосредственности и требованием подчиниться долгу, между несправедливостью насилия и несправедливостью небрежения – Толстой мучительно метался всю жизнь. Да что там, не только он, но и те русские народники, и социалисты, и идеалистические студенты, которые «пошли в народ», но не могли решить, идут они учить или учиться. Что такое «народное благо», ради которого они готовы пожертвовать жизнью, то, чего хочет «народ», то, чего хотят для него одни реформаторы; а он только должен хотеть, и хотел бы, будь он столь же образован и мудр, как его защитники, но в нынешнем своем блаженном состоянии часто не желает принимать и чему яростно сопротивляется.
Именно эти противоречия, а также непоколебимое признание своей неспособности примирить или смягчить их в каком-то смысле придают особое значение и жизни Толстого, и полным нравственного мучения, подчеркнуто дидактическим страницам его книг. Он гневно отвергал попытки своих либеральных современников найти компромисс, оправдать свою слабость как пустые отговорки. Однако он верил, что в конце концов можно решить, как применять на практике заповеди Христа, даже если ни ему, ни кому-либо другому пока и не удалось его в полной мере открыть. Он отвергал саму возможность того, что некоторые из целей и задач, о которых он говорит, могут быть в буквальном смысле слова и реальны, и несовместимы. Историцизм против моральной ответственности; квиетизм против обязанности противостоять злу; телеология или строгая причинность против игры случая и непостижимых для разума сил; духовная гармония, простота, народ – и неотвратимая притягательность культуры избранного меньшинства; развращенность цивилизованной части общества – и ее прямая обязанность поднять народ до своего уровня; искажающее влияние страстной, простой, односторонней веры – и ясное ощущение сложности фактов и неизбежной слабости реальных действий, проистекающей из просвещенного скептицизма. В философии Толстого каждый из этих мотивов выступает во всей своей силе. Его приверженность к ним порождает целый ряд несообразностей – возможно, именно потому, что эти противоречия действительно есть и приводят к коллизиям в реальной жизни[347]347
Некоторые марксистские критики, в особенности Лукач, считают, что эти противоречия выражают средствами искусства кризис российского феодализма, особенно – в том, что касается крестьян, чье тяжелое положение постоянно тяготило Толстого. Взгляд их представляется мне излишне оптимистическим: тогда, чтобы все эти дилеммы безвозвратно ушли в прошлое, достаточно было бы разрушить тот мир, в котором жил Толстой. Читатель может сам судить, так это или не так.
[Закрыть]. Когда Толстому является некая истина, он не способен ни подавить, ни исказить, ни попросту отбросить ее, обратившись к диалектическим или другим «глубинным» уровням мысли, независимо от того, что она повлечет за собой, куда приведет, какую часть его символа веры она способна уничтожить. Все знают, что Толстой ставил правду выше прочих добродетелей. Не он первый так говорил, не он первый воспел, но мало кто настолько заслужил это редкое право. Ведь Толстой возложил на ее алтарь все, что у него было, – счастье, дружбу, любовь, покой, нравственную и интеллектуальную уверенность и в конечном счете собственную жизнь. А истина дала ему взамен лишь сомнения, неуверенность, презрение к себе и неразрешимые противоречия.
В этом смысле (хотя он бы с негодованием это отверг) он истинный герой и мученик – может быть, самый одаренный – европейского Просвещения. Казалось бы, парадокс; но ведь вся его жизнь свидетельствует в пользу того, с чем он так боролся в свои последние годы: истина редко бывает простой или ясной или настолько очевидной, как иногда представляется глазу обычного наблюдателя.
Русское народничество
[348]348
«Russian Populism» © Isaiah Berlin 1960
[Закрыть]
«Народничество» – термин, означающий не какую-то конкретную политическую партию или связанное с ней учение, но широкое радикальное движение в России середины XIX века. Оно зародилось в эпоху великих социальных перемен и брожения умов, последовавшую за смертью царя Николая I и унизительным поражением в Крымской войне 1856–1857 годов, приобретало все большее влияние в течение двух последующих десятилетий и достигло своего пика с убийством царя Александра II, после чего быстро пришло в упадок. Вождями его были люди разного происхождения, взглядов и способностей; ни на каком из этапов оно не выходило за рамки разрозненных групп заговорщиков и их единомышленников, иногда объединявшихся для совместных действий, но обычно работавших самостоятельно. Эти группы отличались друг от друга как целями, так и средствами их достижения. Однако их убеждения имели в основе своей много общего, а моральная и политическая солидарность дает право причислить их к единому движению. Как их предшественники, заговорщики-декабристы 20-х годов и кружки Герцена и Белинского 30–40-х, они считали правительство и социальное устройство своей страны нравственным и политическим уродством – устаревшим, варварским, тупым и одиозным – и посвятили жизнь полному его уничтожению. Их основные идеи были неоригинальны. Они разделяли демократические идеалы современных им европейских радикальных идеологов, а также верили в то, что борьба социально-экономических классов определяет все в политике. Теорию эту они исповедовали не в форме марксизма (который широко распространился в России не раньше 1870-х), а в той, которой учили Прудон и Герцен, до них же – Сен-Симон, Фурье и другие французские социалисты и радикалы, чьи труды, легально или нелегально, тонкой, но непрерывной струйкой десятилетиями вливались в Россию.
Теория классовой борьбы как доминирующего фактора в социальной истории, стержень которой – эксплуатация «неимущих» «имущими», родилась на Западе в ходе индустриальной революции; и самые характерные ее идеи относятся к капиталистической фазе экономического развития. Экономические классы, капитализм, беспощадная конкуренция, пролетарии и их эксплуататоры, губительность непродуктивной финансовой системы, неизбежность дальнейшей централизации и унификации всей человеческой деятельности, превращение людей в товар, вытекающее отсюда отчуждение между людьми и группами людей и деградация человеческой жизни – все это неразрывно связано с индустриализацией. Россия, даже в конце 1850-х, была одной из наименее индустриализованных стран Европы. Несмотря на это, эксплуатация и нищета уже давно были привычными и общепризнанными чертами ее социальной жизни, в которой основными жертвами оказались крестьяне, свободные и крепостные, вместе составлявшие девять десятых населения. Рабочий пролетариат уже сформировался, но к середине века не превышал двух-трех процентов от общей численности. Поэтому под угнетенными массами подразумевали в основном земледельцев, составлявших низший слой общества, в подавляющем большинстве своем – государственных или помещичьих крестьян. Народники смотрели на них как на мучеников, чьи страдания они призваны отомстить, исправив причиненное им зло; как на воплощение простых, незапятнанных добродетелей. Крестьяне эти (сильно идеализированные) должны составить естественный фундамент для будущего устройства российского общества.
Главными целями народников были социальная справедливость и социальное равенство. Следуя Герцену, революционная пропаганда которого в 1850-х была для них самым влиятельным источником, они в большинстве своем верили, что основа для справедливого общества уже существует в виде русской крестьянской общины – мира. Мир был автономным сообществом крестьян, время от времени устраивавших переделы пахотной земли; его решения связывали всех членов; и на этом краеугольном камне, по мнению народников, можно было путем выборов возвести здание государства, состоящего из таких самоуправляемых общин. (Идею эту они почерпнули у французского социалиста Прудона.) Вожди народничества полагали, что такая форма общественной жизни создала бы в России свободный и демократичный строй, берущий начало в глубочайших нравственных установках и традиционных ценностях русского – да и любого – общества. Они верили, что работники (то есть все производители) и города и деревни смогут воплотить эту систему в жизнь с гораздо меньшей степенью жестокости и насилия, чем это случилось на индустриализованном Западе. Такая система, выросшая из насущных человеческих потребностей и представлений о правде и добре, заложенных в каждом, обеспечила бы справедливость, всеобщее равенство и широчайший простор для развития человеческих способностей. Поэтому народники полагали, что рост широкомасштабной централизованной промышленности не был «естественным» и неизбежно вел всех, попавших в его когти, к деградации и обесчеловечиванию, ибо капитализм – страшное зло, калечащее тела и души. Но они не считали его неизбежным, так как социальный и экономический прогресс, по их мнению, отнюдь не связан с ростом индустриализации. Народники думали, что приложение научных истин и методов к проблемам общества и конкретных людей (в которое они страстно верили), хоть и может привести к развитию капитализма, все же достижимо без этой, казалось бы, неизбежной жертвы. Они верили в способность науки облегчить человеческую жизнь, не нарушая при этом «естественную» жизнь крестьянской деревни и не создавая огромного, нищего, безликого городского пролетариата. Капитализм кажется непобедимым лишь потому, что с ним никто не пытается адекватно бороться. И, как бы то ни было на Западе, в России проблема большой территории преодолима, а создание небольших объединений самоуправляемых трудовых общин по Фурье и Прудону – вполне осуществимо, если продуманно подойти к делу. Как и французские первопроходцы, их последователи в России ненавидели институт государства особой ненавистью, ибо для них государство было символом, результатом и источником несправедливости и неравенства, орудием господствующего класса для защиты его привилегий – а сам он, по мере сопротивления его жертв, становился все более жестоким и склонным к слепому разрушению.
Поражение либеральных и радикальных общественных движений на Западе в 1848–1849 годах укрепило народников в убеждении, что выход надо искать не в политике или политических партиях. Им казалось очевидным, что либеральные партии и их вожди не понимают, что нужно угнетенным их стран, и не пытаются по-настоящему стоять за их насущные интересы. Подавляющее большинство российских крестьян (или европейских рабочих) действительно нуждалось в еде и одежде, в физической безопасности, спасении от болезней, невежества, нищеты и унизительного неравенства, а не в политической деятельности, праве голоса, парламентах и республиканском строе, которые для неграмотных, грубых, полуголых и голодных людей представляют собой лишь пустой звук, издевательство над их положением. Народники, имея мало общего со славянофилами, разделяли их отвращение к строго разграничившей классы социальной пирамиде западных стран, услужливо принимаемой или пылко почитаемой конформистской буржуазией и государственной бюрократией, на которую эта буржуазия равнялась.
Сатирик Салтыков-Щедрин в своем знаменитом разговоре русского мальчика с немецким запечатлел этот народнический взгляд, провозгласив свою веру в русского мальчика, голодного, оборванного, копошащегося в грязи и убожестве проклятого рабовладельческого царского режима, потому что он, в отличие от аккуратного, послушного, приятного, упитанного и хорошо одетого немецкого мальчика, не продал свою душу за несколько монет, которые ему пообещал прусский чиновник, и потому способен когда-нибудь, если только ему позволят, подняться во весь свой человеческий рост, а немецкий мальчик не поднимется никогда. Россия лежала во мраке и в цепях, но ее дух не был покорен; прошлое было темным, но будущее обещало больше, чем прижизненная смерть цивилизованного среднего класса в Германии, во Франции или в Англии, давным-давно продавшегося за материальную обеспеченность и так закосневшего в своем позорном добровольном рабстве, что само желание свободы стало ему чуждым и непонятным.
Но, в отличие от славянофилов, народники не верили в то, что характер и судьбы русского народа уникальны. Они не были националистами-мистиками и думали только, что Россия – отсталая нация, не достигшая уровня социального и экономического развития, к которому, желая того или нет, подошли нации западные, вступив на путь ничем не сдерживаемого капитализма. В массе своей они не были историческими детерминистами; соответственно они верили, что нация, оказавшаяся в столь тяжелом положении, может избежать своей судьбы, упражняя волю и разум. Они не видели, почему бы России не воспользоваться западной наукой и технологией, не платя за это ту отвратительную цену, которую заплатил Запад. Они доказывали, что можно избежать деспотизма централизованной экономики и централизованного управления, если принять свободную федеральную структуру, основанную на самоуправлении и социальном единстве производителей и потребителей. Они придерживались мнения, что управлять нужно, но нельзя упускать из виду прочие ценности, так как управление само по себе – не цель; управлять следует, прежде всего исходя из нравственных и гуманистических соображений, а не только, как в муравейнике, из экономических и технологических. Они говорили, что защитить людей от эксплуатации, превратив их в индустриальную армию организованных роботов, – самоуничижение и самоубийство. Идеи народников часто были нечеткими, между ними существовали острые различия, но сходного достаточно, чтобы говорить о подлинном движении. Так, например, они принимали в общих чертах просветительские и моральные уроки Руссо, но не его поклонение государству. Некоторые из народников (возможно, большинство) разделяли его веру в добродетель простых людей, его мысль, что причина морального разложения общественных институтов – их изношенность, его острое недоверие ко всем формам умствования, к интеллектуалам, специалистам, всем самоизолировавшимся кружкам и фракциям. Они принимали аполитические идеи Сен-Симона, но не его технократический централизм. Они разделяли веру в насилие и конспирацию, проповедуемые Бабефом и его учеником Буонаротти, но не их приверженность авторитаризму. Они противостояли (вместе с Сисмонди, Прудоном, Ламенне и всеми, кто создал идею «государства всеобщего благоденствия»), с одной стороны, эволюционистам (laissez-faire), а с другой стороны, центральной власти, будь она националистическая или социалистическая, временная или постоянная, проповедуемая Листом или Мадзини, Лассалем или Марксом. Иногда они близко подходили к позициям западных христианских социалистов, однако без их религиозной веры, так как, подобно французским энциклопедистам прошлого века, верили в «естественную» мораль и научную истину. Такие убеждения их объединили. Но разделяли их не менее глубокие различия.
Первой и самой большой их проблемой было отношение к крестьянам, во имя которых все и делалось. Кто должен указать крестьянам истинный путь к справедливости и равноправию? Индивидуальная свобода, конечно, не осуждалась народниками, но они были склонны относиться к ней как к либеральной фразе, отвлекающей внимание от социальных и экономических задач. Надо ли создавать воспитателей душ – специалистов по обучению невежественных младших братьев, и если да, нужно ли побуждать крестьян к сопротивлению властям, восстанию и разрушению старого порядка, пока они сами полностью не осознают значение и необходимость подобных действий? В 1840-е годы об этом рассуждали такие непохожие друг на друга люди, как Бакунин и Спешнев; в 50-е это же проповедовал Чернышевский, в 60-е – страстно отстаивали Заичневский и якобинцы «Молодой России»; в 70-е и 80-е этому учил Лавров, а также его оппоненты, приверженцы организованного профессионального терроризма Нечаев, Ткачев и их последователи, которые включали (объединяясь исключительно в этом) не только социалистов, но и самых фанатичных русских марксистов, в частности Ленина и Троцкого.
Некоторые из них задавались вопросом, не приведет ли обучение революционных групп к появлению заносчивой элиты рвущихся к власти людей, которые в лучшем случае считали бы своим предназначением дать крестьянам не в точности то, о чем те просят, а то, что они сами, то есть их самонадеянные наставники, считают для них благом. Они шли дальше и спрашивали, не станет ли, таким образом, племя фанатиков, уделявших мало внимания действительным нуждам большинства населения, агитировать народ за то, что они (орден профессиональных революционеров, оторванный от народной жизни специальным обучением и необходимостью конспирации) для него избрали, не считаясь с его собственными стремлениями и надеждами. Нет ли здесь страшной опасности заменить старое ярмо новым, когда на место аристократии, бюрократии и царя придет деспотическая олигархия интеллектуалов? Есть ли гарантии, что новые хозяева будут меньше угнетать, чем старые?
Об этом спорили некоторые террористы 60-х годов, например Ишутин и Каракозов, и особенно молодые идеалисты 70-х, которые «пошли в народ» не столько учить других, сколько самим учиться жизни, вдохновленные скорее Руссо, Некрасовым и Толстым, чем более жесткими социальными теоретиками. Эти молодые люди, «раскаявшиеся дворяне», считали, что сами они развращены не только преступной социальной системой, но и самим либеральным образованием, которое способствует углублению неравенства и становится богатейшей почвой для несправедливости и классового угнетения, неизбежно возвышая ученых, писателей, профессоров, специалистов и вообще цивилизованных людей над массами. Все, что затрудняет понимание между индивидуумами, группами или нациями, что создает препоны человеческой солидарности и братству, по определению дурно; специализация и университетское образование воздвигают стены между людьми, мешают общим контактам, убивают любовь и дружбу и в числе прочих причин виновны в том феномене, который Гегель и его последователи назвали «отчуждением», царящим на уровне целых классов и культур.
Некоторым народникам удавалось обойти эту проблему. Бакунин, например, который не был народником, но глубоко повлиял на народничество, осуждал веру в интеллигенцию и специалистов, ведущую, возможно, к самой страшной тирании (правлению ученых и педантов), но не касался вопроса о том, должны ли революционеры учить других или учиться сами. Это оставили без ответа и террористы «Народной воли». Более чувствительные и морально добросовестные мыслители, например Чернышевский и Кропоткин, чувствовали важность этой проблемы и не пытались скрыть ее от себя; задаваясь вопросом, по какому праву они предлагают крестьянской массе, выросшей в совершенно другой системе ценностей, ту или иную социальную организацию, которая, на их взгляд, воплотит более глубокие ценности, чем ее собственные, они не могли дать ясного ответа. Вопрос становился еще более острым, когда они спрашивали (в 60-е годы все чаще), что делать, если крестьяне станут сопротивляться планам их революционного освобождения? Нужно ли обманывать массы или, хуже того, принуждать? Никто не возражал против того, что в конце концов править должен именно народ, а не революционная элита, но как далеко можно зайти сейчас, не считаясь с желаниями большинства и принуждая народ стать на путь, который он прямо отвергает?
Это ни в коем случае не было просто академическим вопросом. Первых восторженных приверженцев радикального народничества (миссионеров, которые пошли «в народ» знаменитым летом 1874 года) встретили безразличие, подозрение, обида, а иногда активные ненависть и сопротивление части их потенциальных подопечных, которые снова и снова выдавали их полиции. Народники были вынуждены открыто выражать свои взгляды, так как страстно верили в необходимость оправдать свои действия с помощью разумных доводов. Сперва они не были единодушны. Активисты Ткачев, Нечаев и (не столько в политическом смысле) Писарев, чьи поклонники стали известны как «нигилисты», предвосхитили Ленина в его презрении к демократическим методам. Со времен Платона доказывали, что дух господствует над плотью и знающие должны управлять незнающими; образованные люди не могут слушаться безграмотных и невежественных; народ можно освободить, даже вопреки его неразумным желаниям, хитростью, любыми подходящими средствами, обманом и насилием, если надо. Такие представления и авторитаризм, который они влекли за собой, разделяло лишь меньшинство народников. Большинство же приводила в ужас открытая защита макиавеллиевской тактики; они считали, что любую цель, даже хорошую, обесценят чудовищные средства.
Такой же конфликт возник из-за отношения к государству. Все русские народники сходились на том, что государство олицетворяет систему принуждения и неравенства и, следовательно, в принципе своем дурно; никакое счастье или справедливость невозможны, пока оно не будет уничтожено. Но в то же время какова одна из первых задач революции? Ткачев достаточно ясно говорит, что, пока капиталисты полностью не уничтожены, орудие принуждения (пистолеты, изъятые у них революционерами) ни в коем случае нельзя отбросить, его нужно обратить против врага. Иными словами, государственную машину надо не разрушить, а направить против неизбежной контрреволюции; она должна работать до тех пор, пока последний враг (по бессмертной фразе Прудона) не будет успешно ликвидирован и человечество, соответственно, не перестанет нуждаться в каком-либо орудии принуждения. В этой доктрине Ленин скорее следовал Ткачеву, чем амбивалентной марксистской формуле о требовании пролетарской диктатуры. Характерно, что Лавров, представляющий центральное крыло народничества, отражая все его колебания и затруднения, отстаивает не полное и не медленное уничтожение государства, но систематическую его редукцию до какого-то неопределенного минимума. Чернышевский, наименьший анархист среди народников, считает, что государство должно организовывать и защищать свободные сообщества крестьян и рабочих, причем умудряется видеть его одновременно централизованным и децентрализованным, гарантирующим не только порядок, действенность и равенство, но и личную свободу.
Все эти мыслители разделяли вполне апокалиптическое предположение: если царство зла (самодержавие, угнетение, неравенство) сгорит в огне революции, из пепла сам по себе поднимется естественный, гармоничный, справедливый порядок, который потребует для своего окончательного совершенствования только мягкого руководства просвещенных революционеров. Эту великую утопическую мечту, основанную на простой вере в перерождение человеческой природы, народники разделяли с Годвином и Бакуниным, Марксом и Лениным. Сутью ее была модель греха, смерти и воскресения – дороги к земному раю, ворота которого откроются только в том случае, если люди обнаружат единственно верный путь к нему и пойдут этим путем. Корни таких представлений лежат глубоко в религиозном сознании человечества, и нет ничего удивительного в том, что эта мирская версия имеет большое сходство с верой русских старообрядцев, для которых со времен великого раскола XVII века Российское государство и Петр Великий олицетворяли земное царство Сатаны. Эти религиозные изгои дали много потенциальных союзников, которых народники пытались привлечь на свою сторону.
Между народниками существовали глубокие противоречия. Их разделяло отношение к будущей роли интеллигенции по сравнению с ролью крестьянства и к историческому значению поднимающегося класса капиталистов; одни были постепеновцами, другие – сторонниками тайного заговора; одни склонялись к образованию и пропаганде, другие – к терроризму и подготовке немедленного восстания. Все эти вопросы были взаимосвязаны и требовали решения. Но самые глубокие расхождения народников касались безотлагательного вопроса о том, может ли истинно демократическая революция осуществиться до того, как достаточное количество угнетенных станет полностью сознательными, то есть способными понимать и анализировать причины своего невыносимого положения. Умеренные доказывали, что никакую революцию нельзя назвать демократической, если она не исходит из принципов революционного большинства. Но в этом случае, наверное, остается только ждать, пока образование и пропаганда не создадут такого большинства, что и отстаивали почти все западные социалисты-марксисты и немарксисты во второй половине XIX века.
Русские якобинцы на это возражали, что такое ожидание, притом отвергающее все формы борьбы, организованной решительным меньшинством, как безответственный терроризм или, еще хуже, как замена одного деспотизма другим, привело бы к катастрофическим результатам: пока революционеры мешкают, капитализм быстро бы развивался; передышка заставила бы правящий класс развивать социальную и экономическую базу намного интенсивнее; рост процветающего, энергичного капитализма создал бы возможности работать для радикальной интеллигенции – врачи, инженеры, преподаватели, экономисты, техники и специалисты всех типов заняли бы высокооплачиваемые места и должности; их новые буржуазные хозяева были бы достаточно умны, чтобы не требовать от них, как теперь, политического подчинения; интеллигенция получила бы особые привилегии, статус и широкие возможности для самовыражения (безвредный радикализм и определенная доля свободы личности были бы разрешены), и, таким образом, революционное движение потеряло бы самых ценных участников. Те, чье ненадежное положение и недовольство объединило их с угнетенными, были бы частично удовлетворены, стимул к революционной деятельности ослабел бы, и перспективы радикального преобразования общества оказались бы весьма туманными. Радикальное крыло революционеров яростно доказывало, что развития капитализма, что бы ни говорил Маркс, избежать можно. Где-где, а в России его еще можно остановить революционным переворотом, пресечь в корне до того, как он окрепнет. Если, признав необходимость будить «политическое сознание» рабочих и крестьян (которых к этому времени, частично из-за неудачи интеллектуалов в 1848 году, марксисты и большинство народнических лидеров сочли абсолютно готовыми к революционному крещению), мы примем программу постепеновцев, момент для решительных действий будет, конечно, упущен; и не поднимется ли вместо народнической или социалистической революции мощный, гибкий и хищный, преуспевающий капиталистический режим, который сменит российский полуфеодализм так же, как он сменил феодальный порядок в Западной Европе? Кто тогда может сказать, сколько десятилетий или столетий пройдет, пока грянет революция? И когда она все же грянет, кто может сказать, какой порядок она установит, на какую социальную базу она будет опираться?
Все народники соглашались с тем, что идеальный зародыш социалистических групп, на которые должно опираться будущее общество, – это деревенская община. Но не разрушит ли ее автоматически развитие капитализма? Если капитализм уже разрушает деревенский мир (хотя об этом, наверное, открыто не говорили до 1880-х годов) и классовая борьба, как доказал Маркс, разделяет деревню так же, как и город, тогда план действий ясен: вместо того чтобы сидеть сложа руки и спокойно наблюдать разрушение, мы должны решительно остановить этот процесс и спасти деревенскую общину. Социализм, как доказывали якобинцы, можно ввести, захватив власть, и на это надо направить всю энергию революционеров, даже отсрочив обучение крестьян моральным, социальным и политическим реалиям. Ведь такое обучение осуществится быстрее и эффективнее после того, как революция сломит сопротивление старого режима.
Такой образ мысли, чрезвычайно схожий если не с конкретными словами, то с политикой Ленина в 1917 году, существенно отличался от старого марксистского детерминизма. Его постоянный рефрен: нельзя терять времени. В деревне кулаки уничтожают беднейшее крестьянство, в городе становится все больше капиталистов. Если правительство обладает хоть каплей разума, оно пойдет на уступки, проведет реформы и отвлечет образованных людей, чья воля и разум нужны революции, на мирный путь служения реакционному государству; а несправедливый порядок, поддержанный такими либеральными мерами, продолжится и укрепится. Активисты доказывали, что революции не неизбежны, они – плод человеческой воли и человеческого разума. Если воли и разума недостает, революция может вообще не произойти. Только потребность в безопасности вынуждает людей к солидарности и общинной жизни; индивидуализм всегда был роскошью, идеалом социальной элиты. Новый класс технических специалистов (современных, блестящих и энергичных людей), появление которого приветствовали либералы Кавелин и Тургенев, а иногда даже радикальный индивидуалист Писарев, для якобинца Ткачева был «хуже тифа и холеры», так как, применяя научные методы к социальной жизни, они играли на руку новым капиталистическим олигархам и, таким образом, закрывали путь к свободе. Полумеры фатальны, когда только операция может спасти пациента; они продлевают его болезнь и так ослабляют организм, что в конце концов не спасет даже операция. Нужно поднять восстание до того, как эти новые интеллектуалы, потенциальные конформисты, станут слишком сильны, слишком многочисленны и получат слишком много власти, иначе будет слишком поздно: элита сенсимонистов из высокооплачиваемых чиновников возглавит новый феодальный порядок – экономически эффективное, но аморальное общество, основанное на вечном неравенстве.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































