Текст книги "История свободы. Россия"
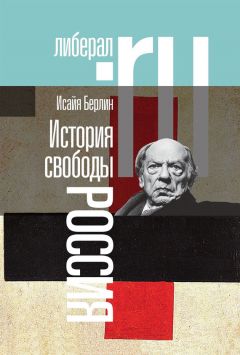
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
В «Войне и мире» Толстой обращается с фактами по-рыцарски, когда ему это удобно, поскольку прежде всего он одержим своей главной идеей – противоречием между универсальным, общезначимым, но обманчивым опытом свободной воли, чувством ответственности, индивидуальными жизненными ценностями вообще – и реальности неумолимого исторического детерминизма, недоступного для непосредственного переживания, но истинного, поскольку бесспорны его теоретические основы. Это противоречие соответствует, в свою очередь, мучительному внутреннему конфликту, одному из многих у Толстого, – конфликту между двумя системами ценностей, общественной и личной. Да, те чувства и тот непосредственный опыт, на которых в равной степени основаны обычные жизненные ценности и частных лиц, и историков, держатся на всеобщей иллюзии, но во имя истины это обстоятельство надо безжалостно выставить на свет, а ложные ценности и ложные истины, производные от него, обличить и дискредитировать. В каком-то смысле Толстой именно это и делает, особенно тогда, когда берется философствовать и в масштабных публичных сценах романа, и в сценах батальных, и в метафизических отступлениях. С другой стороны, он делает и прямо противоположное, когда противопоставляет панораме общественной непосредственный личный опыт как высшую ценность, сталкивая конкретную и многоцветную реальность индивидуальных человеческих жизней с бледными абстракциями ученых, особенно историков «от Гиббона[293]293
Эдвард Гиббон (1737–1794), английский историк. Основной труд – «История упадка и падения Римской империи» (1776–1781) (Примеч. пер.).
[Закрыть] до Бакля[294]294
Генри Томас Бокль (1821–1862), английский историк. Находился под явным влиянием Джона Стюарта Милля. Автор неоконченного, написанного со столь нелюбезных Толстому позиций «научной истории» труда «История цивилизации» (1857–1861) (Примеч. пер.).
[Закрыть]»[295]295
Война и мир. Т. 4. Ч. 2, гл. 1.
[Закрыть], которых резко упрекает в том, что они принимают свои пустые категории за реальные факты. Однако примат личного опыта, и личных отношений, и личных доблестей предполагает то самое виденье жизни с присущим ему чувством личной ответственности, с верой в свободу и возможность спонтанного поступка, которому посвящены лучшие страницы романа. Оно именно и представляет собой ту самую иллюзию, от коей необходимо избавиться, чтобы встретить истину лицом к лицу.
Эту нелегкую дилемму он так и разрешил. Порою, как в опубликованном еще до выхода в свет последней части «Войны и мира» разъяснении[296]296
Несколько слов по поводу книги: «Война и мир» // Русский архив. 1868. № 6. Стб. 515–528.
[Закрыть], Толстой проявляет нерешительность. Индивид свободен «в некотором смысле», когда речь идет только о нем самом: так, поднимая руку, он свободен в определенных физических пределах. Но как только он вовлечен в отношения с другими людьми, он утрачивает свободу и становится частью неумолимого потока. Свобода реальна, но ограничена простейшими действиями. В иных случаях исчезает даже самый слабый луч надежды; Толстой не может допустить ни малейшего исключения из универсального закона; либо детерминизм не знает никаких границ, либо его попросту нет, и тогда воцаряется хаос. Человеческие поступки могут показаться свободными от социальной обусловленности, но они не свободны, они не могут быть свободны, они – часть этой самой обусловленности. Наука не в состоянии разрушить то сознание свободы, без которого не было бы ни морали, ни искусства, но она может доказать его несостоятельность. «Власть» и «случайность» – всего лишь имена, обозначающие, что мы ничего не знаем о причинно-следственных связях, но эти связи существуют независимо от того, замечаем мы их или нет. К счастью, мы их не замечаем; если бы мы почувствовали на себе их вес, мы вряд ли вообще были бы способны действовать; утрата иллюзии парализовала бы жизнь, которая держится на нашем счастливом неведении. Однако бояться нам нечего – мы никогда не откроем всех действующих в нашем мире причинно-следственных связей. Причин очень много, а сами они бесконечно малы; историки выбирают из них ничтожно малое число и приписывают все на свете действию этого произвольно выбранного крохотного набора. Каким образом могла бы действовать идеальная историческая наука? Используя нечто вроде счисления, посредством которого ничтожно малые человеческие и нечеловеческие действия и события можно было бы проинтегрировать, чтобы больше не искажать исторического континуума, разбивая его на произвольные фрагменты[297]297
Война и мир. Т. 3. Ч. 3, гл. 1.
[Закрыть]. Толстой выстраивает эту метафору, основанную на исчислении бесконечно малых величин, с великолепной ясностью и с привычным простым, живым и точным чувством слова. Анри Бергсон, прославившийся теорией о том, что реальность – искусственно расчлененный естественными науками поток, который тем самым искажен, лишен непрерывности и собственно жизни, развивал похожую мысль очень долго, не столь ясно, не столь доходчиво и привлекая целый арсенал ненужных терминов.
Такой взгляд на жизнь присущ не мистику и не интуитивисту. Мы не знаем сути происходящего не потому, что нам изначально недоступны первопричины, но потому, что их слишком много, первичные частицы микроскопически малы, а мы неспособны видеть, слышать, запоминать, записывать и координировать достаточное количество материала. Всеведение в принципе возможно даже для эмпирического существа, но, конечно же, практически недостижимо. Только этим, и ничем иным, более глубоким или занятным, объясняются наша мегаломания и наши абсурдные иллюзии. Мы не свободны, но не можем жить без уверенности в своей свободе. Что же нам остается делать? Толстой так и не приходит к какому-либо ясному выводу, он формулирует только общий взгляд, в чем-то похожий на взгляды Берка[298]298
Эдмунд Берк (1729–1797), английский политик и политический философ. Наиболее известное его сочинение – «Размышления о революции во Франции» (1790) (Примеч. пер.).
[Закрыть]: лучше отдавать себе отчет в том, что мы понимаем происходящее именно так, как мы его понимаем, во многом так же, как понимают его обычные, простые, непосредственные люди, чей взгляд не искажен теориями и не замутнен пылью, поднятой научными авторитетами, чем пытаться ниспровергнуть взгляды, продиктованные здравым смыслом (которые, по крайней мере, хороши уже тем, что проверены длительным опытом), ради мнимых наук, основанных на неадекватных до нелепости формах оптимистического рационализма. Науки эти – не более чем ловушка и обман. Потому Толстой и нападает на все виды оптимистического рационализма, на естественные науки, либеральные теории прогресса, немецких военных теоретиков, французскую социологию и самоуверенные проекты социального переустройства. Так он находит себе оправдание, чтобы выдумать Кутузова, который, следуя простому, русскому, наивному инстинкту, либо с презрением отвергает, либо просто игнорирует мнения немецких, французских, итальянских военных специалистов, и возвысить его до статуса национального героя, в каковом он, отчасти благодаря Толстому, и пребывает по сей день.
«Фигуры у него, – пишет Ахшарумов в 1868 году, сразу после выхода в свет последней части «Войны и мира», – реальные, а не просто пешки в руках непостижимого рока»[299]299
Цит. соч. (см. сноску 12).
[Закрыть]; с другой стороны, теория его остроумна, но совершенно ни с чем не сообразна. В дальнейшем именно этот взгляд и возобладал как среди русских, так и среди многих западных критиков. Русские левые интеллектуалы обвиняли Толстого и в «социальном равнодушии», поскольку, на их взгляд, он недооценивал благородных общественных побуждений, видя в них смесь невежества и дурной одержимости, и в «аристократическом» цинизме, поскольку он относился к жизни как к заболоченной земле, осваивать которую бессмысленно. Флобер и Тургенев, как мы имели возможность убедиться, считали порочной саму наклонность философствовать. Принял эту доктрину всерьез и попытался ее рационально опровергнуть только историк Кареев[300]300
Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире» // Вестник Европы. 1887. № 4 (июль – август). С. 227–269.
[Закрыть]. Он терпеливо и мягко указывает, что, сколь бы разительным ни был контраст между реальностью частной жизни и жизнью социального муравейника, отсюда вовсе не вытекают сделанные Толстым умозаключения. Действительно, человек – и атом, живущий своею собственной осознанной жизнью, и в то же время бессознательный проводник исторической тенденции, имеющий относительно небольшую значимость элемент огромного общего целого, составленного из невероятно большого числа равновесомых ему элементов. «Война и мир», по мысли Кареева, «историческая поэма на философскую тему о двойственности человеческой жизни»[301]301
Там же. С. 230. Ср.: Война и мир. Т. 3. Ч. 1, гл. 1 («две стороны в жизни каждого человека»).
[Закрыть], и Толстой совершенно прав, полагая, что историей движет не сочетание неких невнятных сущностей вроде «власти» или «умственной деятельности», как представляется наивным историкам; в самом деле, с точки зрения Кареева, он правильно отвергал тенденцию метафизически мыслящих авторов идеализировать такие абстрактные сущности, как «герои», «исторические силы», «моральные силы», «национализм», «разум», или считать их причинами исторического процесса. Авторы подобных теорий впадают одновременно в два смертных греха: они изобретают несуществующие величины для объяснения конкретно-исторических событий и дают полную волю личным, национальным, классовым или же философским предубеждениям.
Здесь придраться не к чему, и Толстому воздается должное как писателю, который выказал большую историческую интуицию – «больший реализм», чем многие историки. Прав он и тогда, когда требует, чтобы мы научились интегрировать бесконечно малые исторические величины. Сам он именно это и сделал с персонажами собственного романа, которые исключительны ровно настолько, чтобы «суммировать» в своих характерах и поступках бессчетное количество других людей, через посредство которых осуществляется «движение истории». Это и есть интегрирование бесконечно малых, не научными, конечно, а «художественно-психологическими» средствами. Толстой прав в своем отрицании абстракций, однако он зашел слишком далеко и не только стал отрицать, что история – наука естественная, вроде химии (и здесь он прав), но и вовсе отказал ей в праве называться наукой, то есть предметом со своими специфическими концепциями и обобщениями; если бы он был прав, это означало бы конец истории как таковой. Толстой прав, когда утверждает, что безличные «силы» и «намерения» прежних историков были мифами, способными создать опасную путаницу, но если мы не сможем думать о том, что заставило ту или иную группу вполне реальных людей вести себя так-то и так-то, не исследовав психологию каждого члена этой группы, а затем «проинтегрировав» полученные данные, нам вообще придется забыть о таких понятиях, как история и общество. Однако человечество задавалось подобными вопросами с пользой для себя; и, отрицая то обстоятельство, что мы можем многое открыть через посредство социальных исследований, исторических умозаключений, мы, по мнению Кареева, отрицаем сколь-нибудь достоверные критерии различения между исторически истинным и ложным, а это, несомненно, предрассудок, порожденный упорным обскурантизмом.
Кареев утверждает, что создатель общественных форм, несомненно, человек, но и сами эти формы – способы человеческой жизнедеятельности – в свою очередь оказывают влияние на тех, кто рожден в сфере их действия. Индивидуальная воля, может быть, и не всесильна, но и не лишена средств воздействия на общественную среду, а у некоторых эта воля сильнее, чем у прочих. Наполеон, быть может, и не полубог, но он и не просто эпифеномен исторического процесса, в котором, если бы его и не было, ровным счетом ничего бы не изменилось. «Великие люди» не так важны, как представляется им самим и наиболее недалеким из историков, но они и не призраки; у индивидов, помимо частной внутренней жизни, которая кажется Толстому единственно реальной, бывают и определенные социальные интенции, а у некоторых, кроме того, еще и сильная воля, и вот таким людям иногда удается изменить жизнь целых сообществ. Представление Толстого о неких неумолимых законах, действующих независимо от того, что думают и чего хотят люди, само по себе – миф, и миф деспотический; закон – всего лишь статистическая вероятность, по крайней мере в общественных науках, а не какая-то страшная и неумолимая «сила». Разве это не та же самая концепция, спрашивает Кареев, над которой в иных контекстах потешался сам Толстой так едко и с такой блестящей иронией, когда оппонент казался ему чересчур наивным, или чересчур умным, или завязшим в какой-нибудь нелепой метафизической доктрине? Предположим, что люди, творящие собственную историю, а в особенности «великие люди», – не более чем «ярлыки», поскольку история творит себя сама, и только бессознательная жизнь социального улья, человеческого муравейника имеет значение или ценность, и только она одна «реальна». Разве можно назвать это иначе как совершенно антиисторическим, догматическим, вненравственным скептицизмом? Почему мы должны этому верить, когда эмпирические данные свидетельствуют об ином?
Возражения Кареева весьма разумны и наиболее четки и ясны из всего того, что сказано против толстовского видения истории. Но в каком-то смысле он упустил из вида самое главное. Толстой прежде всего озабочен вовсе не тем, чтобы обличить недостатки исторических концепций, основанных на той или иной метафизической конструкции или пытающихся втиснуть слишком многое в рамки особенно близких автору понятий (все это Кареев одобряет), и не тем, чтобы отмести саму возможность социологии как эмпирической науки (Кареев считает это неразумным), поставив на ее место какую-то собственную теорию. Толстовские раздумья об истории исходят из более глубоких источников, нежели абстрактный интерес к проблемам исторического метода или философские возражения против историографической практики. Судя по всему, они берут начало в чем-то более личном, в глубоком внутреннем конфликте между его опытом и системой его представлений, между его видением жизни и его же представлением о том, какой она должна быть, и каким должен быть он сам для того, чтобы подобное видение было физически переносимо; между непосредственно полученными данными, которых человек слишком честный и слишком умный отрицать не мог, и необходимостью толковать так, чтобы не прийти к детским нелепостям предшествующих доктрин. Ибо единственное убеждение, с которым его темперамент и его интеллект не вступали в конфликт на протяжении всей его жизни, состояло в том, что все попытки выстроить рациональную теодицею, чтобы объяснить, как и почему случилось именно то, что случилось, именно так и тогда и почему это хорошо или плохо, – все такие попытки гротескны и нелепы. Это – дешевое надувательство, которое рассыплется, как карточный домик, от одного-единственного точно и честно сказанного слова.
Русский критик Борис Эйхенбаум, написавший лучшую из существующих на всех языках работу о Толстом, развивает в ней такую мысль: больше всего мучило Толстого отсутствие позитивных убеждений; и знаменитая сцена из «Анны Карениной», где брат Левина говорит, что у него, у Левина, нет позитивных взглядов, что даже коммунизм с его искусственной, «геометрической» симметрией лучше, чем его всеобъемлющий скептицизм, фактически отсылает к самому Льву Николаевичу и к упрекам, которые он выслушивал от своего брата Николая[302]302
Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Л., 1928–1931. Т. 1. С. 123–124.
[Закрыть]. Независимо от того, имеет ли этот эпизод буквальную автобиографическую привязку – а среди толстовских текстов трудно сыскать хоть что-нибудь, за чем в том или ином смысле ее нет, – теория Эйхенбаума представляется в общем вполне обоснованной. Толстой не был от природы мечтателем, визионером; он видел то, что действительно есть на земле, неисчислимые предметы и ситуации во всем их многообразии; с беспрецедентной зоркостью ловил их индивидуальные сущности и то, что отделяло, отличало их друг от друга. Удобные теории, пытавшиеся собрать все воедино, соотнести, «синтезировать», обнаружить скрытые основы и потайные внутренние связи, не видимые невооруженным глазом, но обеспечивающие всеобщее единство, свидетельствуя, что «в конечном счете» всякая вещь – часть другой и часть всеобщей гармонии, неразделимого целого, – все такие доктрины он опровергал легко и презрительно. Его гений лежал в другой области. Он воспринимал специфические свойства, почти невыразимые качества, благодаря которым данный предмет уникален и отличен ото всех прочих. И тем не менее он жаждал некоего универсального первопринципа, ответа на все вопросы; то есть хотел уловить общие черты, или общие основы, или единую цель, или некую всеобщую взаимосвязь в видимом разнообразии взаимоисключающих частей и фрагментов, из которых составлена скрипучая оснастка мира[303]303
Здесь – снова парадокс. «Бесконечно малые величины», интегрирование которых – задача идеального историка, должны быть в достаточной степени единообразны, иначе ничего не получится; в то же время чувство «реальности» именно и состоит в ощущении их уникальных различий.
[Закрыть]. Все проницательные аналитики, наделенные богатейшим воображением и потрясающей ясностью видения, расчленяют и распыляют предмет для того, чтобы добраться до неделимого ядра, и оправдывают свои разрушительные действия (от которых они никак не могут удержаться) верой в то, что подобное ядро есть. Так и он с ледяным презрением продолжал ломать шаткие конструкции своих соперников, недостойные умного человека, неизменно надеясь на то, что отчаянно искомое «реальное» единство рано или поздно восстанет из-под обломков подделок и обманок, которые подсовывает нам колченогая армия философствующих историков. Чем неотвязней было подозрение, что поиски эти лишены всякого смысла, тем яростнее пытался он отогнать эту мысль; тем беспощадней и изобретательней публично порол виновных, тем фальшивей становились претензии на обладание истиной. С отходом Толстого от литературы в область полемической публицистики эта тенденция становилась все более и более очевидной. Раздраженная и глубокая уверенность в том, что найти окончательное решение в принципе невозможно, побуждала его обрушиться на решения ложные за то обманчивое чувство внутреннего комфорта, которое они предлагали, и за то, что само их существование оскорбительно для разума[304]304
В наши дни французские экзистенциалисты, исходя из сходных психологических мотиваций, ополчились на все объяснения как таковые, ибо те – не что иное, как наркотик, позволяющий заглушить серьезные вопросы, рассчитанный на недолгий срок паллиатив. Нам предлагается лечить им раны, которые невыносимы, но с которыми нужно стерпеться, и прежде всего – не отрицать их и не «объяснять»; ибо всякое объяснение – это отговорка, то есть отрицание жестоких реалий.
[Закрыть]. Интеллектуальная способность Толстого к этой убийственной деятельности была огромной, исключительной. Всю свою жизнь он искал в достаточной степени стройную и сильную систему, которая смогла бы противостоять его отлаженной машине разрушения, его подкопам и таранам; он пытался найти систему укреплений, достойную его могучей артиллерии. Замечательная разумность доводов и экспериментальный метод Кареева, его по-академически мягкие увещевания слишком не похожи на ту непробиваемую, несокрушимую твердыню, на которой только и можно возвести надежную интерпретацию бытия, цель и смысл жизненных поисков Толстого.
Слабая «позитивная» доктрина исторических изменений в «Войне и мире» – вот и все, что остается от этих отчаянных поисков. Огромная разница между мощью наступательного и хлипкостью защитного вооружения неизменно позволяла мало-мальски добросовестному, критически настроенному, достаточно чуткому читателю счесть его философию истории – теорию крохотных частиц, которые надо интегрировать, – избитой и надуманной. Поэтому большинство тех, кто писал о «Войне и мире» и сразу по выходе в свет, и годы спустя, соглашались с мыслью Ахшарумова о том, что гений Толстого – в том, чтобы создавать мир более реальный, чем сама жизнь; а теоретические его изыскания, пусть даже он видел в них самый важный ингредиент своей книги, фактически не привносят ничего существенного в наше понимание текста, его ценности или предшествующего творческого процесса. Все это предвосхищало мнения критиков психологической школы, утверждавших, что сам автор нередко не отдает себе отчета в источниках собственной деятельности. Питающие его гений родники ему неведомы, сам процесс по большей части бессознателен, и пытается он, собственно, лишь осознать и рационализировать истинные, но в основном неосознанные мотивы и методы, вовлеченные в творческий акт, а потому собственные усилия только мешают бесстрастным исследователям искусства, стремящимся к «научному», то есть натуралистическому, анализировать истоки и эволюцию его творчества.
Что бы мы ни думали о правомерности подобных взглядов, есть историческая ирония в том, что с Толстым можно обращаться именно так, как обращался он с академическими историками во всеоружии своего вольтеровского дара. Но есть в этом и немало справедливости, уже поэтической: ведь неравное соотношение критических и конструктивных элементов в его собственной философской системе, по-видимому, проистекает из того факта, что его чувство реальности (которая существует исключительно на уровне отдельных личностей и отношений между ними) помогало ему ниспровергать все несообразные с его виденьем теории, но само по себе оказалось не в состоянии дать основу для сколь-нибудь удовлетворительного систематизирования фактов. И нет никаких свидетельств того, что сам Толстой объяснял этим свои неудачные попытки воссоединить две разные жизни, которыми живет всякий человек.
Неразрешенный конфликт между верой Толстого в то, что реальны только атрибуты частной человеческой жизни, и его доктриной о том, что их анализ не может объяснить исторического процесса (то есть поведения человеческих сообществ), на более глубоком, личностном уровне параллелен внутреннему конфликту между его исключительной одаренностью и его идеалами, которым он неизменно хотел соответствовать и уж точно верил в них.
Позволю себе еще раз напомнить о нашем разделении писателей на лисов и ежей: Толстой воспринимал реальность во всей ее множественности, как собрание раздельных сущностей, которое он обозревал и в которое проницал с беспримерной остротой и ясностью видения, но верил он только в одно огромное, универсальное целое. Ни один писатель из живших на земле до и после Толстого не проникал с такой силой в многообразие жизни – различия, контрасты, столкновения людей, вещей и ситуаций. Каждую отдельную коллизию он воспринимал в абсолютной ее уникальности и передавал с такой прямотой и точностью конкретного образа, какая никому еще не удавалась. Еще никто не превзошел Толстого в том, чтобы передать особый букет, алгебраически точный состав чувства, все степени его «мерцания», его приливов и отливов, мельчайших движений (Тургенев высмеивал подобные «фокусы»), внутреннюю и внешнюю текстуру, само ощущение взгляда, мысли, эмоции; как и в том, чтобы схватить специфику ситуации или целого периода в жизни людей, семей, сообществ и наций. Прославленное жизнеподобие каждой вещи и каждой личности в его мире происходит от удивительной способности представлять буквально все в самой полной его сущности, во всех многочисленных измерениях. Толстой показывает нам не какой-то сколь угодно яркий предмет в потоке сознания, не размытый контур, не силуэт, не призрак, не впечатление, не функцию восприятия, апеллирующую к читателю и от читателя зависимую, но едва ли не твердое тело, наблюдаемое и с ближней, и с дальней дистанции, при естественном, дневном освещении, под всеми возможными углами зрения, в совершенно особенном пространственном и временном контексте. Событие это в полной мере значимо для чувств и для воображения, во всех его гранях, при четкой и резкой артикуляции каждого нюанса.
Предмет его веры – совершенно другой. Он стремился к единому всеохватному видению; проповедовал не разнообразие, но простоту, не многочисленность уровней сознания, но сведение их к единому уровню: в «Войне и мире» – к стандарту доброго человека, одинокой, стихийной, открытой души; в более позднее время – к крестьянскому стандарту или к простейшей христианской этике, очищенной ото всякой теологии и метафизики; к простому, как бы насущному критерию, при помощи которого можно прямо увязать все на свете и всякую вещь определить через другую, применив к ней одну и ту же простую мерку. Гений Толстого – в таинственной способности точно воспроизводить невоспроизводимое, едва ли не волшебным образом вызывать к жизни совершенную, не переводимую ни на один язык индивидуальность уникального, отчего у читателя рождается острое ощущение, что все это существует, присутствует, а не просто описано. Для этой цели он использует метафоры, в которых фиксируется конкретное качество переживаний, и старательно избегает широких понятий, соотносящих что-то конкретное с близким по смыслу, не замечая индивидуальных различий – «мерцания» чувств – ради общего знаменателя. И этот же самый писатель вдруг требует прямо противоположного, и не просто требует – ударяется в гневную проповедь, особенно в поздней, религиозной фазе свой жизни. Он хочет, чтобы мы отказались от всего, что не подходит под очень общий, очень простой стандарт: скажем – под то, что нравится или не нравится крестьянам, или под евангельские представления о добре.
Отчаянное противоречие между сведениями, почерпнутыми из опыта, от которых он не мог освободиться и за которыми, конечно, всю свою жизнь признавал первородное право на реальность, и глубоко метафизической убежденностью в существовании системы, в которую они должны укладываться, хочется им того или нет; конфликт между инстинктивным суждением и теоретической убежденностью – между его дарованием и его мнениями – отражает конфликт между реальностью нравственной жизни, с присущими ей ответственностью, радостями, горестями, чувством вины и чувством успеха – все сплошь одни иллюзии, – и законами, царящими надо всем, пусть даже нам доступна лишь ничтожно малая часть знания о них. Ученые и историки, которым кажется, будто они их знают и руководствуются ими, попросту лгут и изворачиваются – но тем не менее только эти законы и реальны. По сравнению с Толстым Гоголь и Достоевский, чью «ненормальность» так часто противопоставляют толстовской «вменяемости», выглядят весьма цельными личностями, с последовательным мировоззрением и внутренне единой системой представлений. Однако именно из этого отчаянного внутреннего конфликта выросла «Война и мир». Великолепное единство этого текста не должно нас обманывать; как только Толстой вспоминает или забывает забыть о том, что и зачем он делает, открывается зияние.
IV
Теории редко рождаются на пустом месте. Следовательно, и вопрос о корнях толстовского видения истории вполне правомерен. Все, что бы Толстой ни писал на эту тему, отмечено явственным отпечатком его личности – первостепенное качество, редкостное среди пишущих на абстрактные темы. В данной области он работал как любитель, а не как профессионал; но давайте вспомним, что он был причастен к миру великих дел, принадлежал к правящему классу своей страны и своей эпохи и прекрасно это понимал. Среда, в которой он вращался, была перенасыщена идеями и теориями. Во время работы над «Войной и миром» он поднял изрядное количество материала (хотя, как показали некоторые русские исследователи[305]305
К примеру, Шкловский и Эйхенбаум, чьи работы уже цитировались выше.
[Закрыть], не так много, как порой представляется), он много путешествовал и встречался с видными общественными деятелями в Германии и во Франции.
В том, что он много читал и испытывал влияние прочитанных книг, сомневаться не приходится. Общеизвестно, что он многим обязан Руссо, и, возможно, заимствовал у него, как и у Дидро и у французского Просвещения в целом, свой аналитический, антиисторический подход к социальным проблемам, в особенности – склонность трактовать их, соотнося с вневременными логическими, нравственными и метафизическими категориями, а не пытаться дойти до их сути, как настойчиво советовала немецкая историческая школа, через категории становления и реакцию на изменяющиеся исторические условия. Он оставался последовательным поклонником Руссо, и уже в поздние годы по-прежнему рекомендовал «Эмиля» как лучшую книгу о педагогике[306]306
«On n’a pas rendu justice à Rousseau… … J’ai lu tout Rousseau, oui, tous les vingt volumes, y compris le Dictionnaire de musique. Je faisais mieux que l’admirer; je lui rendais une culte véritable» («Руссо не воздали должного… Да, я читал всего Руссо, все двадцать томов, включая “Музыкальный словарь”. Я не только восхищался им, я поистине его боготворил» – (фр.).
[Закрыть]. Автор ее, должно быть, если и не зародил, то усилил в нем растущую тягу к идеализации почвы и работающего на ней человека, простого крестьянина, который для Толстого стал вместилищем едва ли не такого же богатого набора «естественных добродетелей», как для Руссо – его благородный дикарь. Вероятно, способствовал Руссо и тому, что в Толстом, в его собственной личности, становился все прочнее прямой и грубый крестьянский элемент; отсюда его пуританская строгость и склонность к морализаторству, его подозрительность и антипатия к богатым, власть имущим и просто счастливым, свойственное ему порой искреннее варварство, периодические вспышки слепой, очень русской ярости по поводу западной изощренности и изысканности и то восхваление простых вкусов, «здоровой» нравственной жизни, та воинственная антилиберальная дикость, которые можно считать особым вкладом Руссо в копилку якобинских идей. Не исключено также, что Руссо передал ему отношение к семье как к одной из самых главных ценностей и помог сформировать доктрину о первенстве сердца над разумом, нравственных достоинств – над достоинствами интеллектуальными и эстетическими. Все это отмечали и раньше, с этим трудно не согласиться, но вряд ли здесь можно найти истоки взглядов Толстого на историю, о которой глубоко антиисторичный Руссо не написал ничего внятного. И в самом деле, как только тот пытается возвести право отдельных людей властвовать над остальными к передаче власти в соответствии с общественным договором, Толстой тут же с немалым презрением доказывает полную несостоятельность этих взглядов.
Чуть ближе к истине подведет нас предположение о возможном влиянии на Толстого его романтически и консервативно ориентированных современников-славянофилов. С некоторыми из них он был довольно близок, в особенности с Погодиным и Самариным, в середине 60-х годов, когда писал «Войну и мир», и, естественно, вполне соглашался с их неприятием модных в то время исторических теорий, будь то метафизический позитивизм Конта и его последователей или более материалистические взгляды Чернышевского и Писарева, а также Бокля, Милля и Герберта Спенсера, той общей британской эмпирически ориентированной традиции, приправленной французским и немецким научным материализмом, к которой все эти очень разные люди в той или иной степени принадлежали. Славянофилы (в особенности Тютчев, чья поэзия так восхищала Толстого) могли повлиять на него, дискредитируя основанные на естественно-научных теориях исторические доктрины, которые, с точки зрения Толстого в не меньшей степени, чем с точки зрения Достоевского, не смогли дать верного представления о действительных поступках и страданиях человека. Они не годились хотя бы потому, что не учитывали «внутреннего опыта», считали человека явлением природы, равным всем прочим явлениям материального мира, игралищем безличных природных сил, ловя на слове французских энциклопедистов, славянофилы пытались изучать социальное поведение так же, как изучают пчелиный улей или муравейник, а затем сетовали на то, что сформулированные ими законы не в состоянии объяснить поведения живых людей. Кроме того, эти романтические поклонники старины помогли, должно быть, укрепить его природный антиинтеллектуализм и антилиберализм, как и глубоко скептическое и пессимистическое мнение, что в человеческих действиях главенствуют нерациональные мотивы, которые и властвуют над людьми и заставляют их обманываться на собственный счет. Короче говоря, славянофилы способствовали развитию в нем того врожденного консерватизма, благодаря которому Толстой весьма рано попал под подозрение у радикальной русской интеллигенции 1850-х и 1860-х и который привел ее к несколько неловким, но неотвязным мыслям о том, что, несмотря на отчаянно смелую критику существующей политической системы, на явную неортодоксальность и даже разрушительный нигилизм, он все-таки прежде всего граф, офицер, реакционер, чужак, мракобес и уж, во всяком случае, не révolté[307]307
Мятежник, бунтарь (фр.).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































