Текст книги "История свободы. Россия"
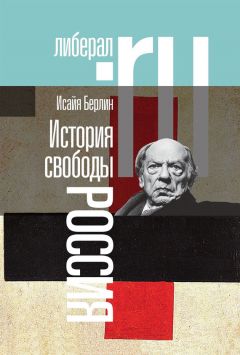
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
В дневниках раннего периода мы находим упоминания о его попытках сравнить «Наказ»[269]269
Инструкции императрицы в адрес исполнительной власти.
[Закрыть] Екатерины Великой с теми пассажами из Монтескье, на которых она, если верить ей самой, основывалась[270]270
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1928–1964. Т. 46. С. 4–28 (18–26 марта 1847 г.).
[Закрыть]. Он читал Юма и Тьера[271]271
Там же. С. 97, 113, 114, 117, 123–124, 127 (с 20 марта по 27 июня 1852 года).
[Закрыть], Стерна и Диккенса[272]272
Там же. С. 126, 127, 130, 132–134, 167, 176, 249; 82, 110; 140 (126–176: с 24 июня 1852 г. по 28 сентября 1853 г.; 249, 3 марта 1847 г.; 82, 110: 10 августа 1851 г., 14 апреля 1852 г.).
[Закрыть]. Его преследует мысль, что философские принципы можно понять только в их конкретно-историческом выражении[273]273
Там же. С. 123 (11 июня 1852 г.).
[Закрыть]. «Составить истинную правдивую Историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь»[274]274
Там же. С. 141–142 (22 сентября 1852 г.).
[Закрыть]. Или еще: «Нас забавляют более листочки дерева, чем корни»[275]275
Там же. Т. 1. С. 222.
[Закрыть]; такой взгляд на мир кажется ему поверхностным. Но вместе с этим все усиливается острое разочарование. Он ощущает, что история, в том виде, в котором ее преподносят специалисты, берет на себя задачи, с которыми ей попросту не справиться, поскольку, как и метафизическая философия, она прикидывается наукой, способной делать строго определенные выводы. Люди не могут решить философские вопросы, основываясь на принципах разума, и пытаются решить их исторически. Однако история – «одна из самых отсталых наук <…> наука, потерявшая свое назначение»[276]276
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 222.
[Закрыть]. Причина в том, что она не может, не способна дать ответ на великие вопросы, которыми мучительно задается человечество в каждом своем поколении. В поисках ответов на эти вопросы люди накапливают факты в их временно́й последовательности: однако эти факты – лишь побочный продукт, который – именно в том и состоит ошибка – воспринимают как основной, самоценный. И снова: «История не откроет нам, какое и когда было отношение между науками и художествами и добрыми нравами, между добром и злом, религией и гражданственностью, но она скажет нам, и то неверно, откуда пришли Гунны, где они обитали и кто был основателем их могущества и т. д.»[277]277
Там же.
[Закрыть]. По словам его друга Назарьева, Толстой сказал ему зимой 1846 года: «История есть не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колотовой, – в 1572 году?»[278]278
Назарьев В.Н. Люди былого времени // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. Т. 1. С. 52.
[Закрыть]
История не раскрывает причин; она предлагает нашему вниманию только чистую последовательность необъясненных событий. «Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте…»[279]279
Там же. С. 52–53.
[Закрыть] А полвека спустя, в 1908 году, он заявляет Гусеву: «История хороша бы была только совершенно истинная»[280]280
Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым… М., 1973. С. 188.
[Закрыть]. Представление о том, что историю можно (и должно) сделать научной дисциплиной, было общим местом в XIX веке, но таких, кто понимал «научный» как «естественно-научный», а затем задавался вопросом, как сделать историю наукой именно в этом смысле слова, было немного. Самым бескомпромиссным в этом отношении оказался Огюст Конт, который, вслед за своим учителем Сен-Симоном, пытался превратить историю в социологию; результат вышел совершенно фантастический, и останавливаться на нем я не собираюсь. Быть может, серьезнее всех прочих мыслителей эту программу воспринял Карл Маркс и смело, хотя и не очень удачно, попытался открыть общие законы, управляющие ходом истории, основываясь на заманчивой по тем временам аналогии с биологией и анатомией, победно использованной Дарвином при создании эволюционных теорий. Подобно Марксу (о котором во время работы над «Войной и миром» он, судя по всему, даже и не слышал), Толстой ясно понимал, что, стань история наукой, появится возможность открыть и сформулировать систему истинных исторических законов, которые в сочетании с данными эмпирического наблюдения позволят предсказывать будущее (и задним числом угадывать прошлое) столь же точно, как в геологии или астрономии. Однако куда яснее Маркса и его последователей он осознал фактическую неудачу предпринятой попытки и сам об этом говорил с привычным чистосердечием догматика, подкрепляя свой тезис аргументами, нарочно выстроенными так, чтобы получше показать, что достичь поставленной цели невозможно; а затем окончательно решил исход дела, заметив, что осуществление данной мечты положило бы конец человеческой жизни в том виде, в котором мы до сих пор ее наблюдали: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни (т. е. спонтанной деятельности, включающей сознание свободы воли)»[281]281
Война и мир. Эпилог. Ч. 1, гл. 1.
[Закрыть].
Но угнетала Толстого не только «ненаучная» природа истории – то обстоятельство, что, какие бы скрупулезные методы мы ни применяли при историческом исследовании, открыть сколь-нибудь надежные законы, основу основ и самой неразвитой из естественно-научных дисциплин, все равно не удастся. Размышляя дальше, он дошел до мысли, что не сможет оправдать в собственных глазах произвольного, судя по всему, выбора материала и не менее произвольной расстановки акцентов, свойственной всем историческим исследованиям. Факторы, определяющие жизнь человечества, жалуется он, весьма многочисленны и разнообразны, историки же склонны выбирать из них какой-либо единственный аспект, скажем – политический или экономический, и представлять его как основной, как действительную причину общественных изменений. Куда же в таком случае девать религию, куда девать «духовные» факторы и поистине неисчислимое множество иных аспектов, которые так или иначе проявляются во всех исторических событиях? Как не согласиться с Толстым, с точки зрения которого существующие исторические системы представляют «возможно, не более 0,001 процента элементов, действительно составляющих настоящую историю народов»? История в ее привычном виде обычно представляет «политические» – то есть публичные – события как наиболее важные, в то время как духовные – «внутренние» – события по большей части остаются в тени; но, скорее всего, именно они, «внутренние» события, составляют самый реальный, самый непосредственный пласт настоящей жизни. Из них, и только из них, в сущности, она состоит; следовательно, авторы привычных трактатов по истории несут пустопорожнюю чушь.
На протяжении 1850-х годов Толстой был одержим идеей написать исторический роман, и одной из основных целей в данном случае было столкнуть «реальную» жизненную ткань, как индивидуальную, так и общественную, с «нереальной» картиной, рождающейся под пером историков. На страницах «Войны и мира» мы раз за разом наталкиваемся на жесткое противопоставление «реальности» – того, что действительно произошло, – опосредующей и искажающей эту реальность субстанции, сквозь которую она пропущена, чтобы предстать перед публикой в официальных отчетах или даже в воспоминаниях непосредственных участников событий, поскольку исходные впечатления уже прошли контроль предательского рассудка (да, именно предательского – ведь он автоматически рационализирует и формализует сведения). Героев «Войны и мира» Толстой постоянно помещает в такие ситуации, в которых все это особенно ясно.
Во время битвы при Аустерлице Николай Ростов видит, как великий полководец, князь Багратион, едет со свитой в сторону деревни Шенграбен, откуда наступает противник. Ни он сам, ни его штаб, ни скачущие к нему с донесениями офицеры, ни вообще кто бы то ни было не знает, да и не может знать наверное, что происходит, где и почему; и от появления Багратиона хаос битвы ничуть не становится яснее ни в действительности, ни в глазах и умах русских офицеров. Однако появление это вдохновляет людей. Его смелость, его спокойствие, один только факт его присутствия создают иллюзию, первой жертвой которой становится он сам, – иллюзию того, что все происходящее каким-то образом связано с его военным дарованием, с его планами, что именно его воля в каком-то смысле определяет ход сражения; а это, в свою очередь, явственно воздействует на общий боевой дух. В отчетах, которые со временем будут написаны, всякое действие и всякое событие на русской стороне неизбежно припишут ему и его приказам; слава или бесславие, победа или поражение будут принадлежать ему, хотя всякому ясно, что к ходу и к результату битвы он имел меньше отношения, чем простые, никому не известные солдаты, которые, по крайней мере, действительно сражались, то есть стреляли друг в друга, ранили, убивали, наступали, отступали и так далее.
Это понимает и князь Андрей, особенно при Бородине, где его смертельно ранят. Осознавать эту истину он начинает раньше, еще тогда, когда он пытается встретиться с «важными» людьми, которые, на его взгляд, определяют судьбы России; и мало-помалу он убеждается, что главный советник Александра, известный реформатор Сперанский, как и его друзья, и даже сам Александр систематически обманывают себя, полагая, что их деятельность, их слова, их записки, рескрипты, резолюции, законы служат причиной исторических сдвигов, определяя судьбы людей и наций. На самом деле они – ничто: так, толкут воду в ступе и надувают щеки. Таким образом Толстой выходит на один из своих знаменитых парадоксов: чем выше полководцы или государственные деятели на пирамиде власти, тем дальше они от ее основания, состоящего из обычных людей, чьи жизни и есть действительная материя исторического процесса; и тем, соответственно, меньше воздействуют на историю слова и поступки подобных персон, несмотря на всю их власть.
В знаменитом пассаже о Москве 1812 года Толстой замечает, что героические свершения России после пожара наводят на такой вывод: ее обитатели были все до единого вовлечены в непрекращающееся самопожертвование – спасали свою страну или оплакивали ее тяжкую долю, совершали подвиги, шли на мученичество, впадали в отчаяние; а на самом деле они были заняты своими, частными нуждами. Те, кто был погружен в обыденные дела, не испытывая героических чувств и не числя себя актерами на ярко освещенной авансцене истории, оказались более всего полезны для своей страны и для ближних, те же, кто пытался понять общий ход дел и жаждал сыграть свою роль в истории, кто совершал акты немыслимого самопожертвования или героизма и принимал участие в грандиозных событиях, были всего бесполезнее[282]282
См.: Война и мир. Т. 4. Ч. 1, гл. 4.
[Закрыть]. Хуже всего, с точки зрения Толстого, те неуемные болтуны, которые обвиняли друг друга в том, «в чем никто не мог быть виноват», поскольку «в исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»[283]283
См.: Война и мир. Т. 4. Ч. 1, гл. 4.
[Закрыть]. Пытаясь «понять» что бы то ни было рациональными средствами, мы обрекаем себя на поражение. «Потерявшись» на Бородинском поле, Пьер Безухов пытается найти что-то напоминающее заранее спланированный спектакль, какой он представлял себе раньше; битву, как ее изображают историки и художники. Но находит только обычную сутолоку людей, хаотически влекомых теми или иными человеческими потребностями. В этом, по крайней мере, есть конкретность, не замутненная теориями и абстрактными понятиями; и Пьер, таким образом, ближе к пониманию истинного положения вещей – по крайней мере, с человеческой точки зрения, – чем те, кто считает необходимым подчиняться какому-либо своду рационально постижимых законов или правил. Пьер видит только череду «случайностей», чьи причины и следствия по большей части не обнаружимы и непредсказуемы; и какая-то зыбкая структура формируется сама собой, безо всякой видимой закономерности, из слабо связанных между собой событийных цепочек. Всякая попытка выявить систему, подходящую под «научные» формулы, ложна по определению.
Самые горькие свои насмешки, самую ядовитую иронию Толстой приберег для тех, кто выступает в роли официально признанных специалистов, разрешающих стоящие перед народами проблемы, в данном случае – для западных теоретиков военного дела, генерала Пфуля или генералов Бенигсена и Паулуччи, которые несут вздор на Дрисском совете, вне зависимости от того, защищают они стратегическую или тактическую доктрину или опровергают; эти люди не могут быть никем иным, как самозванцами, поскольку ни одна теория не охватит бесчисленных форм возможного поведения, необозримого множества мельчайших, непредсказуемых причин и следствий, именно и формирующих ту систему взаимодействия человека с природой, на описание которой претендует история. Тот, кто претендует на умение втиснуть это бесконечное разнообразие в некие «научные» рамки, – либо шарлатан, либо слепец, ведущий слепого. Самые резкие суждения припасены для главного теоретика, для великого Наполеона, который действует и других гипнотически убеждает в том, что он действует, понимая и контролируя события, ибо силой божественного своего интеллекта, или чутьем, или по каким-то иным неведомым причинам обладает способностью давать правильные ответы на каждый поставленный историей вопрос. Чем больше претензий, тем больше лжи; соответственно, Наполеон – самый жалкий, самый презренный из всех актеров, играющих в этой великой трагедии.
В этом и заключается великая иллюзия, которую Толстой задался целью выставить на свет Божий, – иллюзия того, что всякий отдельно взятый индивид может, опираясь на свои собственные возможности, осознавать и контролировать ход событий. Те, кто в этом уверен, жестоко заблуждаются. А рядом с личинами, надетыми на потребу публике, с полыми людьми, наполовину заблуждающимися, наполовину сознающими собственное мошенничество, которые говорят и пишут отчаянно, бесцельно, чтобы поддержать мир кажимостей и избежать мрачных истин; бок о бок с этой хитро выстроенной машинерией, скрывающей обманное зрелище человеческой немощи, несообразности и слепоты, лежит реальный мир, поток жизни, доступной пониманию человека, если только он внимателен к обыденным деталям повседневного существования. Когда Толстой сопоставляет реальную жизнь – действительный, каждодневный, «живой» опыт отдельных людей – с наколдованным историками панорамным виденьем, у него не возникает сомнений в том, где здесь реальность, а где пусть связная, пусть – иногда – элегантно выстроенная, но неизменно фиктивная конструкция. Толстой и Вирджиния Вулф – очень разные писатели и люди, они не похожи почти ни в чем, но, кажется, именно он впервые сформулировал то знаменитое обвинение, с которым полвека спустя она обрушилась на пророков своего поколения – Шоу, Уэллса, Арнольда Беннетта – слепых материалистов, которые так и не поняли, из чего состоит настоящая жизнь, так и не отвыкли подставлять самые внешние и случайные ее проявления, тривиальнейшие аспекты, почти не затрагивающие человеческую душу, – социальные, экономические, политические реалии – вместо единственно истинной материи, индивидуального опыта, особой системы отношений, цвета, запаха, вкуса, звуков и движений, ревности, любви, ненависти, страстей, редких озарений, еще более редких минут, когда человек внутренне преображается, простой и обыденной последовательности лично значимых данных, из которых, собственно, и состоит все на свете.
Что же тогда должен делать историк? Описывать окончательные данные субъективного опыта, личную жизнь частных людей, те «мысли, науку, поэзию, музыку, любовь, дружбу, ненависть, страсти»[284]284
Война и мир. Т. 2. Ч. 3, гл. 1.
[Закрыть], из которых, согласно Толстому, складывается «реальная» жизнь, – и только? Именно к этому Тургенев постоянно призывал и Толстого, и всех остальных, но его в особенности, поскольку здесь речь шла об истинном гении, обреченном стать величайшим русским писателем; именно это Толстой отвергал с яростью и возмущением даже в середине жизни, до наступления последней, религиозной фазы. Вместо того чтобы ответить на вопрос о природе вещей, о том, как и откуда вещи берутся и как исчезают; это, по мнению Толстого, отторгает от реальности, подавляет желание докопаться до того, как люди живут в обществе, как и с какой целью они воздействуют друг на друга и на окружающую жизнь. Такой писательский пуризм – в те дни главным проповедником его был Флобер, – такая сосредоточенность на опыте, отношениях, проблемах и внутренней жизни индивида (позже ее проповедовали и осуществляли Андре Жид и находившиеся под его влиянием литераторы во Франции и в Англии) казались ему и банальными, и фальшивыми. Он не сомневался ни в том, что сам в высочайшей степени одарен именно этой способностью, ни в том, что именно по этой причине многие им восхищаются; и отрицал ее без оговорок.
В письме, написанном во время работы над «Войной и миром», он печально признавал: да, конечно, публика прежде всего оценит вышедшие из-под его пера сцены общественной и частной жизни, его дам и господ, со всеми их мелкими интригами, увлекательными беседами, великолепно подмеченными маленькими странностями[285]285
Ср. своего рода декларацию в его знаменитом – и воинствующе моралистическом – вступлении к изданию Мопассана, чьим даром он, несмотря ни на что, восхищался («Предисловие к сочинениям Гуи де Мопассана» // Цит. соч. Т. 30. С. 3–24). Гораздо менее высокого мнения он о Бернарде Шоу, чьи рассуждения на социальные темы он называет затасканными и плоскими (запись в дневнике от 31 января 1908 г. // Там же. Т. 56. С. 97–98).
[Закрыть]. Но это всего лишь тривиальные «цветы» жизни, а не ее «корни». Цель Толстого – обнаружить истину, а потому он должен знать, из чего состоит история, и воссоздавать именно эту, первичную материю. История – не наука, а социология, претендующая на статус науки, – сплошное мошенничество; до сих пор не открыт ни один сколь-нибудь достоверный исторический закон, а находящиеся в обращении концепции – «причины», «случайности», «гения» – ничего не объясняют; это – всего лишь неудачный способ замаскировать собственное невежество. Почему события, сумму которых мы именуем историей, происходят именно так и никак иначе? Некоторые считают их плодом деятельности тех или иных индивидов, но это не ответ; историки не объясняют, как же эта деятельность «определила» или «породила» события.
Есть у Толстого жестоко иронический пассаж, пародирующий среднестатистическую школьную историю его времени, настолько типичный сам по себе, что имеет смысл привести его полностью[286]286
Война и мир. Эпилог. Ч. 2, гл. 1.
[Закрыть].
«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек – Наполеон. Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться. И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народа. И Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александр, с помощью советов Штейна и других, соединил Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и французы и союзники только смеялись. Наполеон же, проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты (в особенности Талейран, успевший сесть прежде другого на известное кресло[287]287
Определенную разновидность кресел в стиле ампир до сих пор называют в России «талейрановскими».
[Закрыть] и тем увеличивший границы Франции) разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми и несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это время Наполеон с батальоном приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы».
Толстой продолжает:
«… новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает. <…>…первый вопрос…следующий: какая сила движет народами?
<…>
История как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать эту новую силу известною, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений, невольно усомнится в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известна».
Далее он пишет о том, что авторы подобных сочинений ровным счетом ничего не объясняют. Они приписывают события «власти» над всеми прочими, которой, как принято считать, обладают особенно важные люди, но не говорят нам, что означает сам термин «власть»: а именно в этом суть проблемы. Проблема исторического развития непосредственно связана с «властью» одних людей над другими, но что такое «власть»? Как она достается человеку? Может ли один человек передать ее другому? Неужели имеется в виду простая физическая сила? Или сила моральная? А какой из них, кстати сказать, обладал Наполеон?
Авторы общих, то есть не национальных, историй, с точки зрения Толстого, всего лишь расширяют эту категорию, нимало ее не проясняя: на место одной страны или нации встает множество, но взаимодействие таинственных «сил» ничуть не проясняет, отчего одни нации подчиняются другим, отчего ведутся войны, одерживаются победы, отчего невинные люди, которые искренне считают убийство предосудительным, убивают друг друга с воодушевлением и гордостью и получают за это награды; отчего случаются великие перемещения больших человеческих масс, иногда – с востока на запад, иногда – наоборот. В особенности раздражают Толстого ссылки на влияние великих идеологов. Великие люди, уверяют нас, типичны для современных им движений, а потому изучение их характеров может эти движения «объяснить». Каким образом характеры Дидро или Бомарше «объясняют» влияние Запада? Каким образом письма Ивана Грозного к князю Курбскому «объясняют» русскую экспансию на Восток? С историками культуры дело обстоит не лучше, они всего лишь вводят еще один фактор, некую «силу» идей или книг, хотя мы по-прежнему не знаем, какой смысл вкладывается в понятие «силы». Каким образом Наполеон, или мадам де Сталь, или барон Штейн, или царь Александр, или все они, вместе взятые, вкупе с Contrat social[288]288
общественным договором (фр.).
[Закрыть] «побудили» французов рубить друг другу головы и топить друг друга в реках? Почему это принято называть «объяснением»? Особую важность историки культуры приписывают идеям; что ж, всякому свойственно преувеличивать значимость своего товара, а идеи – товар, имеющий хождение среди интеллектуалов. Для сапожника нет ничего важнее кожи, вот ученые и пытаются возвести свои личные достижения в ранг «сил», управляющих миром. Толстой добавляет, что моралисты и метафизики еще больше запутывают проблему. Например, известная концепция общественного договора, которой торгуют вразнос некоторые либералы, учит нас, что множество людей препоручают волю, иными словами – власть, одному конкретному человеку или группе людей, но что же происходит на самом деле? Акт этот может иметь юридическое или этическое значение, его можно соотнести с тем, что считается разрешенным или запретным, с миром прав и обязанностей, или с понятиями добра и зла, но объяснить, каким образом властитель собирает достаточное количество «власти», словно это некий товар, чтобы оказывать влияние на исход тех или иных событий, он никак не может. Концепция «общественного договора» учит, что сам факт обладания властью делает человека могущественным; но эта тавтология тоже ничего не дает. Что такое «власть», что такое «обладание»? Кто наделяет властью, и как это осуществляется на практике?[289]289
Один из российских критиков Толстого, М.М. Рубинштейн, на которого мне уже приходилось ссылаться, утверждает, что всякая наука использует не подлежащие анализу термины для того, чтобы обозначить сферу деятельности других наук, и что «власть» как раз и оказывается ключевым необъяснимым понятием исторической науки. Однако Толстой уверен в том, что никакая другая наука не в состоянии его «объяснить», поскольку в том смысле, в котором его употребляют историки, этот термин попросту не имеет смысла, ни концептуального, ни вообще какого бы то ни было.
[Закрыть] Данный процесс, судя по всему, весьма отличен от того, что изучают естественные науки. Наделение – это действие, но действие непостижимое; наделение властью, принятие власти, использование власти совсем не похожи на еду или питье, на мышление или на ходьбу. Мы так и остаемся во тьме; obscurum per obscurius[290]290
[объясняя] темное темнейшим (лат.).
[Закрыть].
Расправившись с юристами, моралистами и философами от политики – в том числе и со своим любимым Руссо, – Толстой принимается за расправу над либеральной теорией истории, согласно которой все что угодно может произойти в силу самой незначительной, на первый взгляд, случайности. Отсюда страницы, на которых он упрямо старается доказать, что Наполеон знал о том, что в действительности происходит на поле Бородинской битвы ничуть не больше, чем самый последний из его солдат; и, следовательно, начавшийся у него накануне насморк, вокруг которого историки подняли столько шума, не имеет существенного значения. Он изо всех сил доказывает, что нам представляются кардинально важными (и привлекают внимание историков) только те решения и приказы, которые случайно совпали с дальнейшим ходом событий; тогда как великое множество других, ничуть не менее обдуманных решений и приказов, которые в ходе сражения казались ответственным за них лицам столь же кардинальными и жизненно важными, забыты потому, что неблагоприятное для них течение событий помешало их выполнить, и они кажутся теперь не имеющими исторической значимости.
Воздав по заслугам концепции героического в истории, Толстой с еще большим пылом обрушивается на научную социологию, которая претендует на открытие неких исторических законов, что невозможно по определению, ибо количество причин, порождающих любое историческое событие, чересчур велико и для человеческой системы знания, и для статистических подсчетов. Мы знаем слишком мало фактов, выбираем из них наугад и руководствуемся нашими субъективными предпочтениями. Будь мы всеведущими, мы при этом, несомненно, могли бы, как идеальный наблюдатель Лапласа, проследить путь каждой капли, составляющей поток истории, но, к сожалению, мы – жалкие невежды, и подконтрольные нам области знания ничтожно малы по сравнению с теми, которые не нанесли и (Толстой яростно на этом настаивает) никогда не нанесут на карту. Свобода воли – неизбежная иллюзия, однако, как считают великие философы, реальной от этого она не становится и проистекает исключительно от того, что мы не знаем истинных причин происходящего. Чем больше мы узнаем об обстоятельствах того или иного поступка, тем дальше он отодвигается во времени и тем труднее рассчитать все его возможные последствия; чем глубже тот или иной факт укоренен в нашей повседневной реальности, тем труднее нам представить, что было бы, если бы все вышло совсем иначе. Он кажется нам изначальной данностью; думая иначе, мы поменяли бы слишком многое в привычном миропорядке. Чем ближе мы соотносим действие с контекстом, тем менее свободным кажется действующее лицо, тем менее ответственным за свое деяние, и тем меньше нам хочется требовать его к ответу, в чем-то его обвинять. Мы не в состоянии осмыслить всех причин события, соотнести каждый человеческий поступок с обусловившими его обстоятельствами, но это не значит, что мы свободны; просто мы так и не постигнем их причинно-следственной связи.
Центральный тезис Толстого (в каком-то отношении схожий с теорией о неизбежном «самообмане» буржуазии, созданной его современником Карлом Марксом, с той разницей, что Маркс говорит о классе, а Толстой распространяет эту мысль едва ли не на все человечество) состоит в том, что существует некий закон природы, которому подчиняется все сущее, не исключая и человека; но люди не могут без страха взглянуть в лицо этому неумолимому процессу и пытаются представить его как последовательность актов свободного выбора, чтобы возложить ответственность на тех, кого сами же и наделяют героическими доблестями или пороками и называют «великими людьми». Кто же это такие? Обычные люди, в достаточной степени тщеславные и невежественные для того, чтобы принять на себя ответственность за жизнь общества; те, кто скорее готов связать свое имя со всеми жестокостями, несправедливостями и несчастьями, чем признаться в ничтожности и беспомощности перед лицом вселенского потока, который следует своей дорогой независимо от их желаний и помыслов. В этом – главный смысл тех пассажей (очень «толстовских»), в которых реальное течение событий описывается бок о бок с абсурдными, эгоцентрическими объяснениями, которые волей-неволей дают им люди, раздувшиеся от чувства собственной значимости. Чудесно описывает он и те минуты, когда правду о доле человеческой прозревают люди, у которых достало смирения признать свою незначительность и немощь. В этом же – главная цель философских пассажей, где, куда яростнее, чем Спиноза, но с теми же исходными мыслями, Толстой обличает ошибки мнимых наук.
Есть у него особенно яркое сравнение[291]291
См.: Война и мир. Эпилог. Ч. 1, гл. 2.
[Закрыть]: великий человек подобен барану, которого пастух откармливает на убой. Баран постепенно жиреет, ему на шею вешают колокольчик, и он может с легкостью вообразить, что он и есть настоящий предводитель отары, а остальные овцы идут туда, куда они идут, повинуясь его воле. Он так считает, и отара может так считать. Тем не менее цель, для которой он избран, – совсем другая, и поставили ее существа, о чьих мотивах ни он, ни другие овцы не имеют ни малейшего представления. Для Толстого таким бараном были и Наполеон, и, до определенной степени, Александр, да и вообще все великие исторические фигуры. Как заметил проницательный историк литературы[292]292
См.: Шкловский В.Б. Цит. соч. (см. сноску 11). Гл. 7, 8; Покровский К.В. Источники романа «Война и мир» // Обнинский и Полнер. Цит. соч. (см. сноску 14).
[Закрыть], Толстой время от времени склонен едва ли не сознательно идти против исторической очевидности. Умышленно, не так уж редко, он искажает факты, чтобы лишний раз подтвердить свою любимую теорию.
В первую очередь речь идет о Кутузове как о литературном персонаже. Герои, подобные Безухову или Каратаеву, по крайней мере вымышлены, и Толстой имеет полное право наделять их самыми положительными, с его точки зрения, качествами – смирением и свободой от бюрократической, научной или еще какой-нибудь слепоты. Однако Кутузов – фигура реальная, и весьма показательно шаг за шагом Толстой превращает хитрого, слабого, престарелого сластолюбца, продажного и склонного к сикофантству придворного из ранних набросков, основанных на аутентичных источниках, в истинный символ русского народа, со всей его простотой и природной мудростью. К тому времени, когда мы добираемся до прославленной сцены в Филях – одной из самых трогательных в мировой литературе, – где Толстой описывает, как старый полководец пробуждается, услышав о том, что французская армия отступает, мы уже никак не связаны диктатурой фактов, мы в воображаемом царстве, в исторической и эмоциональной атмосфере, выстроенной на более чем скользких основаниях, но совершенно необходимой для созданной Толстым конструкции. Апофеоз Кутузова не имеет никакого отношения к истории, сколько бы автор ни клялся в безраздельной преданности святому идеалу истины.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































