Текст книги "Вьюга"
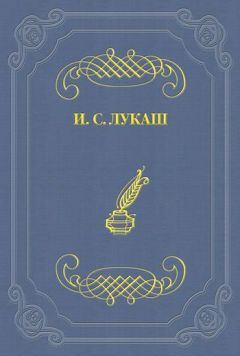
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Глава XXVIII
Пашка тащился по гулкому вокзалу большого города. От пара мутились фонари, все смутно гремело: в вагоны грузили красноармейцев и лошадей. Лошади топотали по настилам.
Катя, обмотанная платком, не отставала от него. Позвякивал ее чайник. Костя спал на Пашкиной спине, под полушубком. Так он приспособился носить мальчика.
Он умел теперь прятаться от стужи и ветра на вокзалах, в пустых сараях, между мешков с известью и в угольных ямах у железнодорожного полотна.
Он усадил детей в темноте под стойкой, у багажного отделения, а сам пошел осмотреться.
– Пашка, – окликнул кто-то.
Он содрогнулся, поджался. От самого звука голоса стало страшно. Он узнал голос брата. Николай, в солдатской шинели, в заиневшем башлыке, показался ему отощавшим, костлявым, его очень меняла темная борода, клочьями во все стороны.
Николай смеялся, цепко пожимал ему руку обеими руками. Говорил глухо, точно с одышкой.
– Я тебя сразу узнал, совсем не изменился. Как ты сюда попал? А меня, брат, с санитарным эшелоном в Москву везут. Мне нельзя вставать, а видишь, хожу. Вот встреча.
Он повел его под фонарь, не выпуская руки. Рука Николая, с узловатыми пальцами, была неприятно вялой, горячей.
– Ты разве нездоров, Коля?
– Черт его знает, после сыпняка осложнения. Лихорадка какая-то. А, все ерунда. Дома как? Давно из Питера?
– Давно. И не помню.
Николай крепче пожал ему руку:
– Ты туда пробираешься? Белогвардеец, по-прежнему?
– Тише, Коля.
– Молодчина. А мама как?
– Я же писал тебе в Москву.
– Да я из Москвы когда уехал. Они меня по всем фронтам таскают. Я у них в снабжении служу. Все по той же части: банный генерал.
Николай рассмеялся:
– Ничего не получал.
Пашка потупился, закручивая на палец обрывок меха на полушубке:
– Мама умерла.
Рука Николая дрогнула. Он задышал быстро и сказал каким-то жалостным, легким голосом, какого Пашка не слышал никогда:
– Бедная мама.
Пашка посмотрел на брата застенчиво:
– Мама тебе благословение послала, просила, чтобы помнил.
– Бедная наша мама. Я был порядочный скотина с нею.
Николай понурился:
– Об Ольге я не спрашиваю. Пропала, брат, наша Ольга. Вот как нас, Маркушиных, смело. И сколько таких семей, как наша, сметено. А за что, зачем? Ни за что и ни за чем. Ни к чему вся эта проклятая революция.
Пашка посмотрел на него с удивлением. Николай вдруг потряс его за жесткие плечи:
– Пашка, мальчуган бедный, голубчик, прости меня.
– Что ты, Коля.
– Нет, прости, прости. Как я подло с тобой в Питере поступил. Все верно: я тебе о большевиках врал, я пристроиться к ним хотел, понимал, что бесчестно, но у меня душа такая, ничтожная. Думал, буду жить под большевиками, как все, еще может, лучше, чем раньше жил, не все ли равно. А теперь, когда повертелся с ними, точно проснулся. Я тебя всегда, Пашка, помнил, бедный ты мальчик. Нет, нельзя так жить. Не будут так жить. Как люди страдают. Никому и ни за что нельзя так человека мучить. Самую жизнь вышибают. Одна надежда, что проснутся люди, как я. Может быть, все для того и случилось, чтобы люди проснулись. Вот я точно проснулся, точно воскрес.
– Пашка! – лихорадочно и тревожно вскрикнул вдруг Николай, отнимая руки с плеч брата. – А мертвые воскресают?
– Да, конечно.
– Воскресают, воскресают… Николай легко рассмеялся.
– Ах, как я рад тебе, Пашка, ты и представить не можешь, голубчик мой, молодец… Да вот времени нет, эшелон может тронуться.
Пашка смотрел на него и точно впервые узнавал в смутном свете вокзального фонаря. С жаркими глазами, в шинели с чужого плеча, с этой нелепой бородой клочьями Николай был настоящим, почему-то жалким и беспомощным, но настоящим старшим братом, какого он не знал никогда раньше.
– Я тебе только хочу сказать, Паша… Это, конечно, верно, что я банный генерал.
– Ну, Коля, опять.
– Нет, верно. Слабый я человек. Не вышел я как человек. Николай посмотрел на свои тощие руки, с робостью улыбнулся:
– А одно неверно. Неверно, что я Аглаю не любил. Я ее любил и люблю. Пашка побледнел.
– Я ей в Питер писал, в деревню, – грустно говорил Николай. – Она не отвечает. Почему же не отвечает, почему? Хотя бы два слова…
Пашка стиснул зубы до того, что на скулах задвигалась кожа, поднял голову с трудом:
– Коля, знаешь что, прошу тебя, не пиши ты Аглае.
– А что?
– Так, не пиши.
– Но почему?
– Видишь ли, она уехала из деревни, – Пашка заторопился. – Понимаешь, уехала, что же даром писать, не надо, она в Крым уехала или куда-то на юг. Понимаешь…
– Я же не знал… Теперь я понимаю. Это очень хорошо, что она в Крым уехала. Ане-то как хорошо будет. Теплынь. Как поправлюсь, обязательно поеду искать, какие бы там ни были фронты.
– Коля, я не знаю в точности, может быть, она не в Крыму, Коля.
Но Николай уже был уверен, что, без сомнения, найдет Аглаю в Крыму, ему даже казалось, что он найдет их почему-то в Симеизе.
– Пашка, а помнишь ли, как она в деревню уезжала, ведь я тоже на вокзале был. Только отвернулся от тебя, стыдно стало, что заметишь. Прости меня, братишка бедный, за все, что случилось.
– Ты ни перед кем и ни перед чем не виноват, Коля, ты чудный мой брат, самый хороший, какой есть на свете. Я тебя люблю.
– Постой, полно. Что я еще хотел спросить… Ей-Богу, голова кругом.
– Смотри, поезд пропустишь.
– А ты? Неужели, правда, к белым?
– Да.
– Молодец, Пашка. А я, брат, запутался. Потерянный я человек, конченый. Говорят, белых отбили, но они еще где-то тут, близко… Ах, ей-Богу, идти пора. И по ногам дует до черта… Если Аглаю увидишь у белых, скажи, прощения прошу. Так и скажи: Николай прощения просит за все, так и скажи.
– Хорошо. Я скажу. Хорошо.
Он повел брата под руку к эшелону. «Потерянный человек», – вспомнил он с жалостью его слова.
Темные теплушки скрипели, подавались, когда они подошли. Николай успел забраться на площадку, толкаясь о стенки.
– А Катя, как Катя? – стал он кричать в туман, с площадки, но Пашка уже не слышал.
Стучащие вагоны скоро слились в одно гремящее темное мелькание.
Пашка стоял, понурясь. Он понял, что не увидит брата больше никогда…
В степи, на шоссе, над которым стоял морозный низкий пар, разъезд белых наткнулся на трех оборванцев.
Впереди шел молодой человек в рваной чухонской шапке, в пожухшем извалявшемся полушубке с чужого плеча. Он вел за руку мальчика. За ними плелась девочка в темном платке, с жестяным чайником на веревочке.
Молодой человек сказал, что его зовут Маркушиным Павлом, что он ученик пятого класса бывшей Ларинской гимназии в Петербурге, стал уверять, что пробирается в армию к белым. Одному из всадников он подал гимназический билет, потертый, в оборванном черном коленкоре, а девочка сказала, что ее зовут Катей. Побродяжка сначала назвал ее сестрой, потом поправился, что она воспитанница его матери. Он сказал, что муж его сестры, убитый у Зимнего дворца, был поручиком Новочеркасского пехотного полка, а он ведет к белым его сына, Костю.
Люди и лошади дымились от холодного пара. Шинели были в инее. Озябшие всадники слушали равнодушно и пасмурно, но юноша так смотрел светло-карими глазами, так горячо рассказывал о себе и так совал всем гимназический билет, что старший разъезда сказал с легкой улыбкой:
– Да мы верим вам… В штаб.
Трое пошли между коней. Кони чихали от сырости. Скребли копыта по гололедице. В тумане, на шоссе, сначала были видны плечи и головы всадников, потом все расплылось тенями.
Один из кавалеристов прыгнул с коня, пошел рядом с оборванцем. Это был длинноносый молодой солдат с худой шеей, обмотанной серым шерстяным шарфом. Пашка с восхищением смотрел на своего конвоира, на его карабин с потертым прикладом, на крепкие сапоги желтоватой кожи с позвякивающими шпорами и как он идет, глубоко засунувши руку с поводом в карман английской шинели, – на все он смотрел с восхищением, еще не веря вполне, что это белые, настоящие, живые.
По погонам, по ладным шинелям, по фуражкам, по самым лицам он понимал, что это белые, в чем-то или во всем иные люди, чем большевики, что это свои.
Кавалерист с озябшим лицом посматривал на него, хотел заговорить. Подросток в солдатской шинели был, как и Пашка, гимназистом, только не петербургским, а харьковским. По глазам, по лицу он сразу понял, что оборванец говорит правду, что он свой, и прыгнул с коня, чтобы поговорить с ним и заодно размять ноги. Он вытянул из-под шинели смятую папиросу, протянул Пашке:
– Хотите курить?
– Благодарю вас, не курю, – ответил тот, с восхищением глядя на конвоира.
– Трудно было к нам пробираться? – спросил кавалерист, чувствуя не без удовольствия, что Пашка им любуется.
– Очень. Очень трудно. Я даже думал, не доберусь. Вы уходили все дальше.
– Да, отступаем. Говорят, на Киев пойдем. Длинноносый покосился на Катю и, придерживая повод то одной, то другой рукой, стал рыться в карманах шинели, и в гимнастерке, и под шинелью, где-то сзади. Наконец, он извлек кусок сахара, явный огрызок, желтоватый, в приставших шерстинках и соре:
– Можно вам? – сказал он Кате и покраснел. – И мальчику тоже.
Катя не ждала, смутилась, сжала подарок в нечистой узкой руке и, с неожиданным изяществом, похорошевшая, повернула голову к кавалеристу:
– Спасибо…
Пашка с детьми шел между коней, а хотелось ему дышать сильно, всей грудью, такое он чувствовал облегчение. Ему казалось, что он вышел в иной мир, где небо и люди, и снег – все иное, чем у большевиков, он снова в мире живом и чудесном, куда так стремился.
Он точно вышел из боя. Так и было, что он, изорванный и обгоревший, вышел из страшного боя. Мир рушился кругом него, ему суждено было видеть одну гибель, предательства, смерть, но он шел, как непобедимый герой, в грозе всех разрушений, среди всех смертей, и вот прибило его к кучке всадников в туманной степи. Тощий оборванец с сияющими светло-карими глазами шел между коней, живой человек со всей его спасенной жизнью в себе, еще неведомый миру победитель, новый герой. Пашка услышал, как далеко в степи очень низко и глухо ворочается что-то тяжелое.
– Пушки, не правда ли? – сказал он с восторженной тревогой.
– Пушки, – ответил равнодушно конвоир. – Большевики…
Пашка уже решил, что с первым же лазаретным эшелоном ему удастся отправить к Любе в Киев Катю и Костю (один из кавалеристов только что поднял его в седло), а сам непременно останется здесь, в команде конных разведчиков, с этим харьковским гимназистом, ведущим коня на поводу.
Он останется здесь и, может быть, никогда не увидит Любы, к которой так стремился. Его могут убить в бою. Был, скажут, Пашка Маркушин и нет Пашки. Но память о нем будет жить у Любы и Кати, у Кости и Вегенера, у Коли, Саньки, может быть, у Ванятки и Лебедева, как в нем жива память об отце и матери, Гоге или Тимофее Ивановиче, и люди, может быть, еще узнают когда-нибудь о Пашке Маркушине, белогвардейце, как желал он правды и как защищал жизнь со светом ее, как восстал он за человека, за Сына Человеческого, за всю жизнь живую, в какой свет дыхания Его. Если люди это забудут, тогда и он, Пашка, будет забыт, но все люди еще неминуемо вспомнят, что жизнь – святыня и чудо, тогда-то вспомнят они и о Пашке Маркушине.
А то увидит он Любу в Киеве или не в Киеве, если придется уйти за границу, из России. Конечно, увидит ее. Киев представился ему громадным древним витязем в блещущем золотом шлеме, с красным щитом.
Так, вероятно, и будет, что в багряное морозное утро на Киевском товарном вокзале, где навес изрешечен пулями, станет весело сгружаться его конный полк. Над Киевом в тот день румяными столбами будет ходить морозный дым, Киев так и покажется ему блещущим витязем, и будут ворчать пушки в Святошино.
А на нем – кавалерийская шинель, со шпорами желтоватые сапоги, как теперь у его конвоира, и так же, как у того, лесенкой, по-солдатски, будет выстрижена его голова.
На вокзале он увидит Любу с Костей и Катей, глухой сестренкой. Они издали узнают друг друга. Он увидит глаза Любы, ее шевелящиеся брови. Его озарит свет ее лица.
Сквозь толпу он пойдет к ней навстречу, и она пойдет к нему, сначала медленно, как бы не веря, что они встретились, а потом оба, не видя ничего, кроме своих сияющих глаз, бегом они бросятся навстречу друг другу…
Копыта коней скрипели по гололедице, по щебню. Тяжкие пушки ворчали далеко в степи с глухой, возрастающей тревогой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































