Текст книги "Вьюга"
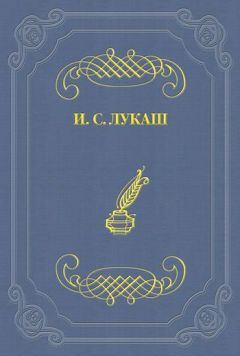
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Глава XII
В светлый зимний день мать сказала:
– А ты знаешь, приехала Аглая и Любочка. У Аглаи уже дочка.
Пашку обрадовало нечаянное известие. Никогда не забывал он чернобровую девочку, строгую Любу.
Он побежал к Сафоновым вниз. Ему открыла сама Люба. Сначала он не узнал ее, как будто не год, а век прошел, как они прощались. Она вытянулась, стала тоненькой, ее темная коса, перекинутая на грудь, мягко лежала у плеча. Необыкновенно светилось ее тонкое и строгое лицо. Ее девической красоты он и не узнал, смутился очень.
Люба взглянула на него радостно, насмешливо, точно они виделись только вчера, и сказала, сдвигая брови:
– Здравствуйте, Паша. Однако вы и свинья.
Пашка вспыхнул, обиделся:
– Хорошенькая встреча.
Люба уже закрыла за ним дверь на цепочку:
– Конечно, свинья. Почему никто, кроме вашей мамы, ни разу не был у папы? А еще родственники. Вы все, Маркушины, такие.
Пашка, правда, как-то забыл, что под ними живет лысый штабс-капитан, отец Любы Сафоновой, до глубокой осени ходивший через двор в одной военной тужурке. Впрочем, он также забыл и о Вегенере, кого не видел целую вечность.
– Пусть я свинья, – согласился он, насупясь. – Но у нас здесь столько произошло, эта революция, коммуна, что у меня из головы вон…
На этом они помирились, и Люба позвала его на Николаевский вокзал помочь дотащить коробки из багажа. Пашка увидел Аглаю в соседней комнате. Она снимала белые гамаши со своей девочки. Та сидела на столе и что-то лепетала. Аглая показалась ему озабоченной и осунувшейся. Капитана дома не было.
У Николаевского моста подросткам стали попадаться прохожие. На шестой линии, рядом с шоколадным магазином «Конради», теперь пустым и замерзшим, около темной ямы, где прежде на углу был образ, стоял на студеном ветре старик, повязанный платком, в ветоши с форменными пуговицами. Старик с жалобным бормотаньем протянул им руку. Пашка подумал, что старику еще труднее, чем Любе или ему. Но подать было нечего.
Набережная около Академии художеств была в покатом льду. У моста лежала конская падаль.
От бескормицы кони валялись всюду, точно по городу проскакала атака, оставившая жертвы. Набережная была пуста до самого Университета, едва красневшего вдали.
Эта пустота и падаль особенно поражали Пашку. Замерзший конь был в инее, как в серебряной седине, к стертым подковам пристали черные соломинки. И странно, каждый конь напоминал ему чем-то убитого Гогу. В зрелище смерти была какая-то повелевающая немота. Конь был с вытянутыми ногами в связках сухожилий, коричневые, как у старого курильщика, зубы оскалены; серая губа в волосках отвисла.
Через пустой, заваленный снегом Александровский сад подростки вышли на Невский. Проспект открылся им пустой, потемневший, грязный, умолкший.
– Вот как пропал Петербург, – строго сказала Люба. – И не узнать.
У заколоченных магазинов, вдоль тротуара, стали попадаться торговки, дамы с посиневшими лицами, в шляпках, в облезших горжетках и прорванных перчатках. На тарелках, прикрытых платками, у них были лепешки из картофеля, папиросы. Студент Путейского института в хорошей шинели с барашковым воротником, но в разношенных сапогах с кривыми каблуками продавал газеты. Все перетаптывали ногами, терли уши. Они стояли с нищенской снедью, покуда их не сгонят солдаты в долгополых шинелях с винтовками, пикеты милиции, которым приказано вольную торговлю сгонять.
Люба шла так быстро, что Пашка иногда пускался вприпрыжку. Люба бежала мимо голодных людей, вдоль обмерзших стен, запертых ставен.
– Ненавижу, – обернулась она к Пашке, сильно, быстро дыша. – Я просто по улице ходить не могу. Я всех ненавижу.
Она посмотрела на белобрысого путейского студента с газетами:
– Ну зачем он газеты продает?
– Вот странно. Когда все перевернулось, надо чем-нибудь жить.
– Чем-нибудь. Лучше не надо жить… Это ужасно, какие все вдруг жалкие стали. Всему поддаются. Ужасно неправильно, что офицер становится сапожником, студент газетчиком, другие милостыню просят. Их живьем морят, а они топчутся тут, ежатся, все терпят. Я их терпение ненавижу. Они ничтожные стали, понимаете, точно жалость к себе вызвать хотят. И у кого? У своих живодеров.
Стремительная, с шевелящимися бровями, Люба побледнела от гнева:
– Большевики правы, что таких гонят. Так и надо, когда ничего не могут отстоять…
Две сухопарые дамы, может быть, институтские наставницы, в старомодных шляпках, голодные, посиневшие, продавали старые лакированные ботинки девятисотых годов, с острыми носками, как на покойника, и потихоньку просили милостыню.
Подальше стояла еще дама в шляпе с искусственным цветком. Шляпа обвисла от снега, был виден из-под нее кусок морщинистой щеки и крупный нос. Она была рослая, в вязаном шарфе, с большими красными руками и большими ногами в мужских сапогах. Прижавши руки к груди, она декламировала что-то. Может быть, это была старая певица или актриса на пенсии, может быть, сумасшедшая.
Дама декламировала Ронсара. Пашка вспомнил окно на Литейном, за каким был свален в кучу старый хлам.
– Ведь это ужасно, понимаете вы или нет?! – Люба задыхалась, не могла подобрать слов.
– Понимаю.
Он понимал, что у старших, взрослых все вдруг стало нелепым, беспомощным, не нужным никому, как эти французские стихи или покойницкие лакированные туфли. «Гога так не стоял бы за милостыней», – подумал Пашка и сказал:
– Они сдались, я понимаю. Но мне их жаль нестерпимо… Кто же из них мог ждать, думать, что с ними этакое проделают.
– А мне не жаль, не жаль, – со злобой, совершенно бледная, обернулась Люба. Пашка увидел, что ее глаза полны слез. – С большевиками надо сражаться.
– Что же, я и буду сражаться. Вы слышали о белых?
– Конечно. Папа сказал, на юге начинается. Папа хочет туда пробираться. Кажется, в Киев.
– И я поеду, непременно. Мне бы только узнать хорошенько, как пробраться, вот увидите, я буду у белых.
Люба посмотрела на него с радостной благодарностью:
– Вы, Паша, настоящий солдат. Папа, когда мною доволен, всегда говорит: ты, Люба, настоящий солдат. А вот ваш брат так настоящий мерзавец.
– Почему?
Люба, только что кричавшая о белых на всю улицу, сказала осторожно, с грустной нежностью, не глядя на него:
– Сестра Аглая несчастна с вашим братом. Он ей заявил, что, кажется, ошибся. Как вам понравится: ошибся. Тогда мы с Аглаей решили уехать к папе. А с папой уедем в Киев. Ваш Николай – такая дрянь, что я и говорить о нем не хочу.
Пашке стало стыдно, что Николай обидел чем-то Аглаю. Ему представился брат, глухо покашливающий, с мутными холодными глазами, с жестким ежом и красноватыми ушами, немного оттопыренными. Он вспомнил холодное равнодушие брата ко всему на свете и его бледные, точно мертвые, руки.
– Правду сказать, – признался он, – когда я был маленьким, я просто ненавидел Николая. Неприятный он чем-то человек. Только я не понимаю, в чем он ошибся.
* Вы, Паша, никогда ничего не понимаете.
– Нет, правда, в чем?
Люба посмотрела на него смущенно:
– Какой вы чудак. В любви…
Они вернулись с вокзала вечером. Их лица приятно горели от стужи. На лестнице они попрощались, как давным-давно, на катке. Он вдохнул морозный запах ее черной перчатки, и перчатка была, кажется, давнишняя. Дверь за Любой закрылась, он через три ступеньки радостно вбежал на свою площадку, остановился, подумал: «Люба, как хорошо, что приехала», – и рассмеялся счастливо.
На той же площадке лестницы, где надуло от окна горку рябого льда, может быть, восемьдесят или сто лет назад так же смеялся кто-нибудь, как этот юноша в старой гимназической шинели, точно смех человеческий, счастливый, тихий был сильнее всего, что истребляло теперь жизнь в этом замерзающем доме.
Глава XIII
В столовой Маркушиных сегодня было накурено, тепло, слышался незнакомый голос.
Первое, что увидел Пашка – копченую колбасу, нарезанную на бумаге, и много хлеба. Под лампой сидел Николай в расстегнутой куртке, только что с дороги. Чай пили из жестяного чайника: мать, Ольга, дети и незнакомый господин с закрученными усами.
Пашка равнодушно поцеловался с братом. О господине с усами Николай сказал: «Товарищ Ванвицкий» или «Ветвицкий». Пашка недослышал и удивился, что брат называет господина товарищем.
– Ну что же, закусывай, – сказал Николай и обернулся к усатому. – Мой братишка, товарищ Ветвицкий.
«Странно, никогда не называл братишкой», – подумал Пашка, набивая рот хлебом с колбасою, от чего внутри сразу потеплело. Он ел голодно, жадно, он вспотел от вкуса хлебной мякоти. Он давно не ел так много хлеба, сам наливал себе чай из чайника, пил, громко глотая, грызя сахар, дуя на блюдце, в носу стало сыро, и он подсмаркивал. Так ели все, покуда не насытились, и на него никто не смотрел. Он погрузился в мирное насыщение.
В звуке голоса брата, тусклом, торопящемся, в том, как расстегнута его черная куртка, ему показалось что-то неверное, нарочное. Мать Николай называл «мамашей», как тоже не называл никогда. Николай фальшивил. Впрочем, Пашка не вслушивался, поглощённый краковской колбасой, сдирая с нее шкуру зубами.
А брат повторял слова, уже повторяемые теперь во многих домах. Он уверял, что понимает тех, кто пошел работать с большевиками: начинается новая жизнь, каждый должен помочь ей. «Все неверно, – умиротворенно думал Пашка, пережевывая хлеб, – все врет».
От рассуждений Николая за столом стало скучно.
– Коммунисты правильно хотят все поделить, – говорил Николай, дымя папиросой. – Уничтожить богатых и бедных, истинная правда. Трудно только добиться. И разве Христос не то же самое говорил?
Сердце Пашки упало от обиды, горячей боли. «Неверно, врешь», – подумал он, но что неверно, не мог бы сказать. Ольга поднялась:
– Я в театр опаздываю.
Товарищ Ветвицкий ловко подвинул стул с дороги.
– Может, мне будет позволено вас проводить, – сказал он со странной, цокающей галантностью, как говорят одни поляки.
– Если хотите, – ответила Ольга равнодушно и вышла, усатый – за нею, не попрощавшись ни с кем.
Мать начала перебирать на столе, завертывать в полотенце хлеб, куски колбасы, кожуру, крошки. Движения были торопливые, прячущие, мать теперь прятала все съестное. Она тоже вышла из столовой.
– Знаешь, кто был? – сказал Николай, наливая себе чаю.
– Нет.
– Товарищ Ветвицкий из транспортной комиссии, чуть ли не из Чека. Шишка.
Пашке вдруг стало противно на колбасу и на папиросный дым. Он отодвинулся от стола. Николай глухо скашлянул:
– Аглая у отца остановилась?
– Да.
– Они вчера приехали?
– Не знаю, кажется.
– А я в Москве задержался.
«Опять врет», – подумал Пашка.
– Здорово ты вырос. Так, брат, и не кончил гимназии?
– Нет, не кончил.
– Надо, брат, что-то делать. Работать будем. Теперь дел много.
Пашка упрямо смотрел на свои тощие пальцы:
– Я не буду работать.
– Что?
– С большевиками не буду работать. И учиться у них не буду. Ничего с ними не буду делать. Они все сволочи.
Николай выдохнул папиросный дым, рассмеялся с превосходством. Пашка и в его смехе услышал фальшивый звук. Он хотел еще сказать, что Николай неверно говорил о Христе, у Христа все совершенно не так, как у коммунистов, коммунисты требуют всех перебить, кто не с ними, а значит, и его мать, и Катю, и Костю, убить сначала всех честных людей, как Гогу убили, а потом убийцам все поделить. Но так много нахлынуло мыслей, что он никак не мог сказать, только покраснел и упрямо тряхнул головой:
– А все-таки я не буду с большевиками.
– Наелся, дурачина, и дурачишься.
С обиженным лицом Николай пил остывший чай и, вероятно, думал о Пашке, потому что раза два сказал громко: «Дурак».
Мать у себя в комнате, похожей на чулан старьевщика, рассовывала по углам кульки. Катя спала, свернувшись на койке. Спал и Костя в бельевой корзине, на двух табуретках. Пашка пробрался к себе через наваленные журналы, книги, лампу с цепями и картины, какими был заставлен его угол. Это были цветные олеографии, приложения к «Ниве»: «На Волге» – что-то смутное, засиженное мухами, «Зима» Клевера– лес в снегу, очень корявый, какого не бывает, и малиновый огонек в лесной избушке. Пашка, просыпаясь, смотрел каждое утро на этот огонек, и ему становилось уютно.
– Спасибо Коленьке, – сказала мать. – Сколько из Москвы навез. Ребят вдоволь накормила.
– Да, конечно.
Но благодарности к брату Пашка не чувствовал никакой, ему показалось, что и мать не чувствует. Он устроился на своем тюфяке-блинце, под пальто, рваным пледом. Что-то радовало его, тепло, счастливо, но он не знал что, только подумал снова: «Люба, как хорошо, что Люба приехала», – и заснул, согревая ледяные руки между сжатых колен.
В тот вечер Ольга с Ветвицким была в театре. Самое удивительное, что в Петербурге среди страшного обнищания, разрушения и смерти были открыты кое-какие театры.
На полутемной сцене морщинистые, истасканные лица актеров с синими подбородками и лица актрис, ужасно насурмленные, с лихорадочными глазами, были отвратительны. Теперь все костюмы, какие еще недавно носили и не на сцене, казались невероятными, нелепыми, так же, как искусственно желтое солнце из-за кулис или огромные тени на шатающихся декорациях и пошлые слова переводных пьес, двусмысленные намеки, все эти тетушки, племянники с тросточками и провинциальные дурочки в белых платьях. Но на них смотрели, смеялись.
А в фойе стоял холодный туман. Там, как и прежде, ходили под руку, много, до тошноты, курили, красовались друг перед другом, когда толкались, говорили «извиняюсь», как раньше, оглядывали себя в мутное, подернутое паром, зеркало и нравились себе. Тут были молодые люди, матросы в лакированных ботинках и барышни, круто завитые, с папиросами, обмусоленными красной губной помадой, все с подведенными глазами, новые служащие новых советских комиссариатов.
Только в театральных уборных были навалены теперь обледенелые груды нечистот, и в разбитое окно с матовым стеклом нагоняло ветром с погасшей улицы снег. В городе по ночам шли расстрелы.
Ольга в этот же театр на Невском ездила когда-то с Гогой.
После убийства мужа она целыми днями могла сидеть у зеркала, нечесаная, с белокурыми волосами, опавшими на щеки, в заношенном голубом халате, прорванном на плече.
Пашка думал, что сестра мучается, что убили ее Гогу, такая подавленная, немая. А Ольга точно бы не мучалась, даже не помнила мужа.
Молодая женщина целыми днями сидела перед зеркалом и смотрела не на себя, а куда-то мимо себя, в зеркальную смутную пустоту, и курила. В ее голубых глазах и в том, как она делала все медленно и немо, была как бы стеклянная пустота, холодная рассеянность. Такой она была с матерью, с сыном Костей, кого равнодушно отсылала от себя, со всеми.
Она ни о чем не думала, никого и ничего не жалела. В тот вечер, когда Гога лежал в прихожей в черной крови, с открытым черным ртом, ей вдруг показалось, что все стало черным и пустым, и в ней и на всем свете.
Однажды она заметила в зеркале кого-то иного, стала вглядываться, повела бровями, нарочно расширила ноздри. Незнакомка в зеркальном тумане повторила все. Ольга узнала себя в незнакомке и оправила волосы. Чужой, мертвой показалась она себе.
Она вынула из ящика стертый карандаш для бровей. Впервые после смерти Гоги она подвела в тот вечер брови и накрасила губы. Точно хотела оживить себя. Она еще надела крупные испанские серьги с поддельной бирюзой, какие привез ей Гога из Варшавы.
Холодное, мертвое существо в зеркале показалось ей очень красивым. Ольга вспомнила свою манящую полуулыбку и повторила ее с механическим равнодушием. Она увидела голое плечо, холодно стала осматривать свое гладкое, слегка желтоватое тело, какое всегда ей казалось красивым. Ее тело, и родинка над грудью, и длинные ноги – все это только и было теперь Ольгой мертвой. А живая Ольга была убита в тот день, когда убили Гогу.
Она стала выходить из дому в театр, к подругам, и мать, запиравшая за нею дверь на цепочку, изумленно и долго смотрела вниз, в пролет черной лестницы, где постукивали все глуше каблуки дочери.
Потом у Ольги собирались какие-то барышни, кажется, бывшие подруги по консерватории, и молодые люди в кожаных куртках с очень матовыми лицами и синими подбородками. Их было все больше, знакомых и подруг, чем-то похожих на актеров того театра, где бывала Ольга.
Вскоре ей устроили место на Загородном, в каком-то советском учреждении (нечленораздельное название его трудно было выговорить). Все новые приятели и приятельницы Ольги тоже где-то служили, в советских учреждениях.
Ольга все делала, как прежде, когда был Гога. Так же улыбалась, ходила, так же стояла, слегка поглаживая бока, обтянутые юбкой, знала, что на нее смотрят с желанием, и мерцала ресницами, прикуривая от кого-нибудь папиросу. Но не чувствовала она в себе живой теплоты. Она была мертвой.
Кто-то умудрялся приносить ей шоколад, ее возили в театр, и уже не первого из своих новых приятелей меняла Ольга на другого, на других, совершенно равнодушно и холодно.
То, как жила она теперь, казалось ей однообразной игрой, какую надо вести, чтобы все думали, что она жива. Она не умела и не могла этого сказать кому-нибудь, да и некому было сказать, но она часто думала, что прежняя Ольга, хорошая, живая, горячая, так любившая Гогу, умерла, а теперь ходит другая Ольга, холодная смерть, какой понятно все.
Она теперь поняла, что такое жизнь: одна гнусность. Ничего нет, только похоть и голод, а все остальное выдумки, прикрывающие похоть и голод. Жизнь – бесстыдная похоть, смерть – бессмысленная пустота, ни зла ни добра. Так ей стало понятно все в октябрьский вечер, когда в прихожей под Гогой расползлась черная лужа и замерла и лежал мертвец с некрасиво раздвинутыми ногами.
Так же поняли жизнь и ее новые подруги и приятели, партийцы, хотя бы консерваторка с нечистоплотным, влажным ртом или поляк из транспортной комиссии, и потому, что так поняли, считали себя умнее всех людей и думали, что им позволено все, если жизнь – бессмысленная похоть и бессмысленная смерть.
Ольгу опустошило отчаяние, ей стало все равно. Равнодушное бесстыдство было теперь в ее подведенных глазах, в полуулыбке, во всех движениях. Она умерла.
Пашка начал бояться сестры. Он брезговал запахом ее духов, сладковатых, какие ей подарил кто-то из теперешних приятелей.
В театре в тот вечер товарищ Ветвицкий обнял в потемках податливую, мягкую талию Ольги, сглотнул и сказал:
– Вы мне нравитесь… Очень.
Ольга не отняла его руки, улыбнулась в темноте равнодушно. Слегка позвенели ее испанские серьги.
Глава XIV
В дороге из Москвы Люба простудилась. Она говорила смешным хриплым голосом, у нее горело лицо, а шея была туго обмотана белым платком. Люба немного походила на попугая. Пашка удирал к ним с утра, помогал сестрам колоть на кухне комоды и стулья на топку. Старый шкаф скрипел, стонал и шатался, как старый человек.
Аглая, худенькая, в синем костюме, с крепко закрученным узлом волос, была похожа на озабоченную классную даму. Что-то скромное проступало в ней и стародевическое.
Катя приходила сверху звать Пашку обедать. За столом сидела Ольга в капоте, с копной белокурых волос, неумытая, но уже с намазанными губами и в голубых звенящих серьгах. Николай ел рассеянно и жадно. Мать за обедом сказала:
– Старуха приходила из богадельни. Нянька ваша помирает, просит, чтобы навестили.
Ни Николай, ни Ольга не подняли голов от тарелок. Ольга слегка почесала ногтем за ухом, спросила равнодушно:
– Разве она еще жива?
Пашка и не заметил, что няньки не было больше дома. Ему казалось, что Алена всегда ходит бесшумно где-то здесь, по комнатам, в своих катанках. Он помнил, как жесткими руками нянька скребла ему когда-то голову, и мыло ело глаза. Нянька ворчала, что он поздно встает, грязнит сапоги, на кухне у няньки были груды тарелок в тазу с мыльной водой. Только это и было его представлением о няньке, но ему стало жаль старуху и стыдно, что к ней никто не пойдет.
– Она где?
– В Обуховской. И тебя просила прийти.
Утром на другой день Пашка был в больнице. Его провели в общую палату. Там все было серое: одеяла, лица, стены, и, кажется, самый воздух, холодный и кислый. От дыхания шел пар, по плитам коридора стучали шаги. Из-под серых одеял, из-под тряпья, смотрели на него, в космах седых волос, лихорадочные старушечьи глаза. Одна перекрестилась тоненькой, совсем детской рукой, почему-то левой, ее глаз и часть лица были обмотаны платком, позвала явственно:
– Мальчинька.
У койки няньки сидела Аглая в синей жакетке. «Почему она тут?» – подумал Пашка. Старуха, лежащая рядом с нянькой, с круглым и багровым лицом (ей недавно ставили банки) сказала бодро:
– Помирает…
Эта старуха тоже помирала, но они не замечали смертей друг друга и забывали соседок, едва тех затягивали до носа холщовыми простынями. В палате шевелилась старость обессмыслевшая, ворчащая, нечистоплотная, цепляющаяся за самое ничтожное, что ей осталось от жизни, за пачку цикория под подушкой, за теплый платок или корку хлеба, какую еще можно тискать беззубыми деснами.
– Не узнает, – сказала Аглая.
Сморщенное лицо няньки было странно маленьким. Горячие черные глаза с желтизной смотрели перед собой. Нянька быстро дышала.
– Няня, голубчик, – тихо позвал Пашка. Ему показалось, что пахнет от няньки разогретым железом.
Нянька посмотрела на него, но казалось, что смотрит мимо или сквозь него.
– Пашуня, дружок, помираю.
Он не знал, что ответить, и с неясным чувством брезгливости и виновности оглядывал ее старушечье тряпье и тощие ноги в черных шерстяных чулках.
Он ничего не знал о няньке, кто она, откуда взялась в их доме, даже отчества Алены не знал, и был ли у нее кто на свете. Груды сальных тарелок, стирка, дрова, чугуны, с которых она соскребывала копоть, и то, как шинковала она капусту рубкой или как гладила рубаху, пробуя мокрым пальцем горячий утюг, нянька все делала для них. А он никогда не подумал, что ее жизнь отдана им сполна, чтобы вечно скрести с них грязь, пыль, нечистоту. Пашка повторил, растерянно:
– Что же ты, няня, голубчик…
– Еще поправитесь, – наклонилась к ней Аглая.
Пашка осторожно пожал няньке горячую шершавую руку.
Ее лихорадочный переливающийся глаз провожал его долго и благодарно.
Они вышли с Аглаей на больничный двор. Воздух показался удивительно свежим. Нетронутый снег лежал у деревянных мостков. Здесь еще тошнее вспомнилось холодное тление, старушечья палата. Пашка украдкой сплюнул раза два, тут же подумал: «Негодяй. Там люди помирают, а я плююсь». Аглая молчала. Ей было холодно в рыжей горжетке. Она грустно улыбнулась своим мыслям:
– Она и к нам старушку присылала, что помирает. Она отсоветывала мне выходить замуж за Николая. Под великими секретами приходила отговаривать.
Пашке стало неловко:
– Я не знаю, Аглая Сергеевна, что, собственно, у вас с братом произошло.
– Видите ли, Паша, как вам сказать: ничего. Это только в романах бывает какая-то особенная любовь, а такие, как мы, простые люди, о которых и написать нечего, выходим замуж так, по молодости, по влечению. Случайно. Попадется хороший человек – удача, а нет – неудача. У всех так. Одни сживаются, другие расходятся. С этой революцией многие стали расходиться. Вот и мы. Я Колю не виню. Он не виноват. Мы оба виноваты.
У Аглаи дрогнули тонкие губы. Пашка сказал:
– А что же вам нянька о брате говорила?
– Не помню. Что Коля холодный человек.
– Верно.
– Мне девочку мою жаль, – Аглая не слушала его. – Что он меня не любит, это все равно. Но он и нашу Аню не любит. И зачем он приехал? Странный.
– Он расспрашивал о вас.
– Ну вот, что ему надо… Он из-за одной трусости приехал: скандала боится, как же так, жена ушла. Все это скучно. И потом эта его возня с большевиками. Просто оскорбительно. Я бы ему все равно мешала.
Они шли по Дворцовой площади мимо багровой громады Зимнего дворца, темной от сырости, пустой и запущенной.
Они оба замолчали в тишине. Круглая, побелевшая от снега площадь с гранитной колонной посредине, с квадригой замерзших коней над аркой Главного штаба как бы была одной умолкшей усыпальницей.
И все это показалось Пашке похожим чем-то на няньку и на Аглаю: обреченным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































