Текст книги "Вьюга"
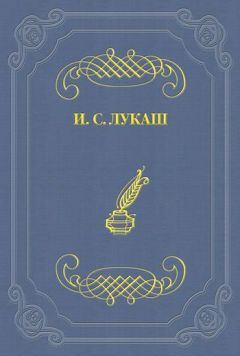
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Глава XIX
Таня Вегенер все делала в эти дни с четкостью, мыла ли в эмалированной чашке на столе свою девочку, бегала ли в очереди или помогала наверху теткам-музыкантшам.
Легкая, длинноногая, худая, с родинками на щеке, она была похожа широкими движениями на легавую. Кажется, все ее решения и мысли были теперь ясны, пронзительно отчетливы, как движения.
Только левый глаз стал косить после ареста Отто, и точно лопнули в нем от страшного напряжения ветви жилок. Вопиющее, немое билось в ее косящем глазу, прозрачном сбоку.
Таня Вегенер ни себе, ни другим как бы не давала очнуться, подумать о том, что случилось со всеми и с Отто. Она тормошила себя и всех. Так и Пашке она объявила, что переезжает к теткам, что уже перетащила наверх арапа из прихожей. Пашка потупился и сказал, что тогда ему самое лучшее – как можно скорее отвезти детей в деревню, к Аглае, и покраснел от радости, что увидит строгую Любу.
Вегенер отдала ему Ольгины деньги и еще достала, кажется, под материнские вещи и шубу. Он взял на дорогу обручальные кольца, золотенькие крестики в папиросной бумаге, набил сундучок бельем. Николай оставил романовский полушубок, Пашка сменил на него шинельку. Надо было достать пропуск, без него из Петербурга не выпускали.
Он никогда не пошел бы к Ванятке Кононову, потому что за годы революции ничто, кроме смерти матери, не поранило его глубже, чем та встреча с Ваняткой, когда Пашка оказался буржуем и оба побелели от ненависти. Ванятка спутался с большевиками, и такое предательство товарища подкосило Пашку. Ванятка, как все большевики, – его нещадный враг. Вся советская власть, с голодом, обысками, расстрелами, Смольным, «Известиями», едет на таких Ванятках, сдуру поверивших разной сволочи, – Урицким и Склянским, и по их указке истребляет беспощадно таких невинных, как он, Пашка, с их отцами и матерями, всех русских Пашек.
Но Ванятка был единственной надеждой вырваться из Питера, и Пашка решил пойти к врагу.
Первый, кого он увидел у слесаря, был Ванятка в осеннем пальто и кепке, с папиросой, сидящий на отцовском верстаке.
Сам слесарь ходил по мастерской, по железным стружкам, которые скрипели под ногами. В углу за занавеской, где у них стояла чудесная бадья с рукомойником и была необъятная русская печь, сидела Ваняткина мать. Бадья, чан огромный и добродушный, памятный с детских лет, был на месте, те же иконы в другой комнате, очень чистой, горка красных подушек на кровати, цветочные горшки на окне, на полу, на скамеечках лесенкой. Только цветы Ваняткиной матери посохли, и была холодна, в трещинах, потемневшая русская печь.
– Здравствуй, Пашенька, родной, – пропела Параскева Кондратьевна, точно только вчера он был у них и ничего не случилось со всеми.
– Здравствуйте.
Он стал стягивать чухонскую шапку.
– Вот и Павел скажет, что правду говорю, – строго, поверх очков, посмотрел на него слесарь.
– Полно тебе, батька.
Ванятка прыгнул с верстака. До прихода Пашки он спорил с отцом сумрачно, упрямо и дерзко.
– Чего полно? Как небось пришел хороший человек, так стыдно стало.
– Не стыдно, а оставь, говорю…
– Да как оставить, когда ты мастерство бросил. У матки-батьки не живешь, по собраниям языком вертишь. Секретарь заводского комитета, партейный. Вона в какие люди вышел. С самой сволотой спутался, секретарь.
– Да батька, будет, говорю, лаяться. Ванятка обернулся с раздражением к Пашке:
– А вы, собственно, зачем пришли?
– Сами посудите, – обернулся к Пашке и слесарь. – Вы, говорит, в подвале живете. А я вас в барской квартире хочу поселить. На Сергиевской рабочих вселяют. Обрадовал. А ты меня спросил, сукин сын, хочу я с тобой разбоем заниматься? Это мы тебя с матерью, выходит, разбою учили, чтобы нас на Сергиевскую вселять? Я тридцать лет в этом подвале с матерью живу. Я тебя тут растил. А ваши до чего довели? С голоду дохнем. Матка, смотри, только и есть, что ревет.
– Да дай же, отец, ему слово сказать, чего разоряешься?
Слесарь посмотрел на Пашку поверх очков и замолчал.
– У меня, собственно, дело к тебе, – Пашка поправился, – к вам… Большая просьба. Вы знаете, мать умерла, и я хочу детей в деревню отвезти. Что же тут с ними делать? К Аглае Сергеевне.
Он говорил сдержанно, холодно. Ванятке, плотному черноволосому юноше, льстило, что Маркушин, с которым он расстался смертельным врагом, теперь просит его:
– Я бы с моим удовольствием вам устроил, да я нынче еду в Москву. Постойте, да вы к товарищу Виктору пойдите. Он все может.
– Это Витя Косичкин?
– Да, а что?
Пашка слегка улыбнулся.
– Ну-ка, батька, позволь.
Ванятка подвинул на верстаке инструменты, железный лом, стал писать записку.
– А если в Москве случаем будете, я вам и свой адрес дам.
На листке, вырванном из школьной тетради, размашистым почерком Ванятка писал не без удовольствия: его тешило, что он выбран в Москву делегатом от механического, что Пашка стоит перед ним с шапкой в руке.
Дверь со двора отворилась, в слесарную вошла Катя с Костей. Дети зазябли на дворе, ожидая дядю Пашу.
– Вот еще сиротки бедные, малые, – пропела Параскева Кондратьевна. Пашка с досадой посмотрел на детей.
– А и что, все теплее, чем на дворе, – пела Ваняткина мать. – Пусть побудут у нас, покуда за пропусками ефтими проклятыми ходишь.
Она стала раздевать детей.
Ванятка и Пашка вышли вместе. На дворе они простились холодно, молча. Тем временем старый, дурно видящий мастеровой и его жена, пожилая простолюдинка с заплаканными глазами, сидели на корточках перед детьми. Косте дали пасхальное деревянное яйцо. Мальчик так им увлекся, что раскраснелся и засопел. Слесарь расспрашивал Катю, глядя на нее строго, поверх очков.
– Ты грамоте знаешь?
Катя слегка наклоняла голову набок, по-птичьи, чтобы лучше слышать:
– Знаю.
– А стих сказать можешь?
– Могу.
– А про что?
– Я знаю про бурю и про птичку.
– Скажи тогда бурю.
Катя без всякого выражения, глядя перед собою, стала отвечать стихи. Параскева Кондратьевна, слушая ее, вспоминала что-то дальнее, полное необыкновенных надежд, и от ладных слов девочки, от печальной их сладости, плакала тихо. Слесарь так и сидел на корточках, опустивши жесткую голову.
Дом на Каменноостровском проспекте, где жил Косичкин, Пашка нашел к сумеркам. В таких богатых домах теперь размещали по брошенным квартирам ответственных партийных работников, всего чаще чекистов.
Витя Косичкин, когда вошел Пашка, поднялся с коврового дивана. Он был в шелковой красной косоворотке, отстегнутой у ворота, шея необыкновенной белизны. Женщина, гораздо старше его, с выкрашенными рыжими волосами, с цыганскими серьгами, тяжело прыгнула с оттоманки и вышла из комнаты. Пашку удивило, что у Вити так гладко расчесан и блестит пробор, а ногти наполированы.
Перед ним сидел на оттоманке с тем же продолговатым лицом и зелеными глазами не Витя Косичкин, а иное существо, злое и страшное. Тому, кто был раньше Витей, застенчивым мальчиком с заднего двора, любившим длинные стихи и тонкие запахи, жившим, как во сне, и во всем сомневавшимся, тому ангелическому существу суждено было пасть на земле. Падший ангел сидел перед Пашкой.
Прозрачное злое лицо и запах духов, которыми, вероятно, опрыскала его женщина, показались Пашке отвратительными.
Понуро потупившись, он повторил то, что говорил Ванятке. «Какой я подлец, у чекиста прошу», – думал он с горьким стыдом.
– Пропуск я дам, – холодно сказал Косичкин. – С двумя детьми? Хорошо. Я дам, но ведь вы, я уверен, к белому офицерью пробираетесь.
Сомнительная, тонкая усмешка пошевелила губы Косичкина. Пашка вспыхнул, потом побледнел, почувствовал, что лоб стал влажным.
– Да вы не бойтесь меня. Как же, я хорошо помню, вместе по двору бегали. А помните, как мы в Эрмитаже играли? Ехать вы можете, можете и к офицерью поступать. Мы все равно всюду будем. А вот тогда уж не скроетесь… Тогда мы вас очень хорошо рассчитаем.
Он что-то написал на бумажке, вытащил из желтого портфеля печатку, подул на нее, припечатал. С пропуском Пашка пошел к дверям.
– Маркушин! – окликнул его Косичкин. – Смотри, проиграешь. Оставайся лучше с нами.
Пашка помял шапку, потом сказал глухо:
– Что же мне оставаться, Косичкин. Я не игрок. И это все не игра.
– Презираете нас, ну-ну… До свиданьица.
Уже были полные сумерки, когда Пашка в черном полушубке, с сундучком за спиной и Костей на руках, который клевал носом, вышел из дому на вокзал. Катя шла рядом, в ногу. Девочка была в валенках, в платке и в шубке, подрезанной и заштопанной Таней Вегенер. За спиной Кати был мешок с сухарями и бельем, а на веревочке сбоку жестяной чайник.
Старый дом, где он родился и вырос, стоял пустым, черным ящиком. Этот дом, где прежде светилась, смутно дышала, звенела, курилась теплом живая жизнь, тянулся теперь вдоль панели, как остывший мертвец.
На углу Пашка посмотрел на старую вывеску давно закрывшейся парикмахерской, исцарапанную, продавленную.
Намалеванный на вывеске человек с шафранным лицом и кучей волос показался ему придушенным висельником, корчащим рожи из темноты, и Пашка с печальным испугом вспомнил почему-то Косичкина.
Глава XX
Отто Вегенера, бывшего в заключении сначала на Гороховой, потом на Выборгской, водили на допросы, забывали на долгие недели в камере, где одни люди сменяли других, снова требовали к очередному чекисту.
Тюрьма, особенно в душный день, казалась Вегенеру тесным госпиталем, забитым страдающими людьми, только здесь не утоляли страдания, а растравляли.
Самодовольные, упоенные своей властью, агенты Чека, охрана, следователи, коменданты, целые своры сытых молодых людей, очень часто скуластых и курносых, с крепкими ровными зубами, были подлы и наглы с заключенными и всегда беспощадны.
Таким был следователь Чека Евдокимов (его фамилия казалась Вегенеру смазанной помадой), с длинными волосами, гладко зачесанными назад, и другой следователь, с тусклой фамилией Мельхиор.
Раза два до Вегенера дошли передачи из дому, высохшие картофельные котлеты, холодная, сбитая комком, пшенная каша, завернутые в платок. Руки Вегенера дрожали, когда он развязывал домашний узелок. От платка, от бережно сложенной белой рубашки, поштопанной у плеча голубыми нитками, он чувствовал запах дома, кроткой и чистой тишины, и был уверен, что маленькие руки дочери помогали матери укладывать узелок. Он слышал лепет ребенка, представлял руки дочери, узкие, теплые, и думал, как несправедливо и как непростительно, что его заключили в вонючую душную камеру, где жужжат в тумане человеческие голоса, как нет никакого оправдания тем, кто согнал сюда таких же, как он, невинных людей.
Он, впрочем, не сомневался, что его выпустят отсюда и он увидит своих, уедет с ними в Финляндию. Это его всегда успокаивало, и он, обхвативши колена руками и немного покачиваясь (ему мешала только свербящая вша), долгими часами мог думать о своих и о том, что случилось с Россией.
Прежняя власть, рухнувшая в революцию, сменилась бунтом солдатчины и властью черни, почуявшей свой верх и безнаказанность. Вкрадчивый Евдокимов и Мельхиор – тоже чернь, думал Вегенер.
Среди черни, низовых людей, как и всюду, были люди хорошие и дурные. Среди солдатчины, мастеровщины, бывших мелких конторщиков, приказчиков, фельдшеров, шарахнувших за большевиками, особенно много было заводских подростков, фабричного хулиганья, у кого до революции особенной лихостью считалось подраться с городовыми, с парнями другого завода, избить «образованного», гнусно задеть проходящую девушку. Такое хулиганье в первую голову и почувствовало себя «пролетариатом», со всей беспощадной жестокостью юности.
Среди черни было и городское отребье – воры и убийцы, сбежавшие еще в марте или летом из тюрем, а с ними ватаги шумных проституток.
Всей бунтующей солдатчине задавали тон уголовное отребье и хулиганы. Они брались за все, командовали обысками, водили на расстрелы, судили, становились комендантами, начальниками милиции, они заняли все низшие командные места в большевицком перевороте.
Они стали героями черни. Им подражали, их старались перещеголять в неистовстве. Какой-нибудь мелкий вор, ставший революционным комиссаром, смутно и с жадностью хотел подражать офицеру, которого расстрелял, его галифе, шинели, чистым ногтям. А другие из черни подражали мелкому вору.
Чернь подняли на злодейство, думал Вегенер, как бы для справедливого дела: против порабощения человеком человека, за равенство людей, для уничтожения бедных и богатых. Буржуй, господин, будто бы все захвативший, у кого хорошая одежда, еда, магазины, квартиры, полиция, попы, генералы, судьи, министры, с большевицким переворотом весь попался в руки черни.
Над буржуем объявили диктатуру, власть советов, чтобы его скрутить вконец, выжить, все от него отобрать, поделить, а самого буржуя уничтожить.
Это было так просто, так понятно, что чем грубее, низменнее и жаднее был человек, тем легче он понимал это. Чернь расстреливала, глумилась над людьми, над миром, над Богом, потому что большевики соблазняли ее, что именно она, чернь, лучше, умнее, нужнее всего прежнего мира-обманщика. Уверенность в своем превосходстве над прежним человеческим миром дала волнам черни в России, и не в России, страшную силу работы в любом злодействе.
Легкость безнаказанного злодеяния, похоть злодейства, развязанная большевиками, повели за собою человеческие отребья, но доверчивое и темное русское простонародье все же отозвалось большевикам не сразу. Простонародье чуяло, что большевики как будто правильно говорят «долой войну», но тянуло что-то за сердце, претило, когда большевики звали на убой буржуев, на кровь.
В самом темном народе, веками ожидавшем нового воплощения Божьего, таилось и теперь смутное чаяние иной судьбы, иного избрания, чем то, какое обещали большевики. Но еще с марта развязывали в народе зависть и жадность, все ему обещая и все дозволяя. Простонародье чуяло, что Россия шатается, и долго раскачивалось с Россией, прежде чем повалило скопом под большевиков.
Россию победила чернь. Это и было большевицким переворотом.
А вели большевицкую революцию люди не с низов, а с верхов. Среди них было много оскорбленных неудачников и мстительных бездарностей. Много было и шкурников, какие во время войны спасались от окопов и могли теперь оправдать свое шкурничество большевицкими идеями. Тут были революционеры с каторги, инженеры, делающие карьеру, адвокаты, литераторы, журналисты, офицеры, актеры, люди так называемого хорошего общества. Они-то понимали, что упрощенное объяснение коммунистами мира и человека – полная и бессовестная неправда, но поддавались ей сами и заражали ложью вокруг себя все. Это была чернь духа, самая отвратительная и самая беспощадная.
В прежнем человеке, думал Вегенер, над всем сквозил свет человека высшего, бесплотного, верховного. Против верховного человека и поднялась большевицкая чернь. Все высшее в человеке они объявили обманом и выдумками: ничего нет в мире, кроме низменных чувств собственности и скотского размножения. Ненависть, похоть и голод – вот и весь человек, пошлость скотская. Коммунисты, захватившие власть, не были особенными дурными людьми, но они все были пошлыми людьми, как пошлым был весь их план перестройки мира при помощи убоя пролетариями буржуев. Одни – самоуверенные тупицы, другие – коварные пройдохи, третьи – тяжелоголовые убийцы, но все очень просто понимали свое назначение: гнуть жизнь по своему коммунистическому умыслу. Они и начали гнуть все живое со злорадством, с упоением.
Любому человеку для того, чтобы стать коммунистом, надо было только нечто придушить в себе, убить что-то в самом себе, вырвать как бы легчайший нерв, от чего нестерпимо ныло сердце.
Каждый, кто решил идти с коммунистами, чувствовал такую мгновенную судорогу совести, если был обыкновенным человеком, не извергом. Надо было убить в самом себе именно то, о чем сказано: «Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе».
Жизнь в самом себе надо было убить, именно ее вывернуть наружу для пошлого коммунистического умысла, предать человека в себе.
Такие люди ходили, смеялись, ели, спали, работали, как Евдокимов или Мельхиор, все обычные чувства у них были, но уже не было у них того легчайшего света, верховного дуновения человеческого, какое они придушили в себе, и свет иной, серый, нечеловеческий, уже шел от них.
Прежнее человечество, где каждый народ наивно верил в какую-то свою особую судьбу и необыкновенное избрание, столкнулось в ужасной войне. Коммунисты одинаково презирали погибших и погибающих, победителей и побежденных, героев, мучеников. Война вызывала в них одно злорадство: она была для них катастрофой ненавистного старого мира, затопляемого кровью, корчащегося в страданиях. Они кинулись добивать старый человеческий мир.
Героя или героев, кто мог бы сочетать людей в одно новое единодушие, еще не пришло. У нового поколения, у лучших и смелых, несших войну на молодых плечах, еще было только смутное чаяние нового человека, героя и страдальца, кто должен преобразить мир. Именно их-то, чающих, и стали избивать.
Советская власть началась убийствами офицеров, расстрелами сотен и тысяч, внезапным истреблением всего нового героического поколения, рожденного войной.
Их-то обвинили в обмане, им-то стала мстить чернь за свой страх и животную боль, за то, что подчинялась, за то, что они водили ее на смерть, что были лучше, смелее.
А всех других, кто был не нужен, но опасен, коммунисты загнали на голодный паек, истомляли голодом, очередями, заживо лишали права жить. Так началось в России истребительство каждого, кто не желал предать свой прежний человеческий образ.
Идея уничтожения капитализма могла казаться идеей добра и любви, но сами коммунисты никогда не думали ни о добре, ни о любви, а думали о кровавом изменении мира, о кромсании жизни, об уничтожении всего, что могло мешать их умыслу. Их идея была кровавым бредом о мировом убое.
А их план перестройки мира был до того прост, что только человеческая чернь и могла принять его за истину: собственность отменить, производство и распределение передать в руки коммунистических чиновников. И это будто бы должно раз и навсегда дать пошлому человеку пошлое удовлетворение, утешение, счастье.
Надо только истребить тех, кто мешает правильному, так сказать, общественному пищеварению, уничтожить всех, задерживающих у себя излишки общественных выделений, собственность, тогда-то двуногие и будут счастливы: вся идея коммунизма в желудке.
Коммунистическая власть, захватившая Россию, и начала вспарывать жизнь, свежевать ее, как тушу. Весь смысл советской власти был в разъятии, расстройстве, разложении жизни для перестройки ее по коммунистическому плану. А люди под советской властью превратились в глухонемой бездушный рабочий скот для исполнения насильственных планов.
Все, что не вкладывалось в их ничтожное объяснение жизни, коммунисты обрекали на истребление. Человек, с его жизнью в себе, уничтожался дотла. В злодейской гордыне они осудили самый дух жизни и охулили Дух Божий.
Отчаяние в войне, бунт солдатчины, обвал революции подняли коммунистов над Россией. Их победа стала беспощадным уничтожением в России человека, со всей его жизнью в себе, и самое убедительное в коммунизме было именно в том, что никто не мог толком доказать или объяснить, что именно убивают коммунисты. Свободу жизни в себе, высшую всех свобод, Царство Божие внутри нас убивала в человеке советская власть.
С коммунизмом началось опустошение человеческого мира. Ткань духовная, незримая, все ткани вещные проникающая, прежнее единодушие мира покоилось на чаянии нового воплощения Сына Божия, на вере в Воскресение мертвых.
Дуновением Воскресения были проникнуты поколения, сменявшие друг друга. Воскресение мертвых было и обетом человечеству, и его вдохновением, и призванием.
Коммунисты подменили призвание, предали человека. Прежний неумышленный человек, верящий в вечное Добро и в вечное Воскресение, должен быть уничтожен. Они разрушают все, что есть хорошего в человеке.
Для коммунистов Сын Человеческий никогда не воскресал, для них Его и не было, и уже таким отрицанием Его оправдывалась любая жестокость, любое беспредельное потребительство: никакой особой ценности и никакого особого смысла в человеческой жизни отныне больше нет, все падаль скотская, над какой делай, что хочешь.
Так началось разрушение коммунистами Христианского плана мира. Человека пытаются оторвать от его вечного чаяния Воскресения. На месте чаяния коммунисты утвердили отчаяние, на месте Воскресения – несомненную смерть.
Тысячи убийц и палачей, вскормленных на проливаемой крови, на пытках, на поношении отцов и матерей, на растлении детства, измышляют в России все новые мучительства для попавших в их власть, и никакие опустошения никакой самой ужасающей войны не сравнимы с опустошением человеческого мира коммунистами.
Коммунисты правили этим народом, этой страной, и уже ни одно преступление перед Богом и людьми не было наказываемо, и ни за одно злодеяние не отвечали больше злодеи.
Когда Вегенер думал об этом, ему почему-то часто представлялся Ленин, еще в эмиграции, в дешевом парижском отеле, старательно пишущий очередную статью о капитализме и пролетариате со многими выкладками (больше всего на свете Ленин любил статистику, цифры).
В комнате Ленина, у окна, воображал Вегенер, стояла круглая ваза с золотыми рыбками. Ленин иногда смотрел на них. Для него, конечно, и здесь, как всюду, все было объяснимо одним поеданием друг друга и всеобщим исчезновением.
А в вазе, отделенной стеклянной стеной от вселенной, была своя вселенная, прозрачная и неразгаданная, и в реянии света скользили там, шевеля плавниками, таинственные и великолепные существа. На лысом лбу Ленина тени золотых рыб проходили косо и нежно, едва золотея.
По вечерам, откинувшись на спинку стула, он сильными глотками пил остывший чай. В сумраке светился его лоб. Он слышал, не мог не слышать, тишину бедного парижского отеля, подобную тишине всех домов человеческих.
Он слышал дальний плач ребенка, умолкающий вскоре, лай собаки на улице, звучные шаги редких прохожих, как захлебывается паром паровозик недалекой окружной городской железной дороги. Он слышал чьи-то шаги на лестнице, скрип деревянных ступенек, тихий смех, умиротворенное умолкание вечера, согласный звук всего сущего.
Тишина касалась Ленина, как каждого человека, и у него тоже должны были быть мгновения сладкой благодарности и готовности отдать себя Кому-то. Ленин, как любой человек, чувствовал, не мог не чувствовать, в бодрствовании и во сне, пределы немоты и понимания, сопутствие разных жизней и разных миров в себе и вокруг себя. Он тоже чувствовал неизъяснимую жизнь в себе.
А если так, как же он осмелился замахнуться на святыню жизни со всем своим пошлым умыслом, как мог пуститься на терзание живого человека? Терзание живых, невинных – вот что такое коммунизм. Он, Вегенер, тоже невинный, а его мучают в тюрьме, и если даже он виноват перед большевиками, что хотел вырваться в Финляндию, на свободу, то ни в чем не виноваты его жена, дочь. А они страдают еще больше его.
Так от тысяч тысячей, от миллионов людей, кого коммунисты выбрали своими жертвами, от мучимых ими в Чека и расстреливаемых, по невинным семьям, детям, старикам, женщинам огромными лучами расходится по всей России страдание.
И когда думал Вегенер о страдающей России, ему почему-то вспоминались странные слова Сына Человеческого: «Мне отмщение, и Аз воздам».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































