Текст книги "Вьюга"
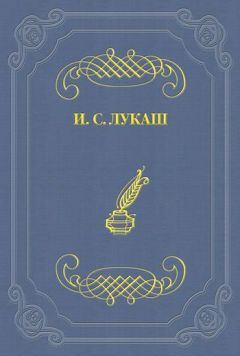
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Глава XVII
Внизу далеко стукнула дворовая дверь.
– Вот так, вот так, – услышал Пашка. К себе подымался Вегенер с дочерью. Девочка в красном капоре осторожно перебирала ножками, лепетала, подражая отцу:
– Вот так.
Голос отца и лепет ребенка как будто были теми же голосами, что восемьдесят и сто лет назад на этой лестнице, оскаленной теперь ото льда, в темной плесени по стенам.
Нога Вегенера скрипела на металлическом шарнире, позвякивала. У него разрослись редкие усы, по-прежнему чисто светилось пенсне без ободков.
– Вы почему к нам забрались? – Вегенер удивленно посмотрел на разбитую Пашкину губу. – Что с вами?
– Ничего. Брат из дому выгнал.
Это опять показалось Пашке театром. Ему стало неловко, точно он говорить неправду:
– Из-за большевиков поспорили.
– Как видно, здорово? – Оба улыбнулись.
– Он мне губу расквасил.
– Ну что же, пойдемте к нам…
Им открыла Таня Вегенер, в чистом переднике, гладко причесанная. У Вегенеров пахло кофе.
Всюду, кроме спальни, было пусто: они продали все, даже отцовскую витрину с кожаными ошейниками и цепочками. На одного арапа с агатовыми глазами не находилось покупателя. Арап так и стоял с деревянным блюдом в пустой прихожей. Вегенер накинул на его чалму шляпу.
– У нас холодно, извините, – говорил он, входя с Пашкой в светлую комнату, где был один венский стул с продавленным сидением. – Мы вам сюда чемоданов натащим, будет ложе. Мы с Таней все, что было, на деньги переводим и на питание. Я вам скажу: мы думаем пробираться в Финляндию. С большевиками все равно нет жизни.
– Но ведь я тоже хочу уйти. На юг, к белым.
– Мы это обсудим. К белым можно и из Финляндии. «Неужели, Господи, так все удачно устроится с милым немчурой», – подумал Пашка.
В тот же вечер мать узнала, что Пашка у Вегенеров, и успокоилась. Тайком от Николая, она послала Катюшу наверх с теплым крупеником, прикрытым платком.
Николай ни разу не спросил мать о брате, а мать старалась не попадаться старшему сыну на глаза. Мать заискивала перед ним, мать страшилась голода.
Катя проснулась ночью и увидела, что бабынька в накинутой темной кофте сидит с ногами на койке и жует корку хлеба. Кате стало страшно, как она держит корку двумя руками и, склонивши голову, ищет местечка, какое поддалось бы зубам.
– Бабынька.
Мать дрогнула, сунула корку под подушку:
– Испугала меня.
– Ты, бабынька, ешь?
– А если ем, так уж вам дай. Спи.
– Нет, что ешь?
– Корочку хлеба нашла и грызу. Есть что-то хочется. На кусочек.
Она вынула из-под подушки хлеб, разломили надвое, и обе, тщедушная старуха и девочка, как будто были они одним существом, накрывшись с головой одеялом, стали жевать.
У Вегенеров Отто уходил с утра куда-то на Выборгскую узнавать о проводниках, менять деньги, а Таня с девочкой поднималась наверх к теткам-музыкантшам, у которых было теплее. Пашка целыми днями, голодный и одинокий, мог бродить по белому Петербургу.
Со странной болью смотрел он на умирание огромного города.
Все стало как бы обнажать свой костяк: решетки каналов, как ржавые ребра, стена брошенного особняка в плесени, разбитое зеркальное окно, выломанная торцовая мостовая или позеленевшая ручка на подъезде, наглухо заваленном снегом, или обмерзшие колоннады пустого Екатерининского собора – все было мертвым костяком когда-то живого тела. На Неве дымилась низкая метель. Обледеневшие серые миноносцы точно были покинуты командами.
Прежняя жизнь иссякла. Вещи и камни, как и люди, сдались холодной немоте, опустошению. Петербург со стылыми колоннадами, набережными, пустыми дворцами стоял в снегу, как торжественная гробница, и бой курантов на Петропавловской крепости казался пронзительным погребальным звоном в студеном молчании.
Зрелище величественного умирания влекло Пашку. Город точно освободился от всего ничтожного, что копошилось в нем, и возвышался теперь в прекрасной немоте.
У памятника Петру на Сенатской площади, когда звенели по убитому снегу шаги, точно стала земля одной глыбой льда, Пашке показалось, что жизнь в этом городе и на всем свете уже кончилась, умолкла, и это не жизнь теперь, а иное странное существование. «Небылье», – вспомнил он слова матери. Небылье. Вот он идет по снегу, но пар его дыхания и звук его шагов – не жизнь, а тень ее, мертвое движение. Он стал следить за тенью на снегу, подсматривать за ее таинственным движением. «И мне бы стать тенью», – подумал он.
На угол Среднего проспекта, на Васильевском острове, еще выезжал извозчик, кажется, единственный на весь Петербург, где больше не было седоков. Извозчик выезжал на этот угол, может быть, лет сорок. Старик, вероятно, сошел с ума от голода, страха, непонимания, что делается кругом, и сошла с ума его костлявая кобыла с передними ногами, изогнутыми ревматизмом. Гнедая лошадь каждый раз кого-то напоминала Пашке.
Он видел, как извозчик, подкорчившийся на облучке, свалился в санки, и костлявая лошадь в обледеневшей упряжи сама пошла наискось по улице, завернула за угол. Тогда он подумал, что она страшно похожа на мать.
За углом лошадь, вероятно, падет, но ему было все равно. Он повернулся, пошел в другую сторону.
Он не знал, какой стоит год, месяц, и незачем было знать: ход бытия, самое время тоже как будто свалилось замерзшим. Это было неживое бытие, без времени. Небылье.
А он, голодный созерцатель, бродил по улицам, чтобы только заметить следы недавней живой жизни, которая еще помнилась, со всем своим дыханием и полнотою. Он растравлял воспоминания, как рану, и такие же, как он, подростки, женщины, дети, старики с ожидающими глазами бродили без толку по мертвому городу.
На Васильевском острове, у Андреевского рынка, на площади были когда-то деревянные лари, лавчонки, сбитые друг к другу, с узкими проходцами, крашенные коричневой краской.
Давно, зимою, в том, исчезнувшем, мире горели в ларях керосиновые лампы, под лампами продавали дешевые одеяла, валенки, развешанные гроздьями, вязаные шарфы, штаны из чертовой кожи. Отец, когда Пашке было лет шесть, именно здесь покупал ему варежки. Навес лавки поддерживал железный столб. Однажды в стужу Пашка лизнул столб и едва оторвал язык от накаленного морозом железа. На столбе от его языка осталась белая ноздреватая корочка.
Все лари теперь свалились, доски растаскали, торчал из снега кусок толевой крыши. На пустыре он понял смутно, что та жизнь, какою он и все люди жили до революции, та огромно-волшебная, наивная и простая жизнь, как игра на их заднем дворе, рухнула, точно лари у Андреевского рынка, и кончилась навсегда.
По баркам, затертым льдами, он часто добирался до середины Невы. Там свистел ярый ветер. Не было просвета в низком небе. От стужи ломило лоб.
Он смотрел в Невскую мглу и повторял упорно:
– Не боюсь. Все равно. Не боюсь. Я белогвардеец…
На запертом Ситном рынке, где сходились мешочники, которых каждый раз разгоняла милиция, он раз увидел мать. Он не сразу узнал эту старую женщину, точно нищенку в старой мантилье, с темными подтеками на одутловатом лице. Мать шла с пустой кошевкой. Ему показалось, что ноги у нее отекли.
Каждого ненужного прежнего человека, и Пашкину мать, коммуна уничтожала голодом, террором, и люди умирали с удивительной кротостью, с удивительным беззлобием, как мать. Он посмотрел на нее и перешел на другую сторону.
В сумерки того дня он заметил на площадке лестницы у Вегенеров кошку. А он думал, что все звери и птицы уже вымерли в городе. Ни одного воробья не встречал он на улице.
Кошка изумила и обрадовала его. Он тихо позвал:
– Кис-кис…
Тощая, с жесткой шерстью и впалым животом, кошка двигалась вдоль стены со слабым смутным звуком. Мяукание показалось ему совершенно понятным, это был человеческий звук недоуменной жалобы, тихого страха. Он взял ее на руки, под гимназическую шинель, сел на подоконник. Кошкино сердце колотилось неровно и редко. Он гладил ее по холодной шерсти, в ледяшках. Им обоим стало теплее, кошка замурлыкала.
В эти дни, когда он бродил и созерцал мертвый Петербург, ему казалось, что надо вспомнить что-то самое необходимое, а что, – он не знал. Это томило его. Потом он вспомнил, что давно, с самой революции, не был на могиле отца.
Он добрался до Смоленского кладбища в глухой день, перед оттепелью. Ему стало печально от сырого шороха ветра в голых березах.
На кладбище, знакомом с детства, все были забвенно, запущено еще больше, чем в городе. Покосились железные решетки, ни одной лампады, безлюдие. Деревянные кресты выломаны кое-где гнилыми черными концами вверх, сдвинуты надгробья, точно пронеслась буря. На Черной речке, у кладбища, на льду, среди битого стекла и мусора, валялась под снегом почерневшая падаль, собачьи мумии с оскаленными зубами.
У венков в жестяных футлярах побиты стекла, поникли почерневшие ленты, на ржавых проволоках торчат осколки фарфоровых лилий, издающие едва слышимый звон.
Пашка шел по кладбищу со смутной обидой за всех мертвых, покинутых, оскорбленных, забытых.
По старой фотографии на каменном кресте он узнал дорогу к отцу, в шестой разряд. Слегка выпуклая кладбищенская фотография на эмали была заметна издали. В ее поблекшей желтизне, под инеем, казались странно живыми точки полустертых глаз.
«Что же случилось со мною?» – как бы спрашивали с наивным недоумением глаза. Пашка рассматривал на фотографии прическу усопшего, его усы, загнутые колечками, широкий галстук с булавкой, какие носили, может быть, в 1896 году.
Этот человек весь исчез, а к чему-то все смотрит с забытой фотографии его забытое лицо.
Со странным изумлением Пашка озирался кругом. Под снегом и прелыми листьями лежали люди, не знающие, что теперь случилось с их жизнью. Забыты их имена, лица, прозвища, клички их птиц, собак, лошадей, вся их жизнь, какая им самим казалась неиссякаемой. Все их слова, движения, дыхание, мысли – все забвенно, все исчезло, перестало быть, как будто не было вовсе. Нестерпимая жалость к мертвым охватила Пашку.
Он узнал могилу отца по каменному осьмиконечному кресту. На холме Гоги, рядом, деревянный крест свалился в снег. «Милый Гога, что теперь с тобой, и ты, папа, где?» – подумал Пашка. Он сел на могилу, снял шапку. Он был поражен исчезновением живых и подумал, зачем же тогда эта непонятная жизнь, если так все исчезает. Хорошо только, что отец, может быть, не видит, что случилось с жизнью под советской властью, и ему стало жаль мать, что ей выпала судьба видеть.
Он вспомнил отца в деревенской церкви на Преображение, когда святят яблоки и церковный пол в связках свежего сена. Отец в чесучовом пиджаке, загоревший, молодой, наклоняется, весело шепчет: «Как хорошо». В Вербное воскресенье или Благовещение, в светлую оттепель, когда капало с крыш, отец купил птиц, прорвал дырочку в бумажном кульке, и птицы, серые, с красными шейками, выпорхнули, отец рассмеялся. Он вспомнил, как шел с отцом по набережной в прозрачный мартовский вечер, за Невой – зеленоватое небо. Отец что-то говорил, никогда не вспомнить.
Пашка улыбался растерянно, поглаживая озябшими руками снег.
Не все умерло, не все исчезло, а в нем самом идет жизнь необыкновенная, невидимая, светлая, сопровождающая его, как и каждого человека.
Отец живет в нем, а это и есть самое необходимое, самое главное. Это и есть жизнь. «Как хорошо», – подумал он и на мгновение ему показалось, что все небо, березы и все мертвые живы в нем, все, кто был и тысячу лет до него, все прошлое и будущее в нем, невидимый собор человеческий, точно он несет в себе все жизни, землю и небо.
По дороге с кладбища Пашка уже забыл эти неясные и огромные мысли, едва коснувшиеся его.
Поднялся сырой ветер оттепели. По гололедице, перед ним и сзади, с жестким скрежетком мело сгоревшие кленовые листья. Коричневые кораблики или крошечные коричневые каретки догоняли друга друга, а он подумал, что листья, так же, как он, как все живые и мертвые, кто лежит с его отцом под снегом, в шестом разряде, одинаково равны перед Кем-то. И ему стало жаль всех живущих, невинных, кого так мучают теперь: Костю с родимым пятном на плечике, как мышья шерстка, Вегенера, всех жильцов дома на Малом проспекте, костлявую лошадь, какую он видел вчера, глухую Катю, мать. Шорох сгоревших листьев показался ему шорохом всего сгоревшего, замученного мира.
Он подумал о себе, что самый первый мерзавец на свете, потому что две недели не был у матери и не подошел к ней на Ситном. Он куда хуже Николая – подрался с братом, а чем лучше его, что хорошего сделал на свете? Он ничего не сделал хорошего, никому, и обидел Колю.
Ему нестерпимо стало жаль брата, Ольгу, Любу, уехавшую куда-то, серое небо, тихий снег, пустой город, одиноких прохожих, кирпичную стену фабрики, мимо которой он проходил, всех живых и всех мертвых, и мать.
Глава XVIII
Пашка в тот день не поднялся к Вегенерам, а постучал к своим.
Звонки ни у кого не звонили. Ему открыла Катя, бесшумная, обверченная темным платком, в материнских туфлях, точно карлик из сказки.
– Николай дома?
Он не знал, как будет мириться с братом, боялся, что Николай станет бранить его снова.
– Дядя Коля в Москву уехал, – ответила Девочка, впуская его. – Бабынька нездорова. У нас чужие живут.
В кабинете и столовой поселились чужие люди. В заслеженной прихожей стояла чья-то корзина в прорванной клеенке. Пахло сапогами.
Пашка пошел за Катей по темному коридорчику, где было развешано сырое белье. Под бельем он наклонялся.
– К нам из совдепа вселили, – говорила Катя. – Вчера переехали. Бабынька третий день лежит.
– А Ольга где?
– Тетя Оля уехала с тем дядей, у которого усы, на Фонтанку, N 79. У них в доме тепло, паровое отопление, одни большевики живут.
Пашка согнулся под последней мокрой тряпкой, кажется, юбкой. Воздух в чулане матери был кислый, сырой. На стуле стояло корыто. Большеголовый Костя в пальтишке и в шерстяных чулках возился на полу с бумажками.
Та же рваная шуба на сундуке, на полу лампа, книги, угол, заставленный «Волгой», где он спал на двух ободранных креслах. У железной печки посреди чулана пол прожжен угольями.
За стеной что-то переставляли новые жильцы. Мать дышала часто и коротко. Она посмотрела на него без удивления, она была поглощена тем, что горит в ней. Седые волосы сбились на подушке. Мать лежала одетая. Пашка поглядел на ее тощие ноги в черных шерстяных чулках, и показалось, что где-то видел это.
– Здравствуйте, мама.
Мать обдала его горячим дыханием. Ее губы были совершенно сухи, обветрены жаром.
– Мама, вы нездоровы. Был доктор? Горящие глаза матери стали краснеть:
– Вселили. Весь дом разорили…
Как будто из-за того, что вселили чужих, что заняли кабинет отца, ее кладовку, что чужие люди ходят, стучат за стеной, она и заболела.
– Ну что, пусть вселили. Я говорю, доктор был? Мать непонятно посмотрела на него и отвернулась. Катя, крепко повязанная платком, ходила среди хлама и рухляди. Чулан, вероятно, казался ей огромным миром, другого и не бывает.
В жестяную помятую чашку с водой и льдом она выжимала грязное полотенце, она прикладывала его на лоб бабыньке. Мать каждый раз смотрела на нее благодарно.
Катя совершенно бесшумно хлопотала весь день. Это она настирала столько юбок, простынь и рваных чулок, развешанных в коридоре и в чулане. Она носила воду со двора из чана в прачечной ведрами, она поила бабыньку липовым чаем, стояла в очередях за осьмушкой вязкого хлеба и за картошкой, которую пекла для всех троих на железной печурке. Ничто не утомляло ее, как будто все, что она делала, было одной огромной, иногда трудной, но бесконечной игрой.
– Дядя Паша, надо воды принести.
Пашка молча кивнул головой.
– И за керосином стоять, может, выдадут.
– Хорошо.
Он стал собираться, но мать позвала, часто дыша:
– Паша, куда?
– Я за водой.
– Останься… Николай-то уехал… В Москве место лучше дали. Бросил мать.
– Ну что вы, вернется.
– Не вернется. И Ольга ушла… Ольгунька… Все мать бросают.
– Но, мама, я думаю, Коля напишет.
– Ничего не напишет. Поди за водой-то…
Пашка послушал ее частое дыхание и на носках, с ведром вышел из чулана.
Задний двор, где он брал воду, был как холм чистого снега. От деревянного сарая не осталось и следа. Все было пусто и бело, только у обледеневшей стены соседнего дома стояла та же, памятная с детства, кровать, изгнивший железный скелет в пороше. Сердце Пашки сжалось, когда он увидел белый пустырь, волшебно смутный мир детства, теперь бездыханный.
Когда он с ведром шел назад, бывший хозяин «Чая. Сахара. Кофе», всклокоченный, с потемневшим лицом, тащил за собою по двору санки с мешками. Пашка знал, что хозяина брали под арест, выпускали, снова отводили в Чека, все у него было отобрано, магазин заколочен, Аполлинарий его умер от голода, а обнищавший хозяин жил теперь в подвале, в углу.
Точно дальний сон, дуновение света, вспомнил Пашка ночь заутрени, как Аполлинарий сидел в бархатном креслице с горящей свечой.
Он принес воду, потом промерз в очереди, куда Катя послала его. По дороге домой он грыз мерзлый картофель, хрустевший на зубах.
Мать лежала с красноватым лицом, такая же непонятная. За дверью у новых жильцов ходили, стучали, тренькала гитара.
Пашка сидел у остывшей железной печки, слушал, как потрескивает в стенах мороз, быстро дышит мать. Костя с Катей поджались на кресле, грелись под платком. «Птицы, – подумал Пашка и вспомнил Любу. – Мы одни на свете».
Вечером на двор приходили красноармейцы, увели сапожника Потылицына.
Сапожник шел без шапки, в опорках на босу ногу, в дрянном пальтишке. Он подпрыгивал боком, выкрикивал:
– Гады, не боюсь. Сам пролетарьят, гады…
Он не был пьян, глаза сухо горели, и было страшным бледное его лицо, обросшее черной, с проседью, бородой.
А утром к Маркушиным пришла Таня Вегенер с девочкой на руках. Она была в своем переднике из сарпинки, чистая, с гладко зачесанными волосами. Она сказала Кате:
– Отто арестовали.
Катя переморгнула ресницами. То же Вегенер сказала Пашке, коловшему у печки ножку кресла. У него замерло сердце: «Так, значит, не выбраться отсюда».
– Отто арестовали, – повторила Таня и матери. Пашка заметил, что один глаз Тани начал косить, точно был неживой или остекленел. Ему невыносимо было смотреть на этот прозрачный человеческий глаз в тончайших красноватых жилках.
Таня постояла молча, потом ушла с девочкой наверх, к теткам, где, грея в руках ножки дочери, она повторит тот же рассказ, как пришли трое, стали спрашивать Отто, бывал ли на Выборгской у Пермияйнена, как Отто сказал, что бывал, и что взяли в утреннем пиджаке и в туфлях.
В замолкшем, потемневшем доме, где все измерзло и погасло, шевелилось теперь одно истребление: там добивали живых. В этом городе, в этой стране всеми правило небылье, голод и террор, и добивали живых.
Утром Пашке показалось, что мать переменилась. С ее заглохшего жесткого лица точно сошла темная корка: лицо ожило, помолодело, стало слышащим и светящимся, как когда-то. Глаза горячо сияли от жара.
Он подумал, что мать поправляется, не поверил себе, а мать позвала его легко, радостно, как звала маленького:
– Пашуня, сыночек.
От ее голоса ему стало страшно и больно.
– Мама, вам лучше?
Он тронул руку, обдавшую огнем. От матери шло горячее дуновение, и он понял, что она не поправляется, а непонятное уже побеждает ее:
– Мама, что вы…
– Пашуня, под подушкой, – порывисто пробормотала мать. – В ящике, в головах. Дай сюда…
Под подушкой он нашел ордена отца, завернутые в папиросную бумагу, едва позвеневшие, и фотографии.
Ордена были Станислава и Анны, фотографии всех домашних: одна, поблекшего табачного цвета, мать молодая, в шиньоне, в платье с турнюром, стоит, а отец, в широком сюртуке и в тупоносых башмаках, сидит в кресле. За ними намалеван серый парк, под фотографией – гирлянда золотых медалек и выцветшая надпись: «Фотография Соловьева у Синего моста».
В свертке были карточки его и Ольги, он в матроске, ему лет восемь, а Ольга в смешной шапочке с птичьим крылышком и в гимназическом переднике, Николай в студенческом мундире, волосы ежом, пожелтевшие метрики, пачка писем, счета и отдельно тоненькие крестильные крестики, порванная серебряная цепочка и обручальное кольцо отца: целый мир, утихший и святой, завернутый в прозрачную бумагу.
– Храни, храни, – невнятно бормотала мать. – В головах дай, из шкафа…
Он стал рыться в ореховом шифоньере, у койки. Из ящика пахнуло забвенным духом детства, запахом сухих яблок. И здесь был утихший, святой мир: кусочки красного сургуча, кожаные папильотки сестры, ее серые шведские перчатки с прорванными кончиками пальцев, искусственные цветы на проволоке, шпильки, пожелтевшие любительские фотографии, его давнишний оловянный солдатик без подставки, пасхальные подсвечники с розетками – голубые, белые, закапанные воском, позвеневшие нечаянно под рукой, и мотки ниток, и венчальные свечи в большой коробке, как из-под кукол, потемневшие, витые, с золотыми полосками и нечистыми белыми бантами. Одна свеча была надломана, к другой, в легкой полосе копоти у конца, пристали шерстинки. Эта горсть праха, забытая в шкафу, таила в себе самое дорогое, что остается от жизни.
Пашка принес все в охапке на койку. Мать едва тронула коробку с венчальными свечами.
– Когда отвезут, положи со мной. Всегда помни. Не забудешь меня.
– Зачем вы так говорите? Вы поправитесь… Я за Ольгой пойду. Я же говорил, доктора надо позвать.
– Пусть Ольгунька придет. Скажи, маму пусть помнит. И Николаю напиши, пусть помнит…
– Но зачем вы так говорите? Конечно, напишу. Нет, я за Ольгой пойду.
Бледный, кусая губы, он торопливо надел чухонскую шапку.
Вскоре тощий юноша в потрепанной гимназической шинели бежал, задыхаясь, по Васильевскому острову, по пустым мостам. Раза два он прислонялся к стене.
На Фонтанке ему открыла сама Ольга. Сестра была в голубом бархатном кимоно, в меховых туфлях с белой оторочкой на босу ногу. Она прикрыла ноги полой кимоно. В прихожей ему стало тошно от застоявшегося теплого воздуха, отдающего табаком и вином.
– Мама умирает, Оля.
Ольга посмотрела на него, отмахнула от лица дым папиросы. Белая сытая рука обнажилась до плеча. Ольга пополнела, стала грузнее, были густо намазаны ее черные ресницы, слипшиеся стрелками.
– Мне очень жаль, но что же я могу сделать, – равнодушно сказала она, отходя. – Сколько теперь помирает.
– Я думал, ты придешь. Ведь мама. И потом – у нас твой Костя.
– Сама знаю, что у вас. Костю надо куда-нибудь в приют отдать, это верно.
Она стояла у замерзшего окна, ее лицо светилось и мерцало. Пашка увидел, какой страшный рот стал у сестры, черный, так сильно были накрашены губы.
– Как же так, Оля, – виновато и недоуменно сказал он, озираясь со страхом и брезгливостью. – Неужели ты не придешь? Ведь мама.
– Куда мне идти? Чего ты от меня хочешь?
– Я, Оля, ничего. Я только хотел, чтобы ты зашла к своим.
– К своим. Каким своим? Или не видишь, не понимаешь, кем я стала? Какой дурак. Я и помнить о вас не хочу. Не хочу, понимаешь? Чего стоишь, на меня рот разинул?
– Оля, прости, пожалуйста, я вовсе не хотел…
– Чего стоишь, на меня рот разинул, – повторила Ольга, и ее желтоватое отекшее лицо задрожало. Она заплакала некрасиво, всей грудью, утирая лицо голубой полой кимоно, повторяла обиженно, бессмысленно:
– Рот разинул…
Он никогда так нежно и так виновато не говорил с сестрой.
– Чего же ты плачешь?.. Я уйду… Ты не приходи к нам, когда тебе неприятно. Ведь я ничего не понимаю. Я не знал, что тебе нельзя приходить. Извини, Оля.
– Куда мне идти, зачем идти, – Ольга высморкалась. – Не надо идти.
– Да, конечно, не надо. Ты не приходи, Оля.
С шапкой в руке он вышел на лестницу, стал тихо спускаться по ступенькам.
– Пашка, – вдруг окликнула его сверху сестра.
– Да, – порывисто ответил он, точно ждал, перегнулся через перила и заглянул вверх.
В пролет лестницы сверху смотрела Ольга. Ее белокурые волосы свесились вниз прядями:
– Пашка, скажи маме, я приду. Слышишь, непременно скажи.
Ольга говорила так весело, что он даже обиделся.
– Какая ты, Ольга, странная, ей-Богу. То ревешь, то кричишь.
– Ладно, ладно, скажи, непременно приду…
В сумерки Пашка вернулся домой. У соседей тренькала гитара. Кто-то очень тихо начинал петь, обрывал, снова тренькала гитара. Катя и Костя встретили его в темном коридоре. Дети сидели на ларе. Они озябли, ожидая его в потемках.
– Бабынька там, – сказала Катя, и он понял, что случилось что-то.
В чулане матери он натыкался в темноте на кресла и стулья.
– Мама, – позвал он и тронул выпяченные ноги в наморщенных шерстяных чулках. «Нянька», – вспомнил он, вдруг закричал от страха высоко:
– Мама, мама.
Он побежал в коридор, стал стучать к соседям. Это была все та же старая дверь в кабинет отца, и на мгновение ему показалось, что сам отец отворит ему.
Дверь отворил коротко остриженный молодой красноармеец или красный офицер во френче, за ним, с гитарой, стоял другой. Оба смотрели удивленно.
– Умерла, – повторял он растерянно. – Умерла.
– А чего вы, между прочим, кричите? – сказал красноармеец с гитарой. – Умерла, ну и умерла.
– Кто умер-то? – равнодушно осведомился коротко остриженный.
От его спокойного, слегка раздраженного голоса, Пашка пришел в себя.
– Моя мать умерла. Я не знаю, почему кричал. Извините. Он побежал наверх, к Тане Вегенер. За ним, стараясь, как он, шагать через ступеньку, забирались Катя и Костя.
Таня сказала, что с покойницей детям спать нельзя, чтобы все трое оставались наверху. Пашка, прижавшись лбом к стеклу окна, плакал безутешно. Вегенер с Катей несколько раз ходила вниз, натащила оттуда одеял, шубу, прорванный халат, полушубок, оставленный Николаем, узел с бельем, зачем-то самовар.
– Дядя Паша, муку надо взять, – советовала Катя. – Я все принесу, и крупы, я знаю, где у бабыньки кульки спрятаны…
Дверь к Маркушиным долго стояла открытой, покуда красноармеец с гитарой не выбранился: «Холоду нагоняют», и не захлопнул дверь со злостью. Таня всем троим постлала у себя на полу.
А в чуланце ниже этажом, в холодной темноте, с поджатыми руками, вытянувши холодные ноги, лежало то, что еще утром было матерью.
Каждый раз, когда умирает человек, вместе с ним умолкает не разгаданный никем мир, вся вселенная, какую он, живой, носил в себе. Умерла и вселенная матери. И горсть праха, не нужного никому, осталась от нее, рассыпанные на ободранном кресле фотографии, пожелтевшие письма и метрики детей, искусственные цветы и кукольная коробка с венчальными свечами…
На другой день приехала Ольга в расшатанном автомобиле, с нею два господина, выбритые, как актеры, в рабочих кепках и в хороших пальто. Они остались ждать у дома.
В дверях Ольга встретила Таню Вегенер, которая только что прибрала покойницу. Ольга не поднялась наверх, когда узнала о смерти, сказала, что очень спешит, пришлет кого надо отвезти мать на кладбище. Она бежала из дома.
Пашка узнал, что сестра была внизу и бросился за нею вдогонку, накидывая на бегу шинельку.
Катя и Костя чувствовали, что это тщедушное существо с карими глазами, в серой шинельке, дядя Паша, единственное существо, кто теперь может защитить их на свете.
Едва он брал шапку, Катя молча начинала обвертывать вокруг головы материнский платок, какой перешел к ней по наследству, и совала покорные ручки Кости в рукава его пальтишка, подбитого истрепанным барашком. Дети всюду ходили за ним по пятам.
Он выбежал на улицу, волосы хватило холодом. Автомобиль ушел. Он постоял на панели и вернулся назад. По обледенелой темной лестнице навстречу ему торопливо спускалась Катя с Костей на руках.
– Ну куда ты идешь, – с досадой сказал Пашка. – Почему вы ходите за мной?
Катя поставила свою ношу, калоши мальчика стукнули слегка. Девочка передохнула, потупилась. Она не умела сказать, почему ходит за ним.
– Идите домой.
Костя старательно забирался на скользкие ступеньки, сопел. На площадке они остановились. Сердце Пашки билось часто и гулко. Ему стало невыносимо слушать порывистое дыхание детей и что горячие глаза Кати смотрят на него покорно, что все они голодны, оборваны, грязны и он не знает, что будет теперь с ними на свете.
В этой глухой девочке, с желтоватым, немного татарским лицом, преданной и безмолвной, было что-то материнское, самое дорогое, жалостное неизъяснимо. Он тронул ее холодный платок:
– Устала. Ничего, дойдем.
Катя неловко уткнулась лицом в его шинель. Так они отдохнули.
За матерью к сумеркам приехали дровни, запряженные голенастой кобылой с крутыми ребрами. На дровнях – больничный гроб из трех желтых досок. Его прислала Ольга. Она писала Тане Вегенер, что Костю лучше всего отправить в деревню, к Аглае Сафоновой, и приложила денег на дорогу.
Морозный дым ходил на пустом проспекте. Костя скоро устал идти за дровнями, начал ныть. Его нес на руках Пашка, потом Катя, снова Пашка, до того, что руки у него стали дрожать. Он поставил мальчика в снег и сказал:
– Чего же идти. Все равно.
Ломовой извозчик обернулся, покивал им головой.
– Прощай, мама, – сказал Пашка.
Горячие черные глаза Кати смотрели в туман, губы девочки шевелились. Она не плакала, но глаза были полны слез. Он тронул ее за холодный рукав:
– Пойдем, Катя. Чего же стоять. Пойдем…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































