Текст книги "Бедная любовь Мусоргского"
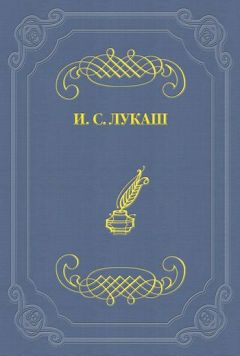
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
– Вот… Анне так и не подарил… Вот, примерьте. Лиза посмотрела на его большое лицо, на влажный лоб, снова подумала: «Он болен, болен», и шутливо сказала:
– Хорошо, давайте.
Старая девушка столкнула изящным и простым движением с узкой ноги свою туфельку и надела башмак, поданный Мусоргским.
Мусоргский стоял перед нею на коленях. Башмак пришелся Лизе как раз.
– Вот, видите, видите, – обрадовался Мусоргский, – я же говорил, что впору…
И погладил башмак. Она застенчиво усмехнулась, потом поставила башмак на коробку и просто сказала:
– А теперь пора… Теперь нам надобно прощаться, Модест Петрович.
Он засуетился, хотел надевать сюртук, шубу, чтобы проводить ее, но она отказалась твердо и спокойно. Он подчинился без долгих споров.
У дверей, когда Мусоргский искал ключ, Лиза внезапно откинула с лица вуаль, наклонилась и поцеловала его полную, не очень чистую руку, как целуют покойникам.
В тот же вечер Лиза Орфанти уехала из Петербурга за границу, навсегда.
Госпиталь
В начале февраля 1881 года Мусоргского отвезли в больницу.
Одни приятели советовали частную лечебницу, другие, чтобы не терять времени, настаивали везти хотя бы в Обуховскую и, наконец, во всей этой суете вспомнили, что Мусоргский отставной офицер, и тогда повезли его на извозчике в военный госпиталь. Дрожащий, с посиневшими губами, он жаловался на сильную простуду, у него был нервный удар, на ноге началось рожистое воспаление.
В Николаевском военном госпитале, близ Смольного, когда служитель повел его под руку в палату, Мусоргский, в сером лазаретном халате и в теплых туфлях, вспомнил, что это уже было с ним, и это хорошо, что так было, точно к нему возвращается по-иному вся жизнь. Он вспомнил, как много лет назад, молодым офицером, в дежурство, любил смотреть из госпитального окна на торжественный, великолепный закат, небесное пылание над Петербургом.
Особенно хорошо был виден закат из углового окна 2-го военного сухопутного. Он вспомнил госпиталь, морозную ночь, в тайном шевелении звезд, и лекаря, синеглазого шумановского Мечтателя.
Мусоргский покорно лег на койку в углу. Пустая койка рядом была застелена суровой холщовой простыней в дурно замытых пятнах: умершего вынесли вчера в мертвецкую.
Мусоргский лег с удовольствием, необыкновенно спокойно, под жесткое солдатское одеяло. Было тепло, удобно. Казалось, он вернулся в свой дом после очень долгого, нелепого, истомляющего, по-пустяшному суетливого и ненужного путешествия. Наконец-то он может отдохнуть…
Больничные стены, крашенные в серое окна, замазанные известкой, не томили, не тяготили его. Ему казалось, что именно два эти тона, серый и белый, и есть самое главное, последнее, настоящее, что остается от всего на свете, как бы самый остов бытия. В бело-сером молчании у него тоже будет только самое главное, настоящее, для чего надо было жить.
Он радовался неожиданному отдохновению госпиталя. Не задыхаясь, не торопясь перехватить где-нибудь трешницу или пятерку, ни с кем не споря о музыке, России, Боге, ни о ком и ни о чем не думая, он может хорошо полежать здесь, в тишине, один, рядом с пустой койкой, застланной суровой холстиной.
Художник Репин, приехавший из Москвы на выставку, четыре мартовских дня писал Мусоргского в госпитале.
Погода стояла чудесная. Палата Мусоргского была залита солнцем. У Репина не было мольберта, и он кое-как примостился за больничным столиком.
Четыре дня он писал больного в том самом халате, какой был ему подарен с генеральского плеча.
А на пятый день Репина к Мусоргскому не пустили. У больного начался лихорадочный жар.
Он думал, что у него только сильная простуда, с ногой пустяк, и опасался, как бы равнодушные доктора после осмотра не назначили его на выписку.
А он охотно полежал бы в тишине, он мог бы что-то обдумать, что-то исправить здесь. Его работы – «Борис», «Хованщина», «Шабаш», «Песни и пляски смерти», о которых больше всего говорят, – все его работы сырые, недозрелые, похожи на его скомканные рукописи, прожженные папиросами, залитые вином. А здесь он исправит их, разгладит, и станет все классически светиться, как белый снег.
Критики его бранят за дурную оркестровку, он и без них знает, что оркестровка дурна. В госпитале он твердо решил почитать об инструментах и очень радовался, что позволили оставить на табурете у койки захваченный с собою, потрепанный и пожелтевший, как старая Библия, «Трактат об инструментах» Берлиоза. «Трактата», он, правда, не тронул.
А больше всего он радовался тому, что от окна на табурет ложится вечером мартовское солнце, холодное, величаво багряное. Он всегда любил солнечные закаты.
Когда его осматривали, он полусидел на койке, послушно дыша, глубоко набирая воздуха в грудь, как ему приказывали. Военный доктор с жесткой седой головой, остриженный ежом, водил холодной черной трубкой по его спине. Мусоргский стыдился своего рыхлого, горячего и бессильного тела и того, как дрожат руки, особенно локти.
Иногда он пытался поговорить с доктором и на вопрос о самочувствии отвечал лихорадочно:
– Хорошо, благодарю, очень хорошо… А я, знаете, доктор, все музыку слышу. Всегда музыку, церковные хоры…
Госпитальный врач (он был утомлен обходом палат, осмотром таких же желтых, горячих тел и досадовал, что опаздывает домой к обеду) отвечал с равнодушной улыбкой, потирая жесткий еж:
– Ну, еще бы… Вы же музыкант. Вот вам и слышны церковные хоры.
Доктора нашли у него признаки не то белой горячки, не то падучей и совершенно изношенное в сорок один год сердце.
Вечером, в начале марта, лазаретный служитель принес и бесшумно поставил в ногах его постели невысокие ширмы с серым экраном: главный врач приказал отделить его от других в палате.
Мусоргский лежал тихо. Он думал: хорошо, что его отделили, какой хороший этот служитель, все так и надо, как с ним делают, и, если он умирает, это тоже так надо. Его жизнь и смерть – только повторение жизни и смерти всех людей, всех теней, смутно движущихся куда-то по белому потолку палаты.
Он тень. Вот он, тень, отдохнет там, в углу на потолке, наверху, а потом вернется на землю, снова наденет сюртук, сапоги и сделает все самое главное, самое настоящее, чего не успел сделать. Он знает, что за чистое сердце он избран гением. Но ему вовсе не надо, какой он там гений.
– Право же, не надо… Зачем, благодарю вас… Только одного прошу, сердце чисто созижди во мне…
А главное, удивительно: Анна ходит у него по кабинетику, до того похудевшая, и, вероятно, тоже простужена, до того прозрачная, что видно сквозь батист кофточки, как у нее в груди колотится сердце. Светлый огонь. И от огня душно. Душно.
– Я, Аня, чистое сердце… Но зачем же огонь, душно.
А это не Анна, а Серафим. Серафим стоит в ногах лазаретной койки. Сомкнуты уста Серафима, раскрыты недвижные, изумрудно-прозрачные глаза, смотрит, а в руках сердце Анны, светлый огонь, трепещет, бьется.
– Не может быть… Это картина. Я где-то видел такую дешевую католическую картинку: ангел несет в руках горящее сердце…
И ушла Анна, зачем все уходит: придет, уйдет. Странная. Теперь за окном сидит, свернулась у самого окна, смотрит сквозь мутное стекло. Глаза изумрудные, недвижные.
– Эх, Анна, как же так, Анна…
Как ему за нею в окно? Опять искать. Она сольется с сумрачной петербургской мглой, исчезнет, а он устал, у него тяжелое тело, сердце колотится, врачи сказали, сердце никуда, а ему по такому холоду на петербургской заре лететь, лететь, разыскивая ее, глупость какая.
– Эх, Анна, как же так, Анна…
Это не он говорит: «эх, Анна», а он с медиком Бородиным на дежурстве во втором сухопутном, генварь 1856 года, холодина какой, а медик толкует о жаркой Азии, золоте Византии. На койке умирает солдат, пожилой, похожий на Николая Первого, бормочет костлявый солдат горячо, беспрестанно:
– Эх, Анна, как же так, Анна…
И никто не понимает солдата, никто не знает о нем ничего, и чье имя бормочет.
– Кандидат, – тихо говорит Бородин с прохладной усмешкой.
– Да, да, знаю: вы уже говорили… В мертвецкую.
Бородин кивает головой:
– Вот теперь вы все понимаете, Мусоргский… Вы мудрым стали, и я вам должен сказать, что ее тут нет.
– Знаю… Только я все же могу ее найти, не правда ли?
Теперь все понятно, он во втором сухопутном разыскивает Анну. Она ждет его в коридоре. Вот какой громадный коридор. Сквозняком подуло. А к нему подходит Лиза Орфанти. Берет за рукав:
– Пойдемте, какой вы, право, Модест Петрович, безалаберный… Всегда опаздываете.
– Конечно, я знаю, это мой малодушный бред, извините меня… Но почему вы в синем плаще?
Самое удивительное, что Лиза светлым лицом, нос с горбинкой, удивительно как похожа на Анну.
– Боже мой, постойте, кто вы, Лиза…
Сердце заколотилось больно, сильно, а доктора говорят, нельзя, чтобы колотилось. И главное, почему на синем плаще нашиты звезды, живые, шевелятся, сияют. Что за рождественский маскарад, и почему ведете меня за руку, как ребенка… Впрочем, вы всегда были гувернанткой… Вы, Лиза, небесная гувернантка.
Она молчит. Слышно пение. Несомненно, согласное пение, далекий хор, похоже, за всенощной поют архиерейские певчие. А вот дворовая шарманка застонала и трактирные арфы. Как бедна оркестровка человеческая, как жалостна.
Господи, так это и есть Твоя музыка, какая бедность, какая простота, а я-то думал: трактат Берлиоза об инструментах…
Лиза привела его в рождественский кукольный театр, а там по золоченой лестнице, видно, она оклеена золоченой бумагой, сходят и восходят такие же, как Лиза, нос чуточку с горбинкой, все в синих плащах, на них шевелятся живые звезды.
И всех выше, в короне, тоже из золоченой бумаги, от нее восходит волнами свет, в синей мантии, изливающей звезды, стоит Кто-то.
И те, кто восходит, и кто сходит, и те, кто стоит вдоль золотой лестницы, а у нее нет конца, все играют на арфах, и у всех белые, мягкие крылья, от крыльев мерцающий светлый туман. Детский театр, дети играют в рай.
А в вышине, в облаках, то заволакивается, то проясняется сияющая корона.
– Лиза, куда вы меня привели… Мне нельзя сюда… Я же грешный, грязный, несчастный, я последний пьяница…
– Идите, Модест Петрович, ничего… Можно.
И он идет за нею по ступенькам, какое странное прозрачное золото, точно он идет по утренней заре, сердце колотится, доктора предупреждали – не выдержит, он идет. Вестовой Анисим смотрит на него, удивительный в солдатском Преображенском мундире, а за спиной белые крылья и звенящая кадильница в руке.
Мусоргский радостно рассмеялся:
– Анисим, до чего же ты удивительный, – кадильница… Этого же не может быть… А ты слышишь?
– Может, ваше благородие… Идите… А я теперь все слухать могу.
Он идет в облаках. Жалостная смутная музыка подымается от земли, тихий шум дворовых шарманок и арф.
– Какая простая, бедная, святая музыка… Я все понял… Не оркестровки, не Берлиоз… А вот какую музыку надо на земле слышать… Я услышал, Господи, музыку Твою… Господи, я услышал…
А в руках он несет, оказывается, башмаки в коробке, коробка сияет снопами лучей, те самые, какие купил когда-то на Невском проспекте в подарок Анне, бедной арфянке, чтобы сменила свои земные башмаки приютской сиротки.
Он идет в облаках с коробкой, в развевающемся больничном халате, в туфлях с чужой ноги, все выше, все легче, просторнее, или его несут.
Его несут громадные белые крылья, и звучит каждое белое перо, поет.
– Не смею… Матерь Пречистая, прости, не смею лететь… Прости нас всех, грешных… Прими Твою землю к Себе, всех нас, всех, землю… Матерь Пречистая.
В пятом часу утра, едва светало, 16 марта 1881 года, в радостном и быстром бреду Мусоргский скончался на сорок втором году жизни от паралича сердца, на жесткой койке Николаевского военного госпиталя, за невысокой серой ширмой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































