Текст книги "Бедная любовь Мусоргского"
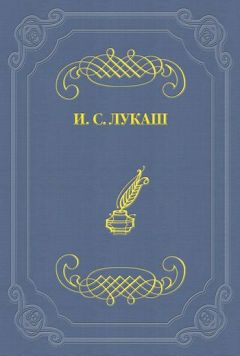
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Мусоргский потер лоб, прислушался с любопытством.
– Да ты постой, братец, – тихо рассмеялся он. – Да какой же ты ламповщик, когда ты Калибан… Настоящий шекспировский Калибан, – и откуда?..
Мусоргский поднял палец:
– Из подполья Императорских театров.
– Никак нет, не Калибан. Егором Дергачевым звать. Будете еще пить, вашескородие али убирать?
– Убирай, Калибан Дергачев…
Мусоргский высыпал на золоченый табурет серебряную мелочь. Ламповщик помог ему надеть потертую шубу.
Без шапки, волосы хвачены инеем, кривоногий Калибан проводил его через двор.
Мусоргский один вышел на Театральную площадь.
Она была совершенно безлюдна. Только побелевший от инея городовой в башлыке стоял там, как мерзлое изваяние. Уже не горели два чугунных фонаря у театрального подъезда…
Но стало светлее от ночной стужи, звонкой и сильной, от зеленовато-прозрачного морозного неба.
Мариинский театр блистал инеем. Мусоргскому показалось, что от театра, как от музыкального ящика, восходит к стынущему небу тихое звучание. У виолончелей звук горячий, коричневый, у контрабасов еще горячее, багряный, и теплый, васильковый, у скрипок, и голубой у флейт. От голубого театра восходят вверх звуки голубых флейт.
Это поет еще царь Борис. Но могло и не быть царя Бориса. Все равно, никто не узнает, не поймет тайны прозрачного морозного молчания, величественной бездны ночи, стынущей над головой.
Мусоргский медленно пошел вдоль канала, где тянулась цепь фонарей. Под его одинокими шагами звенел крепкий снег…
Свидание
Жизнь Мусоргского, как и каждого человека, о ком, хотя бы в примечаниях к справочникам, пишут после смерти, передается примерно так:
1860 год – скерцо, исполненное на концерте «Русского музыкального общества», под управлением Рубинштейна, 1862 – «интермеццо», 1863 – «Царь Саул», «Иисус Навин», 1868 – «Сиротка», «Четыре песни», «Шабаш духов тьмы», «Пляска смерти», музыка к «Эдипу», причем в справке может быть упомянуто, что, например, «Шабаш духов тьмы» написан особенно сжато и горячо в форме разбросанных вариаций и перекличек; 1874 – опера «Борис Годунов» поставлена в Мариинском театре. Опера провалилась, критики отметили плохую фактуру и оркестровку, и еще опера, «Хованщина», с убийственным отчаянием, песня Марфы, с длинными органными пунктами, тоже недоработанная, сырая.
Кто-нибудь отметит, что многие отрывки ранней работы Мусоргского «Саламбо» вошли большими кусками в «Бориса Годунова», например, ариозо царя Бориса, фразы Самозванца у фонтана, хор боярской думы и самая смерть Бориса.
Укажут еще, что после «Хованщины» он задумывал писать «Пугачевцев», но не написал. Он писал «Сорочинскую ярмарку», но бросил недоконченной, как и «Женитьбу».
А в жизни Мусоргского заметят, может быть, три темных перелома.
Первый в ранней молодости – в конце пятидесятых годов, около 1859 года, когда Мусоргский как будто потерял какое-то близкое существо. И эту потерю, опрокинувшую его жизнь, не мог простить смерти, а сам запил горькую…
Второй перелом – около 1865 года, смерть матери Юлии Ивановны, которую он горячо любил, называл святой.
Мусоргский зажил горемыкой, один, как перст. Он начал спиваться.
Третий перелом – после неудач с «Борисом Годуновым», – в 1874 году, когда была урезана его сцена в Кромах. С середины семидесятых годов Мусоргский опускается, спивается окончательно.
Вся его жизнь к этому времени превратилась в ночи в «Малом Ярославце» и в низкопробных питерских трактирах.
Никто не знает причины темных переломов его жизни и его страшного пьяного недуга.
Правда, некоторые называют имя Надежды Опочининой, сестры его друга Александра Опочинина, музыканта-любителя и тонкого человека. В семье Опочининых Мусоргский около 1868 года жил некоторое время.
Надежда Опочинина скончалась очень рано. Мусоргский посвятил ей некоторые работы…
Но раньше того некая женская тень, – Неизвестная, – прошла по жизни Мусоргского. Он потерял кого-то в конце пятидесятых годов, и вся его жизнь превратилась в безутешное одиночество.
Особенно 1859–1866 годы насыщены глубокой лирикой его неизвестной любви, выражением личных чувств.
Таким горячим чувством насыщен романс «Ночь» 1864 года, «Желание», «Надгробное письмо» и романс «Горними тихо летела душа небесами…»
Так от жизни Мусоргского остался один звук его исканий и страданий, тщательно разбитый по годам, точно не один человек искал и страдал, а вот в такие-то и такие годы, что как будто и есть самое главное, некто, называвшийся Модестом Мусоргским (впрочем, совершенно все равно, как он назывался), сделал то-то и то-то, иногда с необычайной силой, иногда до крайности дурно, разбросанно, смутно, как во влачащемся лепете косноязычия.
Будет еще упомянуто, что в 1859 году Мусоргский и Бородин, потерявшие было друг друга из виду, встретились снова, работали вместе над Шуманом и что в 1862 году Мусоргский познакомил Бородина с Балакиревым, откуда и началась «Могучая кучка».
Кто-нибудь отметит одну странность в жизни Мусоргского: в его жизни не было женщин, романа. Только в самом конце его короткой, пьяной, точно растерзанной жизни, мелькает имя певицы Леоновой, с какой он в 1879 году давал не очень удачные концерты по России.
Певица Леонова позже рассказывала, что Мусоргский страдал устрашающими, черными галлюцинациями алкоголиков. В эти времена он уже носил случайное платье с чужого плеча, какое ему покупали у старьевщиков. Он пропивал все, и свои нищенские одежды.
Он был всегда одинок, но в три-четыре последних года жизни он был заброшен всеми.
С концом его жизни будет упомянут и скромный дом Наумова, на Пятой линии Васильевского острова, куда Мусоргский, уже опустившийся пропойца, иногда приходил искать ночлега.
Можно было бы также собрать немало самодовольных и покровительственных критических статей о Мусоргском, дружеских отзывов современников, свысока, хотя бы таких, как статья Цезаря Кюи о постановке «Бориса Годунова» в январе 1874 года, о «рублевых речитативах и разрозненности музыкальных мыслей автора», о всех недостатках его, какие «произошли от незрелости, от того, что автор не довольно строго критически относился к себе, от неразборчивого, спешного сочинительства», и еще много других в том же роде.
Впрочем, тот же Цезарь Кюи великодушно подарил Мусоргскому, простуженному после запоя, обширный зеленый халат, стеганный на вате, с какого-то плечистого генерала.
Кто-нибудь полюбопытствует, может быть, и выписками из бухгалтерских книг нотного издательства господина Бесселя, как сочинитель музыки Мусоргский и второй гильдии купец Бессель заключили между собою условие на продажу им, сочинителем, ему, второй гильдии купцу, оперы «Борис Годунов» и целого сборника музыки, причем сочинитель с 1 сентября 1871 года по 1 сентября 1875 года получил, на круг, от издателя 701 рубль 50 копеек, а за песню Марфы сочинитель не получил ничего, а за отдельные романсы и песни Бессель платил ему не больше, чем по 20 рублей.
Мусоргский спивался. Приятели и музыкальные друзья покровительствовали ему по одной любви к ближнему. Друзья, например Стасов, не раз брались отыскивать его по низкопробным кабакам, среди всякой человеческой дряни, спасать из подвалов пропойц, ободранного и распухшего от водки.
Мусоргский, конченый человек, шел ко дну. Нередко его выгоняли с квартиры, нечем было платить хозяину. И были такие ночи, когда он, с тощим чемоданом, набитым нотами и бельем, бродил без ночлега по Питеру. Чемодан, одна крышка порвана, с отставшей папкой, хлопал его по ногам. Спьяна он терял по улицам ноты и чулки, ком смятых рубах и обрывок ковра с персианкой и лютней, – точно терял свою последнюю земную оболочку.
В одну холодную ночь он сидел с чемоданом до рассвета на слепом льве, что с поднятой лапой стоит у Главного штаба.
Он сидел верхом на мраморном льве, скрестивши руки. Нетрезвый, он то дремал, покачиваясь, то просыпался и, дрожа от холода, слушал удивленно и покорно страшную немоту неба и земли и в звуке немоты искал ту мелодию Анны, какую услышал однажды.
Тогда он смутно думал, что это его распятие. Холодное распятие на камне, и так и надо, чтобы был он распят, если не сошла с земли тьма, смерть, грех, и не преображен мир.
Потом его отыскивали, устраивали ночлег, квартиру, снова службу в контроле, приносили в подарок сюртук или шубу с чужого плеча, перепадало несколько кредиток от покровителей, хотя бы от Тертия Ивановича Филиппова или того же Бесселя, и Мусоргский на время поселялся опять либо на Пантелеймоновской, либо на Обводном канале, в том же запущенном доходном доме с проходными дворами, где жил двадцать лет назад молодым Преображенским офицером.
Может быть, все было бы по-иному, если бы прапорщик гвардейский поселился тогда, как полагается, в казенной квартире, в казармах на Кирочной. Но там шел ремонт, и в бедном доме на Обводном пронеслось четыре-пять недель жизни Мусоргского, переменивших все.
Когда он сказался в батальоне больным, ротный командир посылал к нему офицеров и, может быть, приходил к Мусоргскому тот самый поручик с карими глазами (к нему так шла красная грудь Преображенского мундира), кто так любил варламовский романс «Когда еще я не пил слез из чаши бытия». Но на двери желтела записка «Нет дома», и поручик ушел так же, как лекарь Бородин.
Так и писарь, посланный из батальона с прошением, написанным на высочайшее имя по всей форме, не отыскал Мусоргского, и прошение было подано позже. Как могло случиться, что этот изящный и приветливый барич, гвардейский щеголь, увлеченный с легкой небрежностью какой-то там музыкой, живой и милый умница, как его называли в полку, переменился внезапно?
Но так случилось. И началось это именно в те две-три недели, когда Мусоргский, забывши и гвардию, и барство, и самого себя со всей своей жизнью, точно одержимый, со светящимися глазами, стал бродить по дрянным питерским трактирам, разыскивая кого-то.
Никто и не знал о несчастной арфянке Анне. Никто и не узнает, какую ее мелодию услышал он однажды в питерскую метель, – если только не перелился в чем-нибудь ее неведомый звук в песню Марфы.
Но он услышал небесную мелодию и отдал за нее себя и всю свою жизнь.
Теперь, через двадцать лет, никто и не вспомнил бы того худенького офицерика в этом раздраженном, грузном человеке, погрязшем в страсти к вину и в ночной кабатчине, с толпой ее актеришек, мелких журнальных писак, попрошаек и пьянчужек, охотников напиться на дармовщинку. В этом мнительном, обидчивом и вместе очень кротком и несчастном человеке, легко готовом проливать обильные пьяные слезы за столом, залитым дешевыми винами, никто не узнал бы того молодого человека со светящимися глазами, каким был Мусоргский двадцать лет назад.
Но это было то же существо, та же душа, тот же Мусоргский.
Только жизнь его как бы остановилась в то утро, когда в петербургской газете ему попалась на глаза заметка о неизвестной утопленнице: «Приметы: волосы темно-рыжие, юбка простая, синяя, грудь повязана старым оренбургским платком», – в то утро, когда он в мертвецкой Марии Магдалины увидел Анну.
Тогда остановилась жизнь его, иссякло время.
Года через два или три он как будто забыл Анну, точно и не было ее, но больше не замечал, как живет и к чему живет. А легче всего было жить в теплой смуте, в забвении вина, по кабакам и в облюбованном «Малом Ярославце».
С опухшими, точно налитыми руками, в заношенной визитке, залитой давнишними соусами, с воспаленным лицом, всклокоченный, с галстуком, выбивавшимся на нечистый бархатный жилет, он кричал хрипло, пьяно какому-нибудь актеришке, истасканному кабацкому подхалиму:
– Творить надо, не пьянствовать, творить…
И тут же, совершенно по-детски, с наивной завистью выкатывал серые глаза на чей-нибудь щегольской жилет и перебивал себя:
– А чем вы выводите пятна? Я, знаете, зеленым мылом, не помогает…
Актеру или забежавшему в «Малый Ярославец» вертлявому, как легавая, газетчику или присевшему за его стол музыканту, выходящему в люди, разглядывающему со скрытым трезвым презрением этого странного, раздраженного чудака, кто мог бы быть хорошим музыкантом, а опустился вконец, – Мусоргский с пылающим лицом яро что-то доказывал или горько жаловался, и плакал навзрыд детскими слезами, и пьяно пророчествовал:
– Погублена будет русская музыка… Надолго заглушат наши всходы…
И вдруг, бессильно стуча по столу кулаком, страшно вращая белками глаз, потрескивавшими, как у лошади, в красных жилках, он проклинал тяжелой бранью свору бездарных музыкантишек, капельмейстеров, пустых концертных брянчалок, критиков, чиновников, мундирщиков.
– Фельдцейхмейстер! – кричал он дико. – Генерал-фельдцейхмейстер! А что значит, никому не понять… Чертовщина петровская… И хотите, чтобы простой солдат, простой мужик ее понял, да еще полюбил… Врешь! Россия-де с Петра ушла вперед… Врешь!.. Никуда не ушла, еще горше во тьме. Ослепили Европами, империю состряпали… Империю… Да народ плевать хотел на барскую затею… Империя!
Мусоргского успокаивали, шикали, боялись скандала, полиции, и потому именно, что его удерживали, он кричал еще свирепее, с трясущейся мокрой бородой, смахивая руками бутылки:
– Врешь! Не замолчу… Куда Святую Русь загнали? Попсовали задворками европейскими… В чем гений народа, вдохновение? Никто больше не знает… Где Святая Русь… А, пугало петровское… Ужо, всех нас народ предаст, за самое первое, что станет ему понятнее, ближе, чем ваш фельдцейх, фельдцейх…
А то, вращая глазами в полопавшихся жилках, рассказывал с презрительной усмешкой, как какой-нибудь высокий покровитель выпрашивал у него музыку:
– Он у меня «Хованщину» за двадцать пять целковых выклянчил… Я ему бросил ее: на, подлец, жри… А он в парадном фраке, со звездой, превосходительство, у меня в ногах, в ногах, на коленках ползал, собирал листки… Потом, ничего, почистил превосходительские штаны: «И чего вы, любезный Модест Петрович, шумите», – двадцать пять целковых отвалил…
Может быть, так было, может быть, нет, но он с жадным удовлетворением, точно хвастаясь, повторял: «Двадцать пять целковых отвалил».
Но чаще, и целыми месяцами, он сидел в «Малом Ярославце», тихий, рассеянный, как бы погасший. Тогда было заметно, как ему все равно на случайных собутыльников, и на то, что он сам кричал намедни об искусстве, музыке, России.
Потягивая вино в своем углу у лестницы, он затихал, потому что ему надоедало представляться.
Ему казалось, что уже много лет он представляется с людьми, это так и надо, – представляться, – о чем-то с виду горячиться, что-то защищать, о чем-то спорить, хотя в глубине все – пустой вздор, и все равно, ничего не разрешивши, ни в чем не согласившись, все ухнут куда-то вместе в черную прорву, называемую смертью (в этом слове он слышал два слова: сумрак и мера). Все на свете шумят, теснятся, рвут, когда доведется, друг другу глотку, будто бы во имя истины, но истины нет ни у кого, и все, что делается на свете, все святое, грешное, прекрасное, омерзительное, делается по одному тому, что в страшной тяготе бытия ищут все забвения, утешения.
А его настоящая жизнь иссякла, когда от него ушла певица Анна. Он об этом не думал, но чувствовал, что его жизни нет больше, именно потому, что нет Анны. Оболочки же своей, погрузневшего, тяжелого тела, противного ему самому, не было жаль вовсе, и он сжигал его на вине, влачил по кабакам и по извозчичьим дворам, где пил водку стаканами, потому что так жить стало легче всего.
Между тем никто не знал и не догадывался о тех давнишних неделях в конце петербургской зимы, когда на его дверях была приколота пожелтевшая записка «Дома нет».
Никто из знакомых и приятелей Мусоргского не подозревал о его быстротечной горькой любви, и все это только петербургское предание, темная легенда о Мусоргском…
Лиза Орфанти, впрочем, знала об его любви.
Уже много лет Елизавета Альбертовна Орфанти жила в Италии. Она так и не вышла замуж, и на слегка поблекшем лице сорокалетней девушки покоился совершенно целомудренный чистый свет. Светлая, спокойная сила как бы исходила особенно от ее лба, ставшего теперь заметнее, покатее, в блеске слоновой кости, точно створка древнего молитвенника.
Лиза и теперь сохранила свежесть и худобу двадцатилетней. В Россию она наезжала очень редко. В семьях подруг, потучневших или почахших, многодетных, она всем была тетей, а когда умерла младшая из англичанок, та, веснушчатая, курившая из озорства испанские пахитосы, Лиза взялась воспитывать двух ее, тоже веснушчатых, бурных и гордых девочек.
В Петербург после смерти отца она вернулась развязаться с делами, наследством и уехать навсегда в Лондон, где жила теперь постоянно.
Ей нравилась гармоническая, умышленная мощь гранитных набережных и казенных колоннад Невской столицы, но не очень она верила этой выровненной в линию мертвой красоте, мертвому фасаду, а от холодного величия у нее было чувство скуки.
В Петербурге, за его фасадами, был для нее живым, настоящим, тревожным, как и двадцать лет назад, один Мусоргский. Она приехала с тайным желанием повидаться с ним.
Орфанти, старая девушка с ее суровой и ясной скромностью, эта полуитальянка, ставшая англичанкой, должна бы была начисто забыть свое девическое увлечение белокурым молодым офицером.
Но она ничего не забыла, ни одного чувства, и как светился снег на канале, когда бежала она со свидания, и как почтовый ящик с двуглавым орлом, под аркой Главного штаба, показался ей крошечным гробом.
Вероятно, так и каждый человек, совершенно немо, сокровенно, скрывая от всех и часто от себя, несет, не забывая, то, что Кто-то выбирает для него из всего шума и суеты жизни, запечатлевает навеки, для иного, нездешнего бытия.
Мусоргский навеки запечатлелся Лизе Орфанти, и в свой приезд в Петербург она без всякого волнения, с чувством ясного покоя, решила пойти к нему, рассказать о своей девичьей любви и хорошо попрощаться навсегда.
Она знала, что Мусоргский пьет, что его жизнь влачится от ночи к ночи в «Малом Ярославце», что он опустился. Жалости к опустившемуся человеку ей не хотелось примешивать к своему неприкосновенному чувству. Только чувство жалости удерживало ее от свидания. Потом она подумала, что Мусоргский, каким бы он ни был теперь, уже сделал, к чему был призван: свое дышащее, прекрасное, вдохновенное, он уже внес в жизнь и тем помог преображению мира.
Тогда она пошла к нему той же дорогой, что двадцать лет перед тем.
Был тихий зимний день. Прелестные легкие следы старой девушки мелькали на снегу, вдоль канала. Лиза почему-то была уверена, что увидит Мусоргского, и то, что они скажут друг другу, будет необыкновенным утешением и оправданием для обоих.
Стали попадаться трактиры, извозчичьи дворы, торговые бани. Из ворот валил теплый пар, почерневший снег был размешан копытами, уличные женщины со смехом выходили из портерных, дребезжа дверями, сапожник в мутно светящемся окне подвала, согнувшись, стучал молотком по подошве. Это был Петербург за фасадом, настоящий, неуютный, грязный, с его снующей неряшливой беднотой.
Орфанти вышла на тихий канал, над которым стоял зимний туман. Барки с дровами, побелевшие от снега, казались ей теми самыми, что и двадцать лет назад, и так же курился морозный пар.
На ее первый звонок никто не отозвался. Решительно и сильно она позвонила второй раз.
Послышались шаркающие, вялые шаги, ключ в замке повертелся с ржавым визгом, и Мусоргский отворил дверь.
Она все же не ждала увидеть его таким. Он был ужасен в своих стоптанных туфлях, в зеленом ватном халате, заношенном до плешин, с выбившейся грязной ватой. Но в его набрякшем, больном лице с выкаченными мутными глазами, желтом, одутловатом, сквозило что-то давнишнее, тонкое и стремительное.
Мусоргский не узнал ее, сказал равнодушно и грубо, оглядывая с неприязнью:
– Чего вам надо, вы не туда попали…
Но по тому, как подняла она сияющие глаза, он узнал Лизу, да она и не изменилась, только потончали черты и еще краше проступала ее целомудренная девичья нетронутость.
Мусоргский отступил. Неверно, не попадая рукой в петли халата, он то запахивал зеленые полы, то поддергивал на животе исподнее белье и отступал, пораженный.
Лиза шла за ним.
Он пятился до самого кабинетика, сел тяжело в кресло. Она окинула взглядом его угол: груды бумаги, пожелтевшие газеты, – все нагромождено, неопрятно.
– Зачем пришли? – сказал, наконец, Мусоргский с раздражением. – Зачем пожаловали? Кого-кого, но вас не мог ждать никак. К чему это посещение? Я думал, вы умерли, вы так же могли бы думать обо мне. Зачем вы, на самом деле, пришли?.. Или вы хотите купить что-нибудь из моих трудов, праведных и неправедных? Тогда пожалуйста. Намедни у меня тоже был любитель музыки, есть такой ценитель, любитель, Тертий такой, Иванович, он у меня за двадцать пять целковых…
– Нет, я ничего не думала покупать.
Лиза почувствовала, к глубокому стыду, что на глазах выступают нечаянные слезы. Она вдохнула сильно, сквозь ноздри, мгновенно подавила слезы, ее лицо стало твердым, покойным, и теперь было заметнее, как она постарела и как сухо отблескивает ее лоб, точно слоновая кость, створка молитвенника.
– Я сама не знаю, зачем, – сказала Лиза с легким акцентом (она давно не говорила по-русски). – Я вас любила, потому и пришла. И теперь люблю, вот почему. Вы мой человек на этом свете. И на том. Вот двадцать лет прошло, и жизнь пройдет, ваша и моя, но покуда жива, мне кажется, тут где-то, во мне, не знаю, как сказать, всегда останется этот свет, чудо, таинство, что я вас любила и люблю.
Лиза улыбнулась, ей стало вдруг легко, точно что-то осветилось в ней, и отошло темное, ее тяготившее.
– Извините, я так внезапно говорю вам это. Простите меня. Отчасти, вероятно, восторженность старой девы, которой дана была Богом такая бесплотная, неразделенная любовь. Отчасти же, вероятно, эгоистическое желание освободиться от чего-то недоговоренного, недосказанного, что легло между нами. Всегда, больше всего, я желала, чтобы вы знали, что я вас любила и люблю. Помните, вы говорили мне за роялью, как странна жизнь, как страшна, о том, что Шуберт ослеп…
– Шуберт, Шуберт, Боже мой, помню, но я же тогда нарочно о Шуберте…
– Не перебивайте меня, прошу. И вот теперь, какой бы вы ни были передо мною, простите, но вино сделало вас ужасным, вы все тот же для меня. И навеки. Вот и все. Вы можете счесть это дурью старой девы, но я очень благодарна вам, что вы выслушали мою стародевическую болтовню. Теперь я могу уйти… Хорошо попрощаться с вами и уйти.
Мусоргский, оперши на руку тяжелую, залохмаченную голову, смотрел на нее. Потом закрыл глаза, и его набухшие веки, в лиловых ветках жил, стали трудно дрожать.
Он плакал беззвучно. Это не были обильные слезы со всхлипываниями, какие нравились ему и какие он мог легко вызывать у себя в кабацких горьких сетованиях, а точно из самой глубины его отделялось что-то, тяжко пробиваясь, роя путаные тропы в колючих терниях, по острым скалам, выскребывая ему душу, и подымалось к набрякшим векам.
– Лизанька, Лизанька, – повторял он.
Орфанти тронула его за плечо халата, в клочьях грязной ваты.
– Но вот это уж незачем, Модест Петрович.
– Лизанька, а она-то, она… Вы что-нибудь знали об Анне?
– Все.
– Она утопилась.
Он поднял большое лицо, обрюзгшее, пожелтевшее, с закрытыми дрожащими веками, из-под которых катились медленные, точно железные, слезы.
Он поднял к ней ужасное лицо ослепшего царя Эдипа и бормотал с беспомощным отчаянием:
– Но почему же, почему же, почему она утопилась? Это я виноват… Она говорила, зачем разбудил ее. Ты мертвеца воскресил, для чего ты мертвеца воскресил… Я виноват, Боже мой, что я сделал.
Он вдруг больно сжал Лизе руку:
– Оглянитесь, смотрите…
Она обернулась и в углу, высоко за собой, увидела черный образ, в трещинах. Краснел каленый ангельский плащ, едва проступал узкий лик.
– Вижу. Образ.
– Серафим.
– Не пугайте меня…
Лиза пыталась высвободить руку, он держал ее крепко:
– Нет, не пугаю. Я понимаю, я с отчаяния богохульствую. Дураки и дуры скажут, что я полюбил потаскуху… Нет: одну мелодию Анны полюбил… Серафим, втоптанный в землю… Господи, прости меня… Да, представлялось, ангелы в раю прикованы к железным арфам. И, может быть, как на земле томится все по небесному, так и в райской гармонии томятся по крови, дыму грешной земли… Как и кто может вкушать райское блаженство, когда здесь, на земле, остался тот же грех, то же проклятие, смерть, тьма… Как?.. И Серафим возжелал уйти из райских селений. И был за то сброшен сюда, осужден сгореть здесь в самых последних терзаниях греха… А я в метели услышал пение… Понес его железное крыло… Я угадал Серафима… Господи… Я стал на дороге Твоего суда… Как Иаков, боролся с Тобою… Но Ты простил Серафима… Анна не утопилась, нет… Она оступилась в потемках, на Невке… Так взял ее к себе Господь. А ее земной крест остался на мне…
Лиза слушала внимательно и удивленно. Ей вспомнилось, как покойная тетка, грозя сухим пальцем, громко, по-немецки, читала как-то Притчи Соломона.
– Вино глумливо, сикера буйна, – сказала Лиза неожиданно для себя и повторила. – Вино глумливо… Все, что вы рассказывали, очень красиво, но простите, во всем что-то жалкое. Это малодушный бред, малодушный бунт. Это кощунство, Модест Петрович…
Мусоргский, уже утихший, посмотрел на нее, как ребенок, кротко и виновато. Он согласился охотно, со слабой усмешкой:
– Я не кощунствовал. Но конечно, бред, я же сам понимаю. Перед вами пьяный фантаст, и только…
Лиза промолчала. Мусоргский поискал на столе скомканный нечистый платок, утер большое лицо:
– Вы, Лиза, всегда были сильнее меня. Конечно, я слабодушный. И ангелы, прикованные к железным арфам, конечно, тоже лепет слабодушия. Но было одно, что разбило меня… Я скажу вам… Странное вдохновение меня осенило, когда пришла Анна. Дуновение огня коснулось. С нею верил, знал, жаждал, что моя музыка будет как новое откровение. Музыка, моя музыка будет началом преображения людей. Понимаете, я верил, что именно я, Модест Мусоргский, отмечен, избран как новая жертва. Чаша мира за всех и за вся. И когда-то мальчишка-офицер был готов отдать себя в жертву за мир, за всех людей… Се – человек… Это тоже бред?
– Нет. А что дальше?
– А дальше… Это уже когда не было Анны… Дальше я понял, что ничего не преобразить, не переменить на земле, куда мне. И, как до меня, так и после меня, все будет валом валить, сплошь, в бессмысленную тьму, в прорву смерти. И не мне открыть, не мне сочетать в одну божественную гармонию мир, разорванный тьмою противоречий. Вот что я понял. И тогда мне стало все равно… Я не вынес земли, вот что.
– Но это же неверно.
– Как неверно? – Мусоргский по-детски удивился. – Нет, Лиза, это верно.
– Простите, Модест Петрович, неверно. Не мне вам говорить, но то, что вами сделано, как бы ни сложилась ваша жизнь, ведь уже сделано… Уже живет, помимо вас, кроме вас. Ваша музыка. Неужели же вам объяснять, что ваша музыка переменила что-то в нашем мире или, как вы говорите, преобразила нас. Поймите сами, Модест Петрович.
Мусоргский пошевелил пальцами, сжимая платок:
– Вы пришли меня утешать, Лиза?
– Ничуть. Не утешать, не жалеть. Это ни к чему. Но разве это не так, разве вы не победили вашей музыкой…
– Победил! Что я победил? Ничего… А смерть?
Сильный свет блеснул в его мутных глазах, большое лицо напряглось, он поднялся, всклокоченный, страшный, в халате, сбившемся горбом на спине, закричал с яростью:
– А смерть? Смерть, безносая, бездарная дура, все сотрет, все смоет… Ни звука, ни памяти о нас. Ничего.
Он забыл о Лизе и не ей кричал, а кому-то, кто вечно раздирал его неумолкаемой распрей:
– Все прах! Смерть, бездарная дура, всех сильнее! Врешь, не всех! Врешь!..
Как чудовищная жаба, он прыгнул со стула, показав под зеленым халатом нечистое исподнее белье, навалился грузным телом на пианино, ударил резко, нестройно, по клавишам.
– Врешь, ага!.. А это? Врешь, это останется… Звук наш останется, звук, слово бесплотное, звук нашей любви, отрады, горя, страдания, искания, утешения… Звук, звук…
Он припал головой к пианино и, тяжело дыша, повторял: «Утешение, звук». Потом вспрянул, кинулся к столу.
Дрожащими руками стал собирать пожелтевшие листки, ночные записки, одни – прожженные брошенной спичкой, другие – измятые, в темных кругах от поставленного стакана вина. Как скупец, рылся в бумагах скорченными пальцами:
– Ага, – жадно и страшно дышал он, прижимаясь щекой к измятой груде, комкая, тиская ее. – Ага, врешь… Не все исчезнет, нет, врешь… Нет… Жизнь всегда истина, как бы горька она ни была… И тут есть жизнь, есть кой в чем мелодия посильнее смерти… Все раскрывающая, все умиротворяющая песня Твоя… Господи, помилуй мя, грешного… Мелодия Твоя – звук…
Лиза поняла, что все, что он говорит, верно, прекрасно, но поняла она также, что этот обрюзгший от вина, изнемогающий, тяжко дышащий человек болен смертельно.
– Успокойтесь, – тихо сказала она, кладя руку ему на плечо. – Так все и есть, как вы сказали. Все верно. Успокойтесь же…
Он взял ее руку в обе, прижался горячим лицом, совершенно по-детски:
– Лизанька, я спокоен, Лизанька. Кто вы, почему пришли утешать меня, чистейшая тишина, последнее успокоение?.. Кто вы такая, Лиза Орфанти?.. Чудно сказать, но никогда я не забывал вас. И точно вы и Анна – одно… Только двоитесь: одна земная, другая небесная… Но мелодия одна.
– Полно, что скажете.
– Вы всегда были недосягаемой для меня, потому я и не верил в мою любовь… Мне было назначено другое, вот с таким, как видите, концом: опустившийся человек, сгоревшее от вина несчастное отребье… Анна – мой крест… Я всегда шел под моим крестом, и вся моя музыка была об одном: о человеке без имени, с его горем, отрадой, страданием… Но я нес мой крест к одной вам, недосягаемой, чистейшей… Лиза Орфанти?.. Нет, – Святая Елизавета…
– Это как средневековая мистерия о человеке, – прелестно улыбнулась Лиза, скрывая смущение.
– Конечно. Все мистерия… Каждый человек повторяет Его Распятие. И может быть, мы еще встретимся там, если только то есть, – там, где совершенная гармония, где разбойник, просивший помянуть его… Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
– Так будет.
– Постойте, – оживился Мусоргский, прикладывая палец к губам. – Постойте, а какой номер башмаков вы носите?
Лиза смутилась от внезапного вопроса, чуть покраснел лоб, сборка старинного молитвенника:
– Тридцать пять, а что?
– А вот, вот…
Похожий в халате на неуклюжую жабу, он прыгнул к дивану, нагнулся, вытащил коробку с башмаками, какую всегда берег в своем тощем чемодане, сдунул пыль и подал Лизе старомодный башмак, кожа от давности в трещинах, верх вырезан сердцем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































