Текст книги "Бедная любовь Мусоргского"
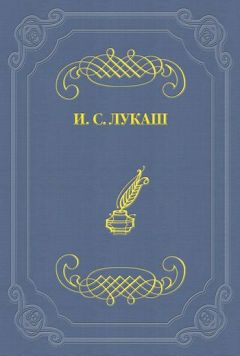
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Серафим
– Ну давай заверну тебя как следует в твой знаменитый оренбургский платок, напяливай прославленную шляпку, и айда бакхалым…
– Бакхалым?
– По-турецки – скорее. Поедем в Гостиный. У тебя даже рубашек сносных нет, такая, извини, рвань…
Анна в последние дни дичилась его, но в Гостиный двор собралась охотно.
Там ее вдруг охватил бес скопидомничества. Она никак не хотела заходить в большие купеческие лавки, освещенные газом, точно стеснялась показаться с ним на люди, на яркий свет, и больше всего страшило ее, чтобы он не потратил лишнюю копейку.
А в темноватых и тесных лавчонках дамских нарядов, белья, гаруса, мишуры, куда она привела его на верхние галереи Гостиного двора, на какие-то Перинные и Пуховые линии, она торговалась с приказчиками за каждый гривенник.
Мусоргского ее скаредность смешила.
В лавчонках ему нравился запах сукна, драпа и скромный уют. Под медной лампой у тусклого зеркала, в закутке за коленкоровой занавеской Мусоргский помогал пожилому приказчику, вежливому, слегка простуженному человеку, с насморком, измерять Анну сантиметром с головы до ног, грудь и бедра.
Он купил ей темный жакет с пуфами, меховую темную шапочку, муфту, полдюжины сорочек из мадаполама (он впервые услышал такое название) и черные длинные чулки, будто парижского шелка.
В жакетке с пуфами и в меховой шапочке Анна с ее бледным и остроносым лицом стала похожа на скромную молодую вдову. Она еще выбрала вуальку с бархатными мушками. Вуалька, до половины оттенявшая лицо, чудно как-то шла к ней. С покупками он привез красного вина, мятных пряников, фисташек, закусок из гастрономической лавки и папирос для Анны. Оба были довольны, оба свежо раскраснелись от мороза.
Дома Анна долго не желала снимать новый жакет, так ей нравился. Она изящно и гибко поворачивалась, чтобы заглянуть на себя со спины в круглое старое зеркало, перед которым Мусоргский по утрам брился.
Мусоргский бесшумно ходил по комнате в татарских сапожках.
Он попробовал закурить, закашлялся, на ходу отпивал по глотку из стакана и много говорил. Он чувствовал благодарное удовольствие, что Анне так нравились его бедные подарки. Ему было весело, весь свет казался теплым, веселым, милым, как стакан красного вина.
– Ты должна понять, я хочу, чтобы ты поняла, – говорил он. – Понимаешь, мир, небо, земля – все звучит таинственными, прекрасными голосами. Боже мой, как прекрасно звучит… Понимаешь, каждый звук, каждая нота что-то значит. Если бы я мог передать понятно, на человеческом языке, о чем именно поют в согласии наши души, тогда открылось бы таинство самой жизни: Небо открылось бы людям, и мы могли бы понять и говорить с Богом. Это музыка, понимаешь…
– Я одно понимаю, ты веселый сегодня, – обернулась она от зеркала и снова, наивно любуясь собою, стала прикалывать сзади шапочки вуальку. Он подошел к ней, порывисто повернул за плечи и поцеловал в лоб. Аня неожиданно покраснела, как девочка.
Ему надо было ехать в батальон на вечернее дежурство. Она подала ему шинель в прихожей, помогла завязать шарф.
– Ты смотри, скорей приезжай. А не то заскучаю, сбегу… И как-то застенчиво, немного по-козьи, как не делала никогда раньше, пободала его головой в грудь.
После их поездки в Гостиный двор Анна, одна, громко пела, свистела. Теперь она охотно убирала комнаты (ей теперь нравилось, чтобы было чисто), стирала на кухне в бадье свои сорочки, его рубахи и носки. Ей все это нравилось, как не очень трудная и приятная домашняя игра.
Однажды в полдень, когда она была одна, кто-то легко позвонил у дверей. Анна отерла о передник руки, покрасневшие от стирки, мыльная пена осталась на локтях, пошла отворять. Она думала – почтальон.
Перед ней стояла молодая девушка, из богатых, в коричневом бархатном салопчике, с горностаевой муфтой. Мгновение они изумленно, молча смотрели друг на друга.
Лиза Орфанти накануне отъезда в Италию решила еще раз пойти к Мусоргскому. Она понимала, что не надо так делать, но не совладела с собой, поддалась щемящей тонкой боли, пошла проститься перед долгим путешествием.
«Чудная какая девушка», – подумала Анна с тревогой и стеснением, утирая пальцы о юбку и отвязывая сзади тесемку передника.
– Вы к Модесту Петровичу? – смущенно сказала она.
Лиза узнала молодую рыжеволосую женщину, побледнела и, чувствуя, что бледнеет, мановением руки накинула на лицо вуаль. Своей чистотой, целомудренным чутьем, по счастливому и наивному свету глаз этой женщины, Лиза поняла все и от всего мгновенно отреклась.
– Я… Нет… Здесь живет господин Петров?
Лгать Лизе было мучительно. Анна поняла, что девушка лжет, что пришла она к Мусоргскому.
– Петров? Нет тут Петрова.
– Тогда извините меня…
Лиза быстро стала спускаться по лестнице, не оглядываясь, и самое мучительное, – стыдное, – было в том, что рыжеволосая женщина, перегибаясь через перила, смотрит ей вслед.
Анна бросила ком мокрого белья, не вытерла на полу пролитой воды. В полуотвязанном переднике она начала ходить по комнатам. Так и застал ее Мусоргский.
– У тебя была невеста, – сказала она еще в прихожей.
– Какая невеста?
– Твоя… Какая хорошая девушка.
– Нос немного с горбинкой, темные волосы? – догадался Мусоргский, и сердце упало.
– Как ее звать?
– Лиза.
– Как же ты мог, как тебе не стыдно было с такой, как я, путаться… Зачем вы это сделали, Модест Петрович?
Она и теперь была с ним то на «ты», то на «вы»:
– Стыдно вам, когда могли такую девушку, как она, обидеть… И с кем? С тварью эдакой, как я… Ну, я уйду, а как же вам-то теперь сказать ей, что скажете… Ведь она все поняла, она как же простит вас?..
– Постой… Верно, я думал, что Лиза – моя невеста… Но, как тебе сказать: Лиза не из моей жизни. У каждого есть своя жизнь, свое странствие. Не Лизе идти в моем странствии… Да, постой… Ну что ты плачешь?.. Ты ничего не тронула, ничего не разрушила… С Лизой Орфанти я сам все разрушил… Я чувствовал, не шевелится моя мертвая любовь… Ты, Анна, моя жизнь, какая есть, мне все равно, но ты настоящая моя жизнь… Ничего не бойся… Не мучайся, не стыдись… Забудь, какая была… Это не ты была… Поверь, все хорошо будет. Ты только посмотри, как я теперь работаю. Верь, знай, у тебя все переменится со мной. Я тебя никому не отдам. Я стану большим музыкантом. Потому что у меня с тобой никакой неправды нет. Может быть, с тобой я самым великим музыкантом стану, какой только был на земле. Я открою в музыке то, что слышу кругом, что услышал в тебе. Таинственный язык жизни, смерти, голоса неба и земли. И тогда всем станет понятно, что такое жизнь, смерть, Бог. Тогда переменятся люди, земля. Все.
Он откинул назад белокурые волосы. Его лицо светилось восторгом. Анна слушала растерянно. Теперь она понимала его.
– Ничего не бойся… Верь, жизнь станет и для тебя чистым таинством. Подумай, ведь нам обоим едва ли сорок, ты все забудешь, что с тобой было. Все… Ты станешь моей женой, понимаешь, по-настоящему.
Прелестная улыбка осветила некрасивое лицо Мусоргского. Учтиво, немного по-театральному, он поклонился ей и сказал весело:
– Нездешняя английская госпожа Анна Манфред, прошу вас оказать честь стать моей женой.
Она поняла, что он не шутит, заметалась, растерянная, кинулась от него прочь. Она спряталась в угол, за пианино. С зажмуренными глазами, сваливая пыльные кипы газет, нот, спасаясь, как загнанная дикая кошка, она забивалась в угол все глубже, в темень, в пыль, не зная куда.
Мусоргский пробрался к ней, с грохотом обрушил пыльную рухлядь, и они сидели оба среди внезапных развалин, на полу, как дети.
– Дурочка, дурочка, как забилась, – с радостным страхом смеялся Мусоргский. Анна спрятала ему голову на плечо, вдруг судорожно, горячо зарыдала: он поддерживал ее худое тело, чувствуя позвонки под рукой.
– Плачь, ничего, я сам плачу… Мы навсегда друзья на этом свете, даю тебе мое честное слово.
И рукавом вишневой косоворотки утирал ей лицо.
– Пылища какая, фу, пропасть, вся в разводах, прямо негр… Еще плача, разгоряченная, ослабевшая, она рассмеялась.
Чтобы еще больше рассмешить ее, он надел на голову пехотный кивер, проломленное кожаное ведро с Бородинского поля, когда-то приглянувшееся на толкучке, от пыли чихнул, уронил со звоном железный палаш, екатерининскую саблю, тоже с толкучки.
– Вот возьму и зарублю тебя саблей! – плача и смеясь, кричала Анна.
Внезапно она сунула обе ноги в его пыльный офицерский сапог, валявшийся тут же, лихорадочно опоясалась драгунской саблей и, гремя и путаясь, смешно запрыгала из угла в одном сапоге, как птица со связанными крыльями. Она кричала с сияющими глазами счастливо:
– Здравия желаю, ваше благородие!
И стучала о пол то палашом, то черешневой трубкой. Он вдруг решил, что это цирк, а он клоун. В дурацком колпаке из газетной бумаги, с нестройной гитарой, он прыгал за нею, диким голосом пел, нелепо, по-итальянски:
– О, мама миа, миа, кара…
Потом они устали, и оба мылись на кухне под краном. Анна совершенно заигралась, визжала от холодной воды.
Когда она, как дикая кошка, забилась в ужасе в угол и потом, тоже как кошка, разыгралась, в ней проснулось со всей чистотой то, что должно было быть затоптано в ней бесследно. Точно свернулось время, как свиток, или еще не было ее жизни, и вот она начинается снова, как в ее детской игре к тряпичной безглазой куклой.
Анна все забыла, всему поверила и отдалась чистому свету, вдруг осенившему ее изнутри. Точно с чистой игрою пробудились в ней все чистые матери, бывшие в ней до нее, и сама Пречистая Матерь-Дева.
Ночью шел дождь, но они решили выйти на прогулку. Было начало марта. В Петербурге после оттепели уже настала, казалось, необыкновенно ранняя весна. Снег сошел с мостовых.
Небо над Невой было сырое, светло-зеленое. Это было обманчивое время. Нева еще не тронулась, стыла в громаде льда, окутанная туманом.
Они пошли под тонким дождем на Аптекарский остров. Там уже пахло землей. На дорожках по-весеннему скользила глина. Он накрыл Анну шинелью. Дождь утих, и они сидели на скамье над Невою, смотрели, как занимается заря. На мокрой скамье были от зари румяные, влажные отблески. Так, накрывши шинелью, он вел ее и домой. Зеленоватая тишина рассвета звучала огромно и ясно.
Дома она стала готовить чай, а он, как был в серой шинели, сел за стол. На Аптекарском острове, когда занималась заря, он услышал всю сцену коронования для своей симфонии в образах, о душе царя Бориса, какую напишет теперь без сомнения. Он понял движение всей сцены с фригийскими ладами хоров.
Анна принесла горячий чай, села перед ним на стол:
– Правда, Модест Петрович, я могу служить тебе хорошо?
Она точно стыдилась называть его на «ты» и, если так говорила, всегда добавляла с каким-то детским уважением его имя и отчество.
– Я буду за тобой заместо прислуги ходить.
– Хорошо, ходи, только теперь пойди спать. Мне очень хорошо работается.
Она послушно отошла, что-то скромное и послушное, слегка недоумевающее, было теперь в ней. Она кажется всерьез решила стать его горничной.
С радостной охотой она отдалась домашним чувствам. Оказалось, она любит штопать. Все его пуговицы были крепко пришиты, все носки пересмотрены и рубахи заплатаны. Проснулась ли, правда, в ней капля крови щепетильных англичанок, но она стала до строгости следить за чистотой. Из-за опрятности она была требовательна неумолимо: бумажки теперь нельзя было бросить на пол.
С утра выколачивала она коврик, пледы, потом бегала в лавки, стряпала, легко напевая. Мусоргский очень любил ее в такие минуты и боялся спугнуть в ней что-то.
Раз он застал ее в прихожей. Дочь прачки, девочка лет шести, принесла снизу корзину с бельем. Анна посадила девочку на колени и слушала, как та, совершенно серьезно и строго, слегка поблескивая карими глазами, рассказывала сказку о колобке:
– Колобок, колобок, покатись колобок, – говорила девочка, вполне веря тому, что рассказывает, и от желания рассказать как можно точнее шевелила пальчиками озябших рук и покачивала ножкой.
Мусоргский заметил, что башмаки у девочки грубые, такие же, как у Анны, только крошечные, сиротские.
– Но ты послушай, Модя, как она чудно говорит, – улыбнулась Анна, прижимая девочку к себе.
Мусоргский тоже послушал старательный рассказ о коробке.
Потом, когда маленькая прачка ушла, Анна, отвернувшись к окну, заплакала тихо, стыдливо.
Мусоргский не утешал ее. Он страшился спугнуть, рассеять застенчивый свет, наполнивший ее. Он стал говорить о своей работе, как удачно идут Кромы. Он рассказал, что такое Кромы, и кто царь Борис, и кто несчастный царевич Феодор с царевной Ксенией, и Самозванец, и убиенный отрок, царевич Димитрий. Она перестала плакать, слушала его внимательно. В дни такого осторожного пробуждения Анны Манфред на дверях квартиры Мусоргского всегда была приколота записка: «Дома нет». Листок уже начал желтеть.
Военный лекарь Бородин с озябшими синими глазами как-то поднялся наверх к Мусоргскому. Он хотел рассказать ему, что задумал целую музыкальную поэму, тоже в образах, столкновение сжигающей Азии и кроткой Руси, что-то о князе Игоре. Бородин прочел на дверях записку, постоял, потирая маленькие руки, и, посвистывая, стал спускаться по темной лестнице. Ушел.
После домашней суеты Анна сидела обычно на соломенном стуле в прихожей (у нее был такой теплый угол, около печки), как бы дремала с открытыми глазами, скрестивши руки, вернее, охвативши пальцами худые острые локти и слегка покачиваясь. Ее тонкое лицо становилось тогда, как у сомнамбулы, следящей за сокровенным видением. Строгая сухость проступала на ее лице, а глаза светились печально.
Это случилось в конце марта, когда снова стали морозы с пронзительным ветром.
Мусоргский решил сделать Анне сюрприз, поехать к венскому башмачнику Вейссу на Невский, выбрать для нее самые лучшие башмаки. Он уже приглядел одни, на каблучках, на двенадцати пуговках, верхи по новой венской моде вырезаны продолговатыми сердцами.
– Ты уходишь? – очнулась Анна от задумчивости.
– Я тебе хочу принести кое-что.
– Слушай, а ты все думаешь, я стану твоей женой?
– Да, почему ты об этом?
– Потому… Потому… Никогда я не стану твоей женой. Ее волосы были слегка растрепаны, глаза светились магнетически. Когда Анна задумывалась, она точно старела, как у больной, желтело худое лицо, и было видно, что ее лоб в тончайших морщинках, точно не годы, а века провели, запутали на нем неисчислимые нити.
– И зачем ты все это мне говорил?
Ему стало тревожно не от ее слов, а от того, как она внезапно стареет, когда задумывается, будто ее гложет глубокое, потаенное горе.
– Ладно, там посмотрим, будешь или не будешь. После поговорим… А теперь пойдем.
– Куда?
– Ну так, на Невский. Кажется, сегодня праздник.
– Никуда я не пойду. Поди один, пожалуйста.
– Как хочешь… Хочешь, халвы принесу твоей любимой, с фисташками.
– Принеси…
– И еще что-то, ладно?
Анна не отозвалась. Скромно подобравшись на соломенном стуле, она точно заметила нечто сокровенное перед собой, стала смотреть пристально. Мусоргский ушел.
Часа через два он был дома. Коробку венского сапожника в голубоватой бумаге, холодно пахнущую кожей, он прятал под шинелью.
Анна не вышла в прихожую. Его удивил запах вина сквозь табачный дым, чего не бывало уже давно. Коробку с новыми башмаками он сунул под кухонный стол и прошел в комнаты.
Пронзающий мартовский ветер разогнал над Петербургом снеговые облака и, когда Мусоргский вернулся, засветились сквозь теснины туч куски ледяного синего неба.
Анна в неряшливо выбившейся кофточке, с папиросой, ходила по его кабинету. Ему хорошо были известны такие неряшливые блуждания. Анна была нетрезва. На столе бутылки пива, вино, разбросаны окурки.
За тот час, покуда его не было, она точно решила его поразить превращением в прежнюю трактирную певицу.
– Что случилось, Анна? – с болью сказал он, подходя.
– Со мной ничего. Какая была, такая и есть… А вот с вами что? Бросили бы барскую затею со мной, чего обманывать.
– В чем я тебя обманул?
– Какая я вам жена, что врали?.. Все врали… Я потаскуха улишная. Вот кто. Была и буду потаскухой. Вот. Чего с меня взять хотите, представляетесь, не видите, что ли, с кем спутались?
Он взял ее за руки:
– Перестань.
– Не троньте меня, не троньте! – закричала она жалобно. – Будет вам, за игрушку меня взяли, жену вашу разыгрывать, невесту без места.
– Да, Аня. Ты моя невеста.
– Молчи! – она оттолкнула его, зубы прискалились. – Молчи, какая я невеста…
С тонким, жалобным криком она рванула на висках волосы.
– Я кошка, кошка…
– Да постой ты, перестань…
Он успокаивал ее самыми простыми словами, кроткими человеческими полузвуками, какими успокаивают детей отцы или матери, сами испуганные.
– Мне самой, мне самой себя страшно, – пробормотала Анна, припадая к нему всем худым телом, и вдруг ее глаза блеснули желтоватым необыкновенным огнем, от ужаса она по-детски зажала рот рукой.
Она что-то увидела за его головой, потрясшее ее мгновенно, вцепилась ему в плечи.
Он медленно стал оглядываться.
Высоко в углу за собой он увидел огромную раскольничью икону, давно забытую, перед которой молился иногда ночью, торопливо.
Солнце осветило образ, и Мусоргский впервые увидел на нем высокого ангела с копьем в каленом красном плаще, в синих латах, в плетеных красных сандалиях, с осыпанной олифой. Ангельский лик был освещен сильно, желто, и Мусоргский узнал этот узкий лик с громадными, близко поставленными очами, узнал эти красноватые короткие волосы, откинутые назад под ударом незримой бури. Страшное сходство с Анной заставило его содрогнуться.
– Господи, что такое.
Анна царапала, хватала его за плечи, рукава:
– У-у, ангел Божий, у-у, просветлел…
– Ты сходишь с ума, – пришел, наконец, в себя Мусоргский. – Это солнце осветило Серафима.
– Серафим, – забормотала Анна, изнемогая. – Серафим…
Он понес ее на руках к дивану. Ее лицо побелело. Она была в обмороке. Он прыскал на нее водой, расстегивая кофточку, ее омоченная шея была совершенно детской, жалкая, нежная.
Лицо заострилось в торжественной неземной чистоте. Он с тайным страхом снова заметил сходство ее с Серафимом.
Анна пришла в себя, тихо приподнялась на локте, оправила кофточку на груди, и в том, как она худыми пальцами поправляет кофточку и как красноватые волосы сбились прядями, была невыносимая усталость:
– Испугала тебя?
– Вот, выпей воды.
Она отпила из стакана, легла снова:
– Ослабела я… Ты мне ноги… Ноги, пожалуйста, прикрой… Ледяные совсем… Вот так… Спасибо тебе… Ты хороший… Я знаю, ты очень хороший, Модя. Только зачем ты мне такое все говорил, – пустое, – чему никогда не бывать? И зачем надо было тебе тащить меня в свою жизнь? Теперь как же мне вернуться? Туда-то как же вернуться, назад?.. Подумай сам.
– Никуда ты не вернешься.
– Я как спала на этом свете… Снился тошный сон, что я потаскуха, потаскухой и умерла бы. А ты взял и среди жизни моей меня разбудил. Я проснулась… Душа моя истасканная, несчастная. Душа моя околевшая, издохшая. Разве я живая? Живого местечка во мне нет. Я мертвая, смерть холодная, мертвая.
Она закрыла лицо руками, на них выбились пряди красноватых волос.
– Верь в чудо, Анна… Мы оба слышим небесные голоса… Мы с тобой в другие города уйдем, где никто и не знает, кто мы такие… Я стану на весь мир знаменитым… Мы в Англию уедем… Хорошо, поедем в Англию.
Он говорил, сам не зная что, чтобы утешить ее.
– Какая Англия… И что ты, Модя, как мальчуган… Ты очень хороший… Только сердце у тебя очень мягкое, как воск. Ты слабый. Очень ты слабый человек. Ты не пей вина… Смотри, сгоришь… Это я тебя, подлюга, к вину приучила. Никогда не верь вину, слышишь, сожжет. Тяжело тебе без меня будет…
– Почему без тебя? Ты всегда будешь со мной.
– Да, да, всегда, – она слабо улыбнулась. – Бедный ты, дай я головушку твою приласкаю.
Ледяной рукой она стала гладить ему волосы.
– Я все думала, виноват ты передо мной. Зачем меня от жизни моей пробудил… Нет, ты ни в чем не виноват. Это я сама к тебе пришла. Все тянуло к тебе, звало: «Иди, иди». Вот и пришла за моею судьбой. Ты как хорошо говорил про мое пение. Это тебе показалось в непогоду, что так хорошо. А вот если бы могла спеть, как послышалось тебе, я бы за то всю душу мою отдала.
– Но, Аня…
– Да нет, не спорь. Я знаю… Ты молчи… Носишься из-за меня, покупаешь, заботишься… Думаешь, не знаю, как ты устал со мною. Ну отдохни. Положи голову вот сюда, на грудь… Ты как ребенок, Модя. Тебе еще жить, жить надо.
Она стала покачивать его голову. Она попробовала запеть, передохнула слегка, запела полнее, и в том, что пела она, не было слов. Так матери укачивают детей. В тонкой, печальной и светлой мелодии были только бессловесные переливы материнского баюкания.
Мусоргский затаился, чтобы не тревожить ее, утешенный ее отдохновением, успокоением, теплотой.
Потом он с изумлением увидел, что его кабинетец полон нестерпимого желтого блеска. Огромный Серафим, красноватые волосы откинуты назад, смотрит на него, не мигая, чудными, грозными очами и поет. Оказывается, не Анна поет, а Серафим. Серафим смотрел на него и пел с сомкнутыми железными устами. И это было так необыкновенно и так страшно, что Мусоргский стал биться и очнулся.
Он очнулся. Образ погас, лик был черен. Все было покойно у него, чисто, бумаги прибраны на столе, еще светится от солнца лоскут синего бархата, нашитый намедни на его старое кресло Анной. Но не было Анны. Он вышел в прихожую. Там, на соломенном стуле, было сложено ее платье, его последний подарок, из дешевого зеленого бархата, уже посекшегося, ее жакет и темная меховая шапочка, делавшая ее похожей на вдову.
Она ушла в своем оренбургском платке, и он понял, что она не вернется, что ушла навсегда.
И это было так нестерпимо, так больно, что он закричал протяжно, с отчаянием, в бессмысленном страхе:
– Анна…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































