Текст книги "Бедная любовь Мусоргского"
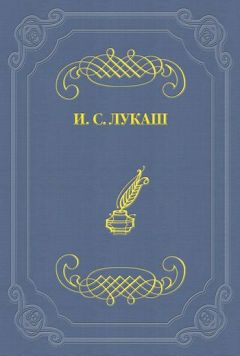
Автор книги: Иван Лукаш
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Торопец
Всего три-четыре недели Мусоргский не был в полку и не виделся со знакомыми, и, как всегда бывает, первые недели никто и не подумал о нем, не справлялся: может быть, он простудился в петербургскую распогодицу и отсиживается дома, а то съехал куда-нибудь с квартиры.
В полку, в батальоне, на Кирочной, после полкового учения на обширном плацу, от чего все устали и были раздраженны друг на друга из-за пыли, ненужного крика, лишней суеты (батальон готовился к майскому параду на Марсовом поле), адъютант сказал за завтраком о рапорте Мусоргского.
Рапорт об отставке на желтоватой грубой бумаге, едва ли не из мелочной лавки, был написан не по форме и больше походил на бессвязное письмо, а кусок бумаги в углу заметно прожжен папиросой.
– Вот чудак, – сказал адъютант. – Хотя бы по форме написал. С ним что-то стряслось…
Тогда кто-то вспомнил, как Мусоргский терялся в строю. Он чувствовал себя среди гвардейских солдат, точно среди громадных лошадей на конюшне.
Адъютант с рыхлой, немного бабьей грудью, на которой дрожал аксельбант, добрый человек, испортивший себе сердце черными сигарами и тем, что старался ладить с начальством, рассказал, как батальонный командир уже давно решил необидно сплавить Мусоргского из полка. Было такое место, куда переводили из гвардии не в меру неловких офицеров, – Царская Славянка, – откуда те могли мирно перебраться в глубину пехоты, на вечное штабс-капитанство.
Поручик с блестящими карими глазами, – к нему очень шла красная грудь Преображенского мундира, – вспомнил, как Мусоргский садился в собрании за рояль. Вероятно, не было ничего особенного ни в его игре, ни в пении, но поручика трогало сладко, когда Мусоргский немного сиплым задумчивым баритоном пел варламовский романс «Когда еще я не пил слез из чаши бытия».
– Помните, – сказал поручик, – «Зачем тогда в венке из роз…»
– «К теням не отбыл я», – докончил за него адъютант и, позвеневши аксельбантом, потянулся к соусу. – Он, право, был славный парень, Мусоргский. Только, как бы сказать, тень какая-то, чем-то не наш…
За столом заговорили о майском параде. Измайловцы хвастались показать себя преображенцам, солдат у них гоняют страшно, семеновцы тоже будут щеголять, как всегда. На другом конце стола рассмеялись анекдоту, как у всем известного и всеми нелюбимого кавалерийского генерала, сиятельного вздорного крикуна, в самый разгар майского парада нестерпимо, по неотложной нужде, захватило живот. Потом адъютант стал чертить карандашом план, где станет гвардия, где кавалерия, как в этом году пройдут мимо трибун государя. На параде будут иностранные принцессы, кажется, датские или прусские. Все слушали адъютанта и уже видели, как идут, ровно гремя копытами, в громадном блеске кирас и лат, драгуны и кирасиры, и, точно охваченная играющей молнией, враз отдает ногу в церемониальном марше гвардия.
Над офицерским столом был старинный широкий портрет императрицы Екатерины Второй работы какого-то немца. Екатерина верхом на сером в яблоках коне, в зеленом Преображенском мундире и в треуголке с галунами, в мужских лосинах, плотно облегающих полные ноги, как была в день своего шумного восшествия, а за нею, далеко на плацу, косые квадратики марширующих солдат.
Императрица с улыбающимся румяным лицом в ямочках, не то женщина, не то мужчина, какое-то округлое, слащавое и неверное существо, как будто милостиво слушала шум мужских голосов у своих ног.
Под портретом поблескивала свежим лаком парадная горка старинных петровских ядер, может быть, еще с Полтавской баталии.
О Мусоргском больше не говорили. Только поручик с блестящими глазами пробовал напевать рассеянно: – Когда еще я не пил слез…
Адъютант верно сказал о Мусоргском, что тот был «чем-то не наш». Все, кто весело шумел на офицерском собрании, жили вполне в своем времени. Никто и не думал, что может быть какая-нибудь иная жизнь, чем та, какая движется, светит и блещет вокруг. Их страсти, огорчения, досады, иногда ненависть и злоба, иногда тоска и тяжелое недовольство собой и другими, были немудрствующими чувствами, какие никогда не выходили из общего, неразмышляющего чувства своего времени. И все они, молодые, свежие, полные веры в себя и в жизнь, прекрасную и как бы бесконечную, создавали, вовсе не думая о том, тот общий образ эпохи, какой только от них и останется: они начинали светлое и трагическое царствование императора Александра II.
А этот Мусоргский, – то подчеркнутый щеголь, то в неряшливой шинели, – со слегка скуластым, упорным лицом, со стремительными глазами, мелькнувший среди преображенских офицеров, был в чем-то иной, чем все. Точно он был не из того времени, в каком все жили и какое общей силой создавали. Потому он и был чужим. Можно сказать, что неловкий офицер, потолкавшийся в полку и потом исчезнувший, жил в себе, отделенный от всех своей музыкой, или был существом из иного мира, где нет времени, где все вечно. И оттуда принес свою музыку…
Дня через три полковой писарь принес Мусоргскому казенную книгу расписаться. Писарь долго дергал звонок, звеневший пусто и длительно, потом заглянул в поцарапанную замочную скважину.
В дворницкой, свертывая бумажку с махоркой, дворник сказал писарю равнодушно:
– Было бы сюды раньше зайти. Он съехавши, кто его знает куды. Запер квартеру и съехал. За квартеру заплачено…
Мусоргский уехал из Петербурга на другой же день после ухода Анны. Невыносимый страх, что Анна потеряна, не вернется, заставил его куда-то бежать. Искать у кого-то защиты. И в первом порыве совершенно детского отчаяния он поехал к матери в Торопец, под Псков.
Мать, Юлия Ивановна, в кружевных митенках, маленькая, востроносая, с бледно-голубыми глазами, легко красневшими от слез, с бесцветными, гладко зачесанными волосами, ходила, говорила и садилась так, точно хотела занять как можно меньше места на этом свете, поджаться до того, чтобы вовсе ее не было видно и слышно. Такой она стала, вероятно, от тяжелой жизни с покойным мужем, от нелегкой жизни со странным сыном. К ней очень шло ее скромное имя Юлия Ивановна. Одни называли ее безответным существом, другие – пустым местом. Мать давно привыкла ждать от жизни только внезапных ударов, неприятностей, как она называла. Для нее любой день был ожиданием: какой новый темный гром грянет над ее головой, все равно, будь то уплата в банк за заложенную и перезаложенную тульскую деревеньку или как на зиму вставить рамы, удастся ли засолить огурцы или что намудрит опять в Питере Модя.
Юлия Ивановна не удивилась внезапному приезду сына поздно вечером, когда тихий дождь в Торопце шумел, как будто на веки вечные.
Юлия Ивановна точно ждала, что он приедет именно такой, смертельно бледный, и будет стоять в прихожей в измокшей шинели. Она только поняла, что случилось что-то, если он приехал.
Маленькая мать казалась еще меньше перед высоким сыном. Она пометалась, собралась плакать:
– Модинька, как нежданно…
Мусоргский взял ее крошечную руку в свои большие, мокрые от дождя руки, целовал молча. От горячих, доверчивых губ сына, она почувствовала, что этот человек в ее прихожей с половичками и двумя помятыми креслами красного дерева, – ее сын, ее сыночек, каким был всегда, и заплакала:
– Вспомнил меня…
И тут же засуетилась (ее имя Юлия Ивановна очень шло к ней):
– Боже мой, и свечей не зажгла. Вымок как. Да как ты приехал?
Мусоргский стоял, стиснувши зубы. Он снял офицерскую фуражку, всклокоченная голова дымилась заметно. Он понял, что незачем было ехать сюда, нечего сказать матери и никому на свете нечего сказать о том, что с ним случилось.
Он узнал эти продавленные кресла, такие же скромные, поджавшиеся, как мать, и старое зеркало, повешенное точно нарочно так высоко, чтобы в него не заглядывали, где колебались теперь смутно огни двусвечника.
– Я, мама, подал в отставку.
Вот гром и грянул. Юлия Ивановна даже перекрестилась, точно правда ударил гром, и ее ночной чепец, легонький, с воланами, подрожал покорно:
– Как же так, Модя, – без упрека, даже с облегчением сказала она, – с чего же вдруг в отставку?
– Так. Ни к чему мне полк…
Он пошел в комнаты. Половицы знакомо заскрипели под его тяжелыми шагами с покорной жалобой. Мать шла за ним и уже ждала нового удара: «Только бы не выгнали, только бы сам ушел из полка».
Она суетилась бесшумно, накрыла стол чистой скатертью, усеяла его какими-то баночками, тарелочками, – всего много и все очень мелкое, как она сама, – соленые груздики, огурчики, накрошенный лук, холодные пирожки, варенье на блюдцах, крыжовник и красная смородина, а когда суетилась, половицы поскрипывали так нежно, точно пришептывали: «Юленька, Юленька».
Часы со стальным циферблатом тоже стучали мелко, чем-то похоже на мать. Мусоргский узнал выгравированную английскую надпись, неразборчивую, в кудрявых завитках, с красивой заглавной буквой «L». Слегка дрожащие стрелки показывали половину одиннадцатого, и он подумал, что часы, вероятно, остановятся, когда мать умрет. Странно, почему так бывает, что часы останавливаются вместе с жизнью человека. А вот у него остановилась жизнь, но он живет.
– Модинька, что же ты… Шинель-то, голубчик, сыми.
Он так и сидел в сырой шинели, с фуражкой в руке, точно зашел сюда случайно и уже собирался уходить.
– Да, конечно… Вы не хлопочите, мама, я ничего не хочу.
– Как же, с дороги.
Юлия Ивановна снова собралась заплакать, слегка толкнула его в плечо маленькой ручкой:
– А ты, Модя, скажи… Ты играл там? Ты, может быть, проиграл…
Она еще хотела сказать: «И тебя выгнали?» Но он догадался с грустной улыбкой:
– Не беспокойтесь, мама. Меня не выгнали из полка. Ничего особенного. Просто я решил по-настоящему заняться музыкой.
В Торопец, к матери, он кинулся в первом порыве отчаяния, когда почувствовал, что жизнь после ухода Анны опрокинется, как дорожная тележка, под овраг, и пойдут бессмысленно рвать, биться кони, – он бросился к матери, точно одна она могла остановить, изменить то, что надвинулось неминуемо.
И еще в прихожей понял, что никому не остановить его судьбы. Получилось так, что он приехал к матери просить денег. Надо же как-нибудь жить, если заняться музыкой. Так решила и Юлия Ивановна, что новым ударом грома будут разговоры о деньгах. У нее, правда, нет денег, о прошлый месяц заняла в банке ассигнациями, в тульской деревеньке у ее брата хозяйство в расстройстве, нынче платить по закладной, и в Торопце ремонт есть, завалились отцовские аглицкие сараи (тоже выдумывал все, кому в Торопце надобны аглицкие сараи), из полиции приходили, чтобы чинили.
Мусоргский дурно понимал, что такое говорит Юлия Ивановна о сараях и квартальном. Ему было неловко и как-то жалобно на себя и на мать, зачем приехал, напугал, попусту заставил ее тревожиться всеми бесчисленными тревогами, точно бросил камень в затаившуюся воду, и вот пошли ходить круги, закачалась тина, ил.
Утром на другой день на широкой улице, где стрела ласточек с легким свистом низко носилась над пыльной дорогой, Мусоргскому показалось, что никто здесь не ходит и не пройдет больше никогда. Крапивник, отблескивая, сумрачно шумел у обширной торопецкой стены. В расщелинах широких башен из плитняка сухие травины неслись по ветру, как гривы, с тем же пустынным сумрачным шумом.
Ему всегда казалось, что ни к чему стоят такие провинциальные города у древних кремлей, здесь как-то не надобна вся жизнь, и лучше бы все опустело, замерло, чтобы слышнее шумел крапивник у груды плитняка и метались бы в тишине одни ласточки или стрижи с их таинственной и скромной суетой, такой же, как у Юлии Ивановны. Люди и, главное, он сам, зачем-то притащившийся сюда, вовсе не нужны, должны онеметь, исчезнуть в покорном молчании.
Его питерская история, бедный роман с уличной певицей, сбежавшей от него, – только тенета, горечь, гордыня его смертного сердца. О себе самом надо забыть, о смертном сердце своем, чтобы жить. Надо как-то растворить себя в немоте, чтобы ничего не осталось внутри от горечи, от тоски по Анне, чтобы все опустело, замерло навеки внутри, как эта мертвая улица с пыльными колеями и крапивником, шумящим у серого торопецкого плитняка. Покорная немота была здесь в дремучей древности, так будет и после него, после всех, когда все живое умолкнет: пыль, трава, выветрившийся камень, ласточки и то же вечное небо, серо-бледное, скромное, как покорные глаза его матери.
Конечно, преображение, раскрытие мира музыкой и любовью – все было вздором. И незачем раскрывать мир, он понятен: вечный шум кладбищенского ветра. Для такого мира ничего не нужно. Какая там музыка и какое преображение: не будет его никогда. Надо так же затаиться и ждать, как мать, покуда не растворишься в бледно-серой немоте неба. Нелепым было его ожидание, что он преобразит мир. Все рухнуло. Потому он и сбежал в Торопец.
На постоялом дворе, куда он пришел рассчитаться с подводчиком, он решил остаться у матери, покориться жизни, какая есть, забыть себя, музыку, Анну. Это было не горько и не тяжело.
На чистой половине, полной народа, раскрасневшиеся купцы или помещичьи приказчики кричали жадно. Шли торги на лен. Один смеялся, отвалясь на стул, смахивая мокрыми от пота стрижеными в скобку волосами. «Вот так и надо жить, не думать ни о чем», – поглядел на него Мусоргский и подозвал полового:
– Дай, братец, водки…
Ночью он вернулся к Юлии Ивановне пьяный. На постоялом дворе он поил помещичьих приказчиков, неизвестного дьякона, семинариста из Пскова, купцов, возницу, хозяина, все что-то кричали ему, а он, бледный от водки, точно один трезвый в пьяном вопле, слушал, что кричали ему люди, буйные и жалкие, как смеются, бешено бранятся между собой, как семинарист с гитарой запел что-то очень хорошее, припал к его плечу и признался, что любит чужую жену, попадью от Онуфрия в Малах, Леночку, а неизвестный дьякон, дыбом черные волосы, хрустел огурцом на зубах и весело уверял, что вовсе он не дьякон, а бес.
Маленькая мать стягивала с сына сапоги с рыжими голенищами, офицерскую шинель в сене, в приставших соломинах. В бесшумных и горьких метаниях матери, в том, как она стягивала неподатливые сапоги с пьяных ног сына, в ее испуганном шепоте: «Модинька, Модинька, да что же с тобой», – была покорность отчаяния. Вот когда над ее головой грянул настоящий, темный гром: ее сын пьяница, пропащий человек. А сын утирал рукавом бледное лицо и улыбался упорно. Ослепительным светом, жадно, ярко, горела в нем водка, с упорной силой он повторял:
– Сгорю, пусть… Сгорел Модест Мусоргский, невидаль, наплевать, пусть. Сгорю, а добьюсь… Добьюсь, услышат… Чтобы жизнь переменилась, человек… Мать, понимаешь, человек… Сожги меня, Господи, сожги, за Анну Твою…
Вдруг он захотел уехать сейчас же, в Питер. В одном белье он вырвался от матери на глухую улицу, дико кричал:
– Лошадей, лошадей подавай, в Санкт-Петербург!
И упал в канаву, в крапивник, не почувствовал, как острекавился. Мать помогла ему встать, он покорно пошел с нею в дом. Она была такая маленькая, что он мог поцеловать ее в голову и в морщинистую, дряблую шею, трясущуюся от страха и горя:
– Мама, вы святая, вы небо, вы небесная, мама…
Наутро он поднялся очень тихий, пристыженный, долго полоскался за ширмой, фыркал от холодной воды. С одутловатым лицом, мокрые волосы расчесаны тщательно, он вышел к кофею. Щеткой и метелкой внимательно чистил сапоги и мундир. За кофеем сказал:
– Я еду сегодня же.
– Как, Модя, куда?
– В Питер, куда же… Извините меня, пожалуйста, что вчера натворил. Я еду…
В его дорожную тележку Юлия Ивановна натаскала кульков и горшочков, повязанных холщовыми чистыми тряпочками, принесла старый ковер, на котором он узнал затертую персианку с лютней, – чтобы сын укрыл ноги. И было Юлии Ивановне все равно, что смотрят соседи, все узнали в квартале, что ее сын Модя бросил гвардейский полк, пропойца, и едет в Питер пропадать вконец. Он молча сидел в тележке, фуражка в руке, шинель горбом, покорно ждал, когда утихнет торопливая суета матери.
Возница, белоголовый парень, управился на мешке, набитом сеном, оглянулся: «Трогать, аль нет?» Мусоргский надел фуражку, и Юлия Ивановна, уткнувшись в шинель сына острым носиком, торопливо засовывала ему в руку смятые ассигнации – все, что приготовила для закладной, на ремонт, на зимние рамы, квартальному.
– Модинька, да как же ты теперь, как ты будешь жить. Модинька…
Он улыбнулся печально, поцеловал мать в лоб и в испуганные влажные глаза, точно тусклое небо в дожде:
– Ничего, мама. Все это ничего, вы не думайте… Простите меня… Я буду жить, даю вам честное слово.
Разлука
В глубине проходного двора, внизу, играла шарманка, черный ящик, выдыхающий безнадежную копеечную тоску. Ее прищемленный стон пробивался сквозь двойные рамы. Все шарманки на свете заведены на грошовую жалобу «Санта Лючия» и «Разлука».
Шарманщик, костлявый старик, пел равнодушным голосом:
Разлука, ты разлука, чужая сторона,
Никто нас не разлучит,
Лишь мать сыра земля…
И эти глупые слова, и тупой голос дворового нищего, а главное, глупые слезы, какие больно навертывались на глаза, злили Мусоргского.
Анна исчезла, так и должно было кончиться, это самый лучший конец, думал он у окна. Но такие мысли не утешали неумолкаемой внутренней боли! Днем он ждал Анну, так же, как во сне, и его тонкий сон стал какими-то просонками ожидания.
Ожидание Анны было как верхняя проходная вода, бегущая в нем тревожно, а под ней не двигались теперь воды ледяные, непроницаемые, бездонная тьма. В самой глубине он чувствовал, что случилось непоправимое с его жизнью и Анна не вернется никогда.
То он находил на столе около своих рукописей кусок ее бедной ткани, мадаполама, так и не дошитую белую сорочку с воткнутой иголкой и ниткой, то пустую пожелтевшую коробку от папирос Асмолова, ее платок. У вешалки в кухне он нашел перчатку, ту самую, нитяную, прорванную на двух пальцах, какую заметил еще в первый день, в метели, и воздух ее, неуловимо свежий и печальный, с особой силой коснулся его.
По вечерам он сидел в прихожей, на том соломенном стуле в углу, где любила сидеть Анна. Он рассеянно теребил ее перчатку, выдергивая тонкие шерстинки, с полуулыбкой человека, ушедшего в себя от горя:
– Эх, Аня, как же так, Аня…
И вдруг татарский гнев, нещадный гнев его отцов и прадедов, жадно охватывал его, дикий, неудержимый, готовый разгромить все, раздвинуть каменный дом, сгрести этот осклизлый от туманов и дождей город, вышарить из его мглы и поставить перед собой Анну. В негодующем отчаянии он звал ее, глядя в потемки сквозь свечу, мигающую в медном шандале:
– Анна…
И пугался своего крика. Ему казалось, что начинается сумасшествие. Страшась себя, сумасшествия, потемок, едва светящегося окна на дворе, он торопливо накидывал шинельку и уходил.
Уже которую ночь возвращался он домой засветло, нетрезвый. На лестницу его вел иногда под руку суровый дворник. Дворник сам шарил ключ в его шинели и отпирал дверь.
Отставного молодого офицера, донашивающего шинельку, знали по всем петербургским второразрядным кабакам. Многие завсегдатаи: спивающиеся актеры, обманутые огнями театра и не дождавшиеся лавров, какие-то неведомые миру граверы и художники, косматые, в очках, озлобленные и чахоточные журналисты, мелкие чинуши, просто пропойцы – все те, кто для так называемых приличных людей – отвратительные пьяницы, мерзавцы последнего разбора, стали приглашать офицера к своим столам, чуяли в нем своего, обреченного заодно с ними на кабацкую судьбу.
Мусоргский, молчаливый, застенчивый, с тревожной полуулыбкой, если и пил, то всегда случайно, заслушавшись кого-нибудь из собутыльников или задумавшись.
В кабаках знали об исчезновении арфянки и желали ему помочь. Об его страданиях не расспрашивали. Трактирные певицы и просто уличные девушки, в шляпках с мокрыми страусовыми перьями, зашедшие обогреться у стойки под медной лампой и пьянеющие от первого глотка вина, иногда глухо бранились между собою, подозревая то одну, то другую, что та скрывает от белокурого офицерика, где Анька.
Мусоргского прозвали «Белокуреньким» и «Щеголком», хотя ни птичьего, ни щегольского в нем не было ничего. Женщины жалели его горячо, они все были на его стороне, против сбежавшей дряни Аньки.
Женщины чуяли, что офицерик любит верно и горячо. Они понимали немую застенчивость его страданий и с нещадной, лютой страстностью, тоже по-татарски, готовы были разворошить для него весь мглистый Петербург, его щели, углы, сырость, плесень, чтобы отыскать и поставить перед ним худенькую рыжеволосую арфянку. Но Анны не было нигде, и никто о ней толком не слышал. Она исчезла.
У Пяти Углов, в трактире, лакей с острым щетинистым подбородком, во фрачишке, потертом до тусклого глянца, как-то отвел Мусоргского в угол и сказал:
– Намедни была-с. Ей-Богу. Она самая.
Старичок показал в дряблой улыбке нижние желтые зубы, точно старая лошадь.
– Обогреться заходила. Ей-Богу-с. Просила двугривенный под заклад дать, у нас ейная арфа заложена.
– У вас?
– А как же-с, у нас. Еще когда заложила… Так и стоит. Я ей, врать не буду, двугривенного не дал, у самого не было.
– Что же она… Как выглядит, здорова?
– Зачем больна? Здорова. Усталая вроде, малость. Ты где, говорю, поешь? А я, говорит, нигде не пою, но в таких местах скоро петь буду, куда нам всем и вход запрещен. А сама видно, что шутит.
– И вы не спросили, куда она идет, где живет?
– Да что спрашивать. Разве скажет. А посидела вот тут. Все под платком руки грела. И ушла-с. Тихо, без скандалу…
Мусоргский подошел к шкафу с подносами и фаянсовыми чайниками в розанах, синих цветках. За шкафом, в тесном проходце, в потемках, стояла арфа Анны.
Он узнал потертый ремень, изогнутую волну железных струн. Струны пропылились, как в сером бархате, на горбатый верх накинута черная, тоже пыльная, клеенка. И все это похоже на черный гроб.
«Оставила крыло, – почему-то подумал Мусоргский. – Оставила и ушла».
Он вспомнил, что никогда не был у Анны на Подьяческой. «Подьяческая, нумер шестнадцать», – несколько часов согревали его надеждой.
Но уже на заднем дворе со стенами в потеках плесени, с мутными стеклами, забитыми тряпками, на железном крыльце в подвал прачки, куда указал ему дворник, он понял, что Анны здесь нет. Все же он сошел со ступенек в подвал.
В темноте пахло гнилыми досками, сырым бельем. С веревок свисало влажными привидениями тряпье, перекрученные черные чулки, точно зловещая обувь скелетов. С чулок сочилась вода. За рваными простынями виднелась склонившаяся тень старухи. Около нее на полу стояла свеча.
– Здесь живет Анна Манфред? – позвал Мусоргский, откидывая с брезгливостью мокрую, скользкую простыню.
Старуха оглянулась. Седые волоски торчали из носа, рот, изрезанный черными морщинами, был в сером пуху, точно забит паутиной.
– Здесь, – ответила она и разогнулась. Были отвратительны руки старой прачки, красные, в потрескавшейся сероватой коре, с негнущимися пальцами. – Пожалте…
И по тому, как говорит старуха, он понял, что Анны здесь нет.
В чулане, куда он вошел, стояло корыто, перевернутая бадья, натянуты были веревки с темным тряпьем, сочащим воду. Он вдруг вспомнил рассказ Анны о сенатском чиновнике, тряпичной кукле, корыте.
– Андрюшка, смотри, к Аньке пришли, – злобно крикнула старуха, отворяя дверь из чулана. – Пожалте, пожалте…
Она точно заманивала его со злорадством в западню или на мучительство, а он шел.
В другом чулане угол отделяла ситцевая занавеска, висела ветошь на крюке, у русской печи стоял чан. В воздухе и здесь была мгла от намоченного, киснущего белья.
У печи на скамеечке сидел тощий человек с остриженной головой в проплешинах, с дрожащими, укороченными руками, в какие он будто хотел захлопать и не мог.
– Убогий, из больницы вернули, – сказала старуха. – А только все понимает, пожалте, извольте говорить, что вам надоть…
Старуха привела сюда офицера и покричала сына, чтобы самой увереннее заговорить, наконец, о жилице:
– Нет ее у меня, Аньки этой, духа нет, а была бы, так выгнала бы с полицией. Дрянь, шлюха, как вам о стерве такой знать понадобилось! Она мне с прошлого мясопуста, дрянь эдакая, три рубли должна, так и пропала, не отдала, чтоб издохла. Подумайте сами, господин офицер, три рубли затеребенила. Я женщина больная, сын убогий, бейся как хошь, а она три рубли…
Старуха искренно и злобно заплакала, отдернула ситцевую занавеску:
– Вот ейный угол, пожалте, полюбуйтесь, шлюха, что оставила, насмешки одни, разве три рубли стоят? Старуха из угла выбросила на табурет узел. Там был лоскут газового платья с блестками, длинный облезлый мех, ворох цветного тряпья, рваные тонкие чулки, бусы стеклянные, самые дешевые. Жалкое Анино наследство показалось Мусоргскому ворохом тряпиц, лент и пестрых лоскутьев, какие набирают для наивных игр дети.
Он отдал прачке все серебро из кошелька и долго обтирал о шинель руку, какую успела поцеловать своей мохнатой паутиной дрянная старуха.
После Подьяческой он работал всю ночь. Он стал работать по ночам, до света. Так был им вчерне написан «Царь Саул» и «Иисус Навин». Чтобы забыться, он читал Библию, особенно пророков, всегда вслух, мерным голосом, точно псалтырь по покойнику. Тогда же он начал «Еврейскую мелодию» и «Ночь». Но он чувствовал после работы только раздражающую усталость, и все, им написанное, казалось ему каким-то тесным, затиснутым в простенок, бездыханным. Точно пыльная арфа Анны.
Ночью он часто лежал с открытыми глазами. Он думал, что Анна может прийти в любое мгновение, – вот, позвонит, – и его ненужное, невыносимое одиночество кончится мгновенно.
Ночью он слушал все шаги на дворе и на лестнице – редкий, печальный звон ног о дворовый камень.
Шаги казались иногда четкими, торопящимися шагами Анны, а иногда все – невнятные, шаркающие – были чужими.
Тогда с открытыми глазами он начинал отсчитывать часы на костяшках пальцев. Если отсчитать 360 раз, проходит пять минут. Он отсчитывал, проверяя себя по глухому бою часов у верхнего жильца. Один час проходил с быстротой, зато другой был тяжко недвижим, и Мусоргского мучила неумолимая неподвижность времени, постукивающего над ним.
Однажды утром он услышал звонок, такой тихий, такой чем-то родной, подумал: «Аня», и дрогнули руки.
Перед ним в серой шинели и в бескозырке стоял Анисим с горячими, запавшими глазами, как у всех, кто долго лежал в лазарете.
– Голубчик, как исхудал, – удивился Мусоргский.
По застенчивой замкнутости лица Мусоргский понял, что Анисим не слышит ничего.
– Голубчик мой, да ты что же, совсем глухой?
– Так что, разрешите доложить, ваше благородие, – сказал Анисим, точно понял. – Дохторя обои уха мне прокололи, так что вовсе оглох, ничего слыхать не могу.
То, что он ни разу не вспомнил Анисима, не побывал у него в госпитале, и все, что случилось с ним за эти дни, его отчаяние, страдание, прорвались на мгновение в том, как он ухватился за рукав шинели глухого солдата:
– Анисим, да что же такое с нами случилось?
Денщик заметил, что у барина запущено, нетоплено, старая офицерская шинелька поизорвалась, без пуговиц, и, сложивши свой узелок и солдатский мундир на табурет, занялся, как в давние времена, уборкой. Он пришел попрощаться к барину перед дорогой домой.
На прощание он вытопил печь, пришил к шинели Мусоргского две своих солдатских, бывших в узелке, пуговицы, все вымел, вымыл, а Мусоргский ходил за ним и рассказывал путано, как была здесь Анна и как ушла, и то, что рассказывал, точно отворяло железные двери внутри его, облегчало.
– Вот, ваше благородие, все видно, а слухать не слышу, нудно, – сказал Анисим. – Словно по вате хожу. Будто кругом вата наложена, так все молчит. А может, ваше благородие, еще буду слухать?
– Будешь, будешь…
Анисим не услышал, но ответил с кроткой улыбкой:
– И я думаю, буду…
К вечеру Анисим ушел. На столе в прихожей, подле медного подсвечника, Мусоргский после его ухода увидел серебряный рубль. Солдат пожалел молодого барина, запущенного, побледневшего, без верной руки, и оставил ему на прощальную память свой береженый рубль.
В Петербурге уже начались белые ночи, когда так пусто и страшно звенит гранит набережных и серебриста и пуста полумгла над погасшими домами, крепостью, Невой.
Мусоргский, усталый (его томило бездыханное беззвучие беловатой мглы), бродил до утра по трактирам. Он пил мало, больше следил за мельканием измученных, бледных, по-пьяному несчастных человеческих лиц.
Он думал, что все, и он, люди без имени, отребие земли, приходят и сходят, как нагромождения теней в мерцающем сумраке; никто и не вспомнит их имен, их лиц, а все хотят для себя какого-то неиссякаемого бытия, вечности. В пьяном шуме и помутнении вина томятся все, ищут забвения.
На улице он долго смотрел, как дремлет извозчичья лошадь и дрожат во сне ее ноги, искривленные ревматизмом. Он стоял, прислонившись к стене у водосточной трубы, и следил с невыносимой жалостью в беззвучно-ползучем сумраке за тощей черной кошкой, пробирающейся из подвала в подавал. Звери тоже ищут забвения, утешения, но звери счастливее, им дано больше сна: кошки всегда в полудремоте. А вот люди ищут забвения в вине.
«Бог простит, – думал он. – Бог простит всех пьяниц, какие есть на свете».
Под утро он ложился у себя, на диван, как был, в слегка влажной шинели, не снимая сапог.
Чтобы заснуть, он начинал быстро отсчитывать сотни, тысячи. И не засыпал. Он сбивался, считал снова:
– Тысяча пять, тысяча шесть…
Потом вместо цифр начинал повторять, отсчитывать то, что всегда стояло в нем, давило несдвигаемым молчанием:
– Анна, Анна, Анна…
Неповоротливое, безысходное бешенство налегало на него, как каменный жернов, и он с глухим исступлением начинал проклинать кого-то, себя, всю жизнь, смерть, вечное отчаяние, разрушение, весь мир, навеки разъятый тьмой противоречий.
Потом ему казалось, что он лежит в шинели на диване не наяву, а в тяжелом полусне, между сном и явью.
Все то же, как и наяву, – беззвучная мгла, его кабинетец, – и все не то. Все изменено, ужасно, громадно. Его письменный стол навеки повис в мутной бездне, и он сам, со своим диваном, навеки заключен в застенок.
Тогда, ища защиты, спасения, он переступал по тюфяку грязными сапогами, прижимался лбом к черному образу Серафима. В столе от давнишней заутрени была красная свеча. Он зажигал свечу, водил по иконе, вглядываясь в Серафима, и дорожка копоти чернела на красном ангельском плаще.
Лика Серафима он не видел, точно лик вынули и на месте его осталась черная пустота. Он понимал, что снится, что он не брал свечи из стола и нет у него вовсе никакой красной церковной свечи, и хотел отступить от темного лика, бежать, проснуться – и не мог.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































