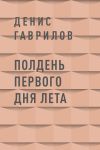Текст книги "Гостинодворцы. Купеческая семейная сага"
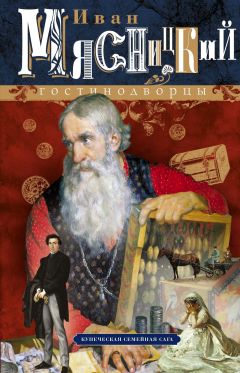
Автор книги: Иван Мясницкий
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Кушай, коза, на здоровье…
Привычка оделять гостинцами внучат у Муравина осталась с тех пор, когда еще и Саша и Липа под стол пешком ходили.
Дедушка как будто бы не замечал лет внучат, а внучата, не желая обидеть деда, принимали его гостинцы, как маленькие дети, и уничтожали дедовские апельсины, груши, пряники и орехи.
– Спасибо, дедушка! – проговорила Липа, целуя деда снова.
– Кушай, кушай, королек ведь… видишь, какая кожа красная… Что, королек? Ну, да уж я знал, что королек. Разносчик Андрей божился раз пять, что корольки все. Сладкий? Ну, кушай, кушай, коза… Да ты что это, как будто у тебя глаза заплаканы, а?
– Ах, дедушка, милый мой дедушка, если бы ты знал только, как я несчастна! – припала к плечу деда Липа.
– Вот те на! Да полно, постой… Ах ты, коза! Право, коза! Ну что ты, право?.. Постой!
– Дедушка, ты ничего не знаешь… Меня отец хочет выдать замуж…
– Замуж? Ну, чего ты плачешь? И замуж надо идти… Всему предел есть, Липушка…
– Дед, дед!
– Ну что дед, дед… Ты не бойся, я тебе и замужем буду гостинцы носить! – пошутил Муравин, но, увидав отчаяние Липы, отнял ее руки от лица и посмотрел ей в глаза. – Липушка! Голубчик! Не хочешь ты замуж, да? Да скажи же, душа…
– Дедушка, дорогой мой… люблю я… ты пойми: люблю я…
Дед отыскал валявшуюся в траве широкополую поярковую шляпу и надвинул на самые уши.
– Другого любишь? Не того?
– Сережу… знаешь, Сережу Аршинова… он был у тебя…
– Ну, ну?
– А отец хочет выдать за его брата, Ивана… Сегодня и смотрины назначены…
– Вот как!.. За пьяницу отдать хочет? За цыганского гуляку? Ах, Спиридоныч, Спиридоныч…
– Дедушка, милый, посоветуй ради бога, что мне делать, я просто голову теряю…
– Постой, коза… С матерью ты говорила?
– Что мать?
– Правда, правда… вся она в его лапе… Ну, погоди… Пусть Иван тебя посмотрит, это ничего, это, Липушка, не беда… Худого в этом я ничего не вижу.
– Ну, а потом, дед?
– А потом… спросит же отец тебя, нравится жених или нет? Скажи, что нет, любишь другого, и кончено, и аминь…
– И ты думаешь, отец посмотрит на это?
– Не посмотрит? Ну, это мы посмотрим, коза, как он не посмотрит… – Дедушка вскочил на ноги и грозно замахал веткой черемухи. – Я… я сам тогда… слышишь, Липушка? Сам к нему пойду, да, сам! Пусть он со мной поговорит! Я ему скажу, все скажу, все, да! Я ему отпою, все отпою.
Дед так отчаянно махнул веткой, что сшиб с себя шляпу.
Его бледное лицо, обрамленное сединами, дышало гневом и юношескою отвагой.
Липа бросилась на шею к деду.
– Дедушка! Дедушка! – проговорила она, давая волю накипевшим слезам.
– Липушка! Душа! Перестань! Перестань, голубка, – шептал он, смотря на вздрагивавшие от рыданий плечи Липы, на ее белую, тронутую легким, как дымка, загаром шейку, перерезанную змейкой-косой, и гладил морщинистою с синеватыми жилами рукой русую головку своей милой внучки…
VII
В шестом часу вернулся, в сопровождении Александра, старик Алеев и застал жену в спальне, где она, готовясь к приезду гостей, возилась с прилаживанием наколки на голову.
– Все готово? – коротко спросил он, сбрасывая с себя сюртук.
– Все, Спиридоныч: и стол в беседке накрыт, и закуски всякие приготовлены.
– Дай сюртук, который почище, да манишку.
– Сию минуту.
– Постой кидаться-то, успеешь… Липу приготовила?
– Одевается сичас, голубенькое платье с цветочками велела ей надеть, к лицу оно ей.
– Ну, уж это ваше, бабье, дело, я в этом ни уха ни рыла не понимаю, а говорила ты ей насчет смотра-то?
– Говорила, Спиридоныч, как не сказать, на всю жизнь этакое дело.
– Ну, и что ж она? Как приняла?
– Обнаковенно, в слезы ударилась.
– Девичья слеза что божья роса – до первого солнышка.
– Страшно тоже, Спиридоныч, девичью волю на бабью неволю менять.
– Глупости, не век же ей на родительской шее сидеть, пора и мужнина хлеба попробовать… Сюртук!
Анна Ивановна бросилась к гардеробу. Алеев умылся, расчесав свою бороду, надел чистую манишку и, облекшись в новенький сюртук, прошел прямо в сад.
Солнце садилось за колокольню соседнего храма и бросало потухающие, красные лучи на вершины вязов и лип алеевского сада.
Сергей Спиридоныч прошел его вдоль и повернул к решетчатой беседке, приткнувшейся задним фасом к забору соседа.
Пол просторной беседки был устлан коврами, а стол, стоявший посредине и окруженный стульями, окрашенными под цвет беседки зеленой краской, и покрытый белоснежной скатертью, был заставлен чайным прибором и бутылками.
Алеев оглядел беседку, посмотрев на свет бутылки, понюхав икру и, оставшись, видимо, довольным и тем и другим, повернул обратно к дому.
По одной из дорожек шла Липа, держа в руках едва распустившуюся ветку сирени. Увидав отца, она нахмурила брови и, всматриваясь пытливо в лицо старика, пошла к нему навстречу.
– A-а, Липа! – улыбнулся Алеев, подставляя для поцелуя дочери сперва свою заплывшую жирную руку, а затем лоб. – Ты что такая хмурая, а?
– Я? Я ничего, папаша, – ответила та, нюхая сирень.
– Сичас к нам Аршиновы приедут.
– Я это уже от мамаши слышала.
– Так ты того, будь с ними поласковее, – проговорил мягко Алеев, критически оглядывая дочь с ног до головы.
– Я со всеми, кажется, любезна.
– Аршиновы – не все… Слышишь?
– Слышу.
– И помни это…
– Буду помнить, папаша…
– Спасибо. Почем знать, вдруг понравишься Ивану Афанасьичу… жених завидный…
Липа молчала. Алеев, прождав напрасно ответа, почувствовал некоторого рода неловкость. Он чувствовал, что ответа не будет, а продолжать разговор на эту тему – то же самое, что вопиять в пустыне. Алеев снял картуз, вытер платком лоб и посмотрел на небо.
– Кажется, дождя нонче не будет? – полувопросительно обратился он к дочери, усердно нюхавшей ветку сирени.
– Кажется.
– Однако я пойду… вдруг приедут, а я не встречу, нехорошо… да и тебе бы не мешало встретить…
– Зачем? Я останусь здесь, папаша.
– Ну, ну, – сделал уступку тот, хотя внутренне и возмущаясь противоречием дочери. – Самовар чтоб был готов…
– Вы домой идете, скажите мамаше! – повернулась та и медленными шагами направилась к беседке.
Алеев посмотрел вслед дочери, нахмурив брови, и быстро зашагал к калитке, выходившей из сада на двор.
У калитки уже стояли Аршиновы, Афанасий Иванович с сыном Иваном, и разговаривали с хозяйкой, просившей жестами пожаловать гостей в сад.
– A-а, гости дорогие! – бросился Алеев к ним, снимая на ходу картуз и раскланиваясь. – Милости просим сюда, на вольный воздух…
Аршиновы вошли в сад и поздоровались с Алеевым.
– Жена, самовар! – крикнул хозяин, держа в обеих руках протянутую стариком Аршиновым руку. – Очень, очень обязан вашим посещением, Афанасий Иваныч, душевно рад!
– Спасибо за ласку! – проговорил Аршинов, держа на отлет шляпу. – А ну-ка, показывай свои владения…
Гости, в сопровождении хозяина, пошли по дорожкам. Иван, прилизанный и припомаженный, шел сзади стариков и рассеянно посматривал на затейливо разбитые клумбы и круглые, как шапки, кусты сирени и жасмина.
Ему было не по себе, майский воздух, запах сирени тянули его за город, туда, в Марьину Рощу, где в одном из домиков жила черноокая цыганка Паша, с которой он свел дружбу в период кутежей и загулов. Маленькая, сухопарая, увертливая, как змея, смуглянка рисовалась его воображению и манила к себе в маленький садик с разросшимися кустами бузины, в этот укромный и далекий от родительских взоров приют, в котором он проводил дни и ночи, прожигая и жизнь, и отцовские деньги. Зачем он сюда приехал? И что он тут будет делать? Говорить с купеческою дочкой, в которую влюбился его брат? И приятного мало, да и говорить не о чем.
Иван посмотрел со злостью на жирную отцовскую шею, красными складками спускавшуюся за воротник манишки, и вздохнул.
«И на кой шут меня женят, спрашивается? – чуть не вслух подумал он, шагая за стариками. – Ну женюсь я, а потом? Все равно к Пашке уеду… нонче же уеду, не могу… тянет…»
Иван незаметно свернул с дорожки и пошел по траве.
– Иван! – окликнул его Афанасий Иваныч.
Иван вздрогнул, пришел в себя и, испуганно смотря на родителя, бросился к беседке, к которой подходили старики. Из беседки вышла Липа и молча поклонилась Аршинову.
– Моя дочь! – представил Алеев Липу, победоносно улыбаясь. – Прошу любить да жаловать!
– Очень приятно-с! – осклабился Афанасий Иванович, с видом знатока окидывая фигуру Липы быстрым взглядом. – Нас полюбите, барышня… а это мой сын Иван… рекомендую.
Липа поклонилась Ивану и попросила гостей в беседку.
Она была бледна, но спокойна. Взглянув мельком на Ивана, растерянно следившего за всеми движениями отца и старавшегося подражать ему, она улыбнулась презрительно и села за стол.
Явилась и Анна Ивановна, запыхавшаяся от суеты, а следом за ней и самовар, принесенный курчавым кучером с серьгой в ухе.
Разговор, как это часто бывает с лицами, мало знакомыми друг с другом, вначале не клеился. Липа молча разливала чай, Анна Ивановна подвигала гостям варенья и пастилы, а Алеев не сводил глаз с Аршинова, предупреждая малейшее его желание. На выручку подоспел Александр. Разговор мало-помалу сделался общим. Говорили все, кроме Ивана, отвечавшего односложным «да» и «нет».
Он смотрел исподлобья на Липу и мысленно сравнивал ее со своею мучительницей, смуглянкой Пашей.
«Куда ей… далеко до Пашки!» – решил он, залпом выпивая остывший стакан чаю.
Александр спросил у старика Аршинова про Сергея.
– На фабрику послал, – ответил тот и тотчас же обратился к Липе с вопросом: – Чай, надоел он вам своими глупостями?
– Какими глупостями? – вспыхнула та.
– Так, вообще… недалек он у меня, все книжками бредит…
– Вы находите, что это худо?
– Пустые люди только, барышня, этими глупостями занимаются…
– Книжка – далеко не глупость! – резко проговорила Липа. – Говорить так о книжках могут только люди ограниченные.
Алеев откинулся на спинку стула, Анна Ивановна помертвела.
– Вот как-с! – с удивлением пробормотал Аршинов. – Не знал-с я этого, извините-с.
«Ах, шут возьми, – подумал он, чувствуя, как у него вдруг вспотела лысина, – девчонка-то тоже, видно, ученая».
– Извинять мне вас не в чем… Прежде чем судить…
– Липа! – возвысил голос отец, сверкнув глазами и вместе с тем сладко улыбаясь. – Ты бы лучше, заместо разговоров, прошлась бы с Иваном Афанасьичем и сад ему показала.
Липа молча встала и вопросительно посмотрела на Ивана.
Иван весь съежился, словно собирался чихнуть, и торопливо поднялся со стула.
Иван и Липа вышли из беседки. Александр поднялся было тоже, чтобы следовать за молодыми людьми, но тотчас же и сел под молниеносным взглядом отца.
Старик Алеев, рассыпаясь в извинениях за выходку дочери, налил рюмки.
– Это ничего, Спиридоныч, – ухмыльнувшись в бороду, остановил рассыпавшегося хозяина Аршинов, – молода, жизни не видала… попадет в руки к настоящему мужу, весь дух выветрит.
– Да уж это конечно, муж – первое дело… Прошу покорнейше осчастливить.
Старики чокнулись.
Иван и Липа между тем молча шли по дорожке. Иван шел несколько сзади Липы и, посматривая на пышную косу девушки, покашливал слегка, не зная, с чего начать разговор.
– Я слышала, – прервала молчание Липа, – у вас очень большой сад?
– Да-с, большой, даже весьма большой, пруд есть, караси-с…
– Как жаль, что у нас нет пруда!
– Вы, значит, любите карасей?
– Нет, я люблю воду.
– Для купанья это действительно приятно. У нас теплица тоже есть, для цветов. Вы любите цветы?
– Очень.
– У нас их пропасть. Папаша любит, чтоб в саду дух хороший был.
– То есть запах?
– Да-с. Мамаша тоже любит это…
– Я слышала от Сергея Афанасьича, что ваша мать – превосходная женщина.
– Ничего-с, родительница хорошая.
– Сергей Афанасьич просто молится на нее.
– Врет все.
– Как врет?
– Разумеется, врет. Мамаша – не икона, чтоб на нее молиться, а во-вторых, он и в церковь-то редко ходит. Какой уж он молельщик!
Липа закусила губу, чтоб не расхохотаться.
– Вы меня не так поняли, Иван Афанасьич. Я хотела сказать, что ваш брат обожает вашу матушку.
– Наша обязанность такая, чтоб любить и уважать родителей.
– Не хотите ли присесть? – предложила Липа, садясь на лавочку.
– Благодарю вас. Можно. Сергей вам, кажется, часто надоедал своими визитами?
– Мы всегда ему были рады.
– Значит, вы книжки тоже любите читать?
– Люблю. А вы?
– Когда мне читать, помилуйте… Это человеку, который ничего не делает, можно этими пустяками заниматься.
– Сергей Афанасьич читает же, и много читает, значит, находит же он для этого свободное время.
– У него часть другая. Он у нас конторским делом занимается.
– А у вас какая же часть? – насмешливо посмотрела Липа на собеседника.
– У меня – торговая-с. Разве одно дело в голове? Не до книг-с. Газеты и то иной раз некогда прочитать, ей-ей! Вы не верите?
– Не верю. Если б была охота, всегда нашли бы время.
– Охоты особенной не чувствую. Не привык как-то, да и в школе еще книжки-то надоели; бывало, зубришь, зубришь, а тебе все кол да кол от учителя, а от родителя таска. Как возьмешь книжку, так школу и вспомнишь… иногда, знаете, и прочтешь, если что интересное.
– А театр вы любите?
– Между прочим, отчего же… цирк, по-моему, гораздо любопытнее… А вы цыганское пенье любите?
– Я никогда не слыхала, как поют цыгане.
– Неужели? – встрепенулся Иван. – Ну, вот погодите, бог даст… – Иван закашлялся и тотчас же поправился. – Услышите где-нибудь… Помилуйте, как же это не слыхать цыган?
– Как видите, не слыхала, – улыбнулась Липа.
– Душу всю отдать за пенье можно-с! – заволновался Иван, ерзая по скамейке.
– Вот как!
– Да-с. Чувства у них, сердца много-с. Запоет иная цыганка солой романс, ошалеть можно.
– Что же особенного в их пении?
– Рассказать это трудно, Олимпиада Сергеевна, надо самому послушать. За сердце хватает и всю душу наизнанку выворачивает. Я знаю одну цыганку, то есть слыхал ее, голос – бархат, контральта, можно сказать, у ней такая, что другой во всей Европе не найдешь, запоет она «зацелуй меня до смерти», так сам чувствуешь, как умираешь, заслушаешься, все на свете позабудешь, просто в тунбу какую-то обращаешься! Бей тебя в это время, режь – на все плевать!
– Однако вы отчаянный цыганоман, – насмешливо улыбнулась Липа.
– Люблю-с.
– И часто вы слушаете их пение?
– Редко-с, – вздохнул искренно Иван, – папаша у меня на этот счет строг, воли не дает, вот, бог даст, женюсь, так посвободней будет.
Липа встала.
– А Сергей Афанасьич любит цыганское пение?
– Где ему, дураку, разве он может понимать цыган?
– Разве? – поддразнила Липочка.
– Натура у него совсем другая-с. Чтоб понимать цыганское пение, нужно натуру широкую иметь, а у него никакой, по-моему, натуры нет. Болтать умеет, а натуры нет-с. Олимпиада Сергеевна, если вы желаете, я могу устроить…
– Что устроить?
– Цыганский концерт-с… попрошу папашу, он и пригласит хор. Когда прикажете?
– Благодарю вас, у меня, должно быть, тоже никакой натуры нет: никакого желания нет их слушать.
– Напрасно-с… очень даже напрасно-с.
Липа повернулась к беседке.
– А вон и молодежь наша идет! – крикнул Аршинов. – Иван, ну что, как их сад против нашего?
– Меньше, папаша, но хорош-с.
– Нравится тебе, а?
– Очень, папаша.
– Милости просим, барышня, к нам, наш сад посмотреть… Хе-хе-хе!..
Липа поклонилась и села за стол.
У Аршинова от выпитой мадеры заиграли на лице розовые пятна. Он, видимо, находился в отличном расположении духа и подмигивал Алееву, покачивая головой на Липу и Ивана.
Александр грустно посмотрел на сестру и вышел из беседки.
Липа равнодушно помешивала ложкой чай и думала о Сергее.
«Что будет? Что будет?» – мучительно задавала она себе вопрос и вздрогнула от хохота отцов, раскатом несшегося по саду.
– Так, так, Спиридоныч, а? – говорил Аршинов, вставая.
– Да уж не перетакивать стать, Афанасий Иваныч, – ответил тот.
– Ну, давай поцелуемся!
Старики обнялись троекратно и стали прощаться.
– Ну, барышня, прощай! – ласково похлопывая по руке Липы, ухмылялся Аршинов. – Востер у тебя язычок, ох востер, ну да бог с тобой: я добрый, не сочту за вину. Что ж в гости опять не зовешь, аль не любы, а?
– Проси, Липа, – толкнула в бок дочери Анна Ивановна.
– Милости просим, очень рады вас видеть, – проговорила та автоматично.
– Рада будешь… Ой, так ли, барышня?
– Я всегда рада хорошим людям.
– Умница. Дай я тебя поцелую за умное слово. Спиридоныч, дозволяешь?
– За честь должна считать, что обращают на нее внимание, – ответил тот, подпихивая окаменевшую Липу к Аршинову.
Липа зажмурила глаза. Ее обдал теплый винный запах, и затем она почувствовала, как к ее правой щеке прикоснулись влажные губы и жесткие усы.
Она отшатнулась, вышла из беседки и быстро пошла домой.
– Липа! Липа! – кричал ей отец. – Постой!
Липа побежала, словно за ней гналась целая свора разъяренных собак. Задыхаясь, вбежала она в свою комнату и, бросившись в постель, зарыдала, как ребенок.
– Продана… продана, – шептала она сквозь рыдания, – все кончено… все!
– Бедная моя! Дорогая Липочка!..
Липа подняла голову. У постели, наклонясь над ней, стоял Александр и с состраданием смотрел на сестру.
VIII
Аршиновы в это время катили домой.
Иван, сидя боком в пролетке, глядел безучастно на вереницу встречных и пеших, и проезжих.
Липа, Алеевы и вообще вся процедура «смотрин» у него вылетела из головы тотчас же, как только они выехали из ворот алеевского дома.
В его голову гвоздем засела смуглянка, которую он не видал больше недели. Если б не отец, с которым ему поневоле пришлось возвращаться домой, он давным-давно уже катил бы в тихий приют возле Марьиной Рощи.
«Как только улягутся старики, так я сейчас и шаркну туда, – решил он, радостно улыбаясь. – Чай, соскучилось по мне фараоново племя. Эх, Пашка, Пашка! Вельзевул ты в юбке, проклятая!»
Иван так скрипнул при этом зубами, что задумавшийся Афанасий Иванович поднял голову и посмотрел на сына.
– Ты что говоришь, Иван? – спросил он.
– Я-с? Ничего, папаша, я, кажется, молчал-с.
– Ну, как тебе невеста? А? По сердцу, что ли?
– Как вам, папаша, так и мне, – уклонился тот от прямого ответа.
– Не я жениться на ней стану, чай.
– Как вам-с.
– По мне – девка добрая. Ветер в голове есть, ну да это не суть важное, поумнеет замужем, и семья ихняя вся мне по нраву.
– Люди хорошие, папаша.
– Значит, нравится?
– Олимпиада Сергеевна-то?
– Ну да.
– Ничего-с, ежели вам она нравится, так и мне-с. Вы, папаша, человек опытный, много на своем веку людей перевидали, а я что же-с?
– По-моему, лучше невесты и искать нечего, – погладил свою бороду Афанасий Иванович. – И приданое настоящее, я толковал с отцом, сто тысяч дает.
– Только-то? Я больше предполагал.
– Это за тебя-то больше? – иронически проговорил Аршинов. – А ты и за это скажи спасибо.
– Я знаю это-с, – поспешил тот, – благодаря вам-с, конечно.
– То-то, вот, благодаря нам-с! Вести себя не умеешь.
– Я, кажется, папаша, стараюсь, – съежился Иван, строя невинную рожу.
– Стараешься ты с цыганками кутить. Я, брат, все знаю. И ежели гляжу на тебя сквозь пальцы, значит, ты должен понимать это и стараться остепениться.
– Что же, я, папаша, готов; разумеется, иной раз от скуки и дозволишь, так ведь я в меру, папаша, другие и не то себе дозволяют.
– Мне другие не указ. Женишься – и аминь. Чтоб я больше о твоих глупостях и не слыхал никогда. Слышишь?
– Слушаю, папаша. Известно, женатому человеку не подобает канителиться.
– То-то, смотри у меня. Помни: холостой гуляет – себе только повреждает, а женатый гуляет – всю семью разрушает.
– Будьте покойны, папаша… Конечно, ежели Олимпиада Сергеевна меня будет любить.
– Почему же она тебя любить не будет? Что ты, урод? Дурак круглый? Какого еще ей мужа надо?
– Конечно, вы, папаша, умный человек и все далеко видите, а я, откровенно сказать, я насчет своего супружеского счастья не уверен-с… неподходящий я ей.
– Это ты своим умом дошел? – рассмеялся Афанасий Иванович.
– Своим-с… вы полагаете, что я так уж ни о чем и судить не могу-с?
– Ну, я тебя, Иван, утешу. Успокойся, брат, ума большого у тебя нету.
– Значит, я прав, что такой муж, как я, ей не подходящ.
– Кто ж ей подходящ, по-твоему?
– Кто-с?.. – замялся Иван. – Вообще, ей, папаша, нужен человек ученый.
– Вот как! Да она сама-то в каком ниверситете обучалась?
– От книжек поумнела-с!
– А кто тебе не велел самому от книжек поумнеть? – иронизировал Аршинов. – Нет, Иван, у кого ума нет, тому, брат, и книжки ума не прибавят. Чтоб умна она была, я этого вовсе не вижу. Просто девчонка нахваталась разной дичи и хвастает ею. Коли б умна была, так гостям глупостей не говорила, а она с первого же шагу со мной сцепилась. Молодость – глупость, только и всего. Выйдет замуж – другая станет… Пойдут дети – куда и книжки с завиральными идеями полетят. В девках – горячится, в бабах – смирится. Такой уж им предел свыше.
– Все это так-с, папаша… одно только вот… Сергей-с.
– Что Сергей? – сдвинул брови Аршинов.
– Препятствовать может.
– Сергей? Скажи, пожалуйста, какое пугало!
– Он на меня как вчера кинулся: «Не смей, – кричит, – на Олимпиаде Сергеевне жениться, я ее люблю и она меня любит».
– Ну, эту любовь можно и плетью вылечить.
– А я все-таки, папаша, предупреждаю вас: бог знает, что у Сергея на уме… вам самим известно, какой он у нас нигилист.
– Глупости! Дурак твой Сергей, да и девчонка дура. Повидались, может, раз десяток друг с другом и решили, что влюблены… у ней эта любовь после венца пройдет, а Сергея мы тоже женитьбой вылечим.
– Вам, конечно, виднее, папаша, но все-таки я должен иметь в виду такой факт-с.
– Перестань! Глупости! Сурьезу в этом я никакого не вижу.
– Да сурьеза-то промежду них я и сам так думаю, что не было.
– Ну и, значит, выкинь ты Сергея из головы. Влюблены! Да какая же это девчонка до свадьбы не влюбляется? Все, Иван, они из одной матушки-глины сделаны. И тот хорош, и этот прекрасен, а как выйдут замуж, так лучше мужа никого и на свете нет! Знаю я бабью натуру очень хорошо.
– Разумеется, вам известно, папаша… только все-таки я Сергея боюсь.
– Вот наладил, право!
– Вы не знаете его, папаша; отчаянный он человек.
– Сергей отчаянный? – с изумлением приподнял брови Афанасий Иванович.
– Да-с, Сергей. Он на все пойдет. У него сейчас пистолет куплен. Для чего, спрашивается? Убьет, папаша.
– Кого убьет?
– Меня-с. Ей-богу, убьет. Ему что? Он, вот, как-то начал насчет души говорить, так у меня душа в пятки ушла. Для него чужая душа все равно что наплевать.
– Пустяки, а где этот пистолет-то?
– У него на стенке висит-с.
– Нонче же убери.
– Уберу-с. Только ведь он, папаша, завсегда другой может купить.
Афанасий Иванович задумался. В первый раз он серьезно подумал о Сергее, которого до сих пор считал за пустого, непригодного к делу человека. И ум, и время у Афанасия Ивановича всегда были поглощены делами. Жена и дети существовали для него, как и для всякого увлеченного своим делом коммерсанта, только как цель, для которой он работал, вкладывая в эту работу всю наличную энергию и все силы своего ума. Заглядывать же в душу каждого члена семьи у него не было ни времени, ни охоты, ни нужды. Жена – жена и есть, в сущности, баба, у которой вся дорога от печи до порога. Дети – все дети, то есть Иваны, Андреи, Петры, до последнего издыхания главы семьи обязанные покоряться и слушаться во всем отца. Философия домостроя не дозволяет никаких уклонений в сторону, и поэтому Афанасий Иванович, воспитанный в правилах домостроя, не интересовался никогда внутреннею жизнью жены и детей. Только тут, в первый раз, Афанасий Иванович задал себе вопрос: «Что за человек Сергей?»
– Папаша, приехали-с! – дотронулся Иван до плеча отца.
Афанасий Иванович вздрогнул, посмотрел на свой дом и вылез из пролетки.
– Андрей дома? – справился он у выбежавшей на крыльцо горничной.
– Дома-с, в саду, кажется.
Аршинов молча прошел в сад и крикнул:
– Андрей, тут, что ль, ты?!
– Здесь, здесь, папаша! – показался из-за кустов старший сын Афанасия Ивановича и остановился в почтительной позе.
– Пойдем, мне надо посоветоваться с тобой, – озабоченно проговорил Афанасий Иванович, беря под руку Андрея.
Андрей вытянул, как гусь, голову вперед и насторожил уши.
– Со смотрин я, – начал Афанасий Иванович и остановился.
– Ну, что же-с, – спросил Андрей, – пондравилась?
– Девка-то? Ничего. Подходяща.
– Я сам так думаю, что для Ивана партия хорошая.
– Хороша-то хороша, да запятая махонькая есть, обдумать нам надо.
– Обдумаем, обдумаем, папаша, да вы присядьте на скамеечку лучше, сидя-то голова спокойнее работает-с.
Аршиновы уселись и принялись обдумывать план действий.
Иван зашел к матери, перекинулся с ней несколькими словами и поспешил в комнату Сергея.
Из окна он увидал сидевших в саду отца с братом и улыбнулся.
– Обмозговывают! – проговорил он вслух. – Андрей все в затылке чешет, стало быть, я им хорошую загвоздку запустил…
Иван осмотрелся и презрительно щелкнул по корешкам книг, стоявших на полках.
– Книгоед настоящий! Ишь ты, сколько их набрал, на хороший полок не уложишь, а где ж его пистолета-то? Неужли с собой взял?.. Стой, вот он… как его взять только… вдруг возьмет да и выпалит?.. Ну его к шуту, еще убьет сдуру…
Иван прислушался и крикнул:
– Аркадий Зиновьич, вы дома?!
За стенкой послышалось кряхтенье.
– Дома, значит… подите-ка сюда на минутку…
– Ах, это вы, Иван Афанасьич! – появился на пороге Подворотнев, застегивая на ходу сюртук. – Добрый вечер, во всех отношениях!
– Я вас вот зачем, папаша приказал пистолет от Сергея отобрать, а я, признаться, не умею с ним обращаться: возьмешь, а он вдруг выпалит.
– Да он, кажется, незаряженный.
– Все одно. Уберите-ка вы его к себе, а Сергею, если хватится, скажите, что папаша взял.
– Хорошо-с. Да для чего же, собственно, Афанасью Ивановичу пистолет Сереженьки понадобился?
– Да так, знаете… убрать его с глаз долой и от греха дальше.
Подворотнев взял пистолет и пристально посмотрел на Ивана.
– Странно… даже, во всех отношениях, странно-с… Неужели Афанасий Иванович такую мысль допустил, что Сереженька себя лишить жизни может?
– Не себя, так другого кого-нибудь. По-моему, такие игрушки не след иметь глупому человеку.
– Действительно, – улыбнулся хитро Подворотнев, – оттого, должно быть, вы и не хотите к себе пистолетик-то взять?
– Ну его! – засмеялся Иван, не поняв шутки старика. – Еще во сне сниться станет… А я, Аркадий Зиновьич, сичас невесту смотрел.
– Вот как-с! У кого же, ежели это не секрет, во всех отношениях? – прищурился тот.
– У Алеевых.
– Так-с. Ну, и что же-с? Понравилась вам? – спросил старик, перекидывая пистолет с руки на руку.
– Так себе. Девка здоровая, лупоглазая. Косища, словно каната, толстая. Уберите вы пистолет, ей-богу, выпалит!
– Хе-хе-хе, трусите, во всех отношениях?
– Не трушу, а неприятно ожидать: вот-вот хватит.
– Уберу-с, будьте покойны, ну а вы-то невесте понравились?
– Да отчего ж не понравиться? – хвастливо поднял Иван голову. – Что я, хуже Сергея, что ли? Да унесите вы пистолет, ну вас…
Иван торопливо скрылся в свою комнату и завалился на постель.
Подворотнев посмотрел ему вслед, усмехнулся печальной улыбкой и положил пистолет на стол.
– Плохо, Сереженька, во всех отношениях, плохо! – проговорил он и, заперев на ключ комнату Сергея, ушел в свою келью.
В десять часов аршиновский дом уже спал. Ворота были заперты. По двору бегали, глухо лая, собаки. По заведенному исстари порядку, ключ от замка, которым запирались ворота, после ужина приносили к хозяину в кабинет, и тогда уже нельзя было никому ни войти, ни выйти из аршиновского дома.
Молодые Аршиновы между тем ездили и в гости, и в театры и возвращались домой и в два, и в три часа; для многих, знакомых с порядками, заведенными Афанасием Ивановичем, было загадкой, каким образом сыновья могли и уезжать из дома вечером, и приезжать обратно поздней ночью.
Афанасий Иванович сам был озадачен, однажды узнав в разговоре от знакомого купца, что у него накануне были на именинах и Андрей с женой, и Иван с Сергеем.
Он долго ломал голову над этою задачей и только благодаря простой случайности открыл секрет просто отпиравшегося ларчика.
Прогуливаясь как-то в саду и осматривая подгнившие столбы забора, выходившего в глухой переулок, он наткнулся на калитку, запертую внутренним замком.
Афанасий Иванович хлопнул себя по лбу и расхохотался.
– Ну, народ! – похлопывая себя по бедрам, покачивал головой Аршинов. – Просто жулики, ей-богу! В голову другому не придет такую лазейку прорезать…
Сыновьям, однако, Афанасий Иванович и виду не подал, что открыл их лазейку, и только улыбался, если Андрей или Иван просились у него в гости.
К этой-то лазейке и пробирался Иван, когда все улеглось в аршиновском доме.
Приласкав бросившихся к нему собак, он нырнул в сад, окутанный мглой сумерек, и скрылся в кустах.
Через пять минут он шел уже по переулку, напевая цыганский романс и вглядываясь в темную даль.
На углу переулка стояла извозчичья гитара.
– Степан, ты?! – крикнул Иван, подходя к извозчику.
– Я-с, Иван Афанасьич, – откликнулась фигура, торчавшая на передке.
– Молодец, люблю! – бросился тот на гитару. – Понял, значит, давеча мою пантомиму, когда я ехал с отцом.
– Как не понять, помилуйте-с… вы только свистните, а мы уже смыслим.
– Пошел!
Рысак лихача рванулся с места, взмахнул хвостом и потонул во мраке ночи.
IX
У рыбинского мещанина Федора Головкина, державшего хор цыган и жившего около Марьиной Рощи, в это время шел дым коромыслом.
В большой зале, ярко освещенной настенными канделябрами, происходила оргия.
Молодой купец Митя Блуждаев, в компании с отставным, прокутившимся дотла гусаром Лупаревым, которого Блуждаев держал при себе в качестве адъютанта по разгульной части, кутил у цыган третьи сутки.
На столах красовалась целая батарея донского, под столами валялись пустые бутылки. Вдоль стен сидели цыганки в яркопестрых костюмах и гремели хоровую. Блуждаев был пьян, как стелька. Он сидел на диване и, ероша и без того спутанные на голове кудри, пил стаканами донское и плакал слезами пьяного человека.
Отставной гусар, с потасканным лицом и ярко-красным носом, сидел возле Блуждаева и, отчаянно крутя левой рукой длинный ус, правой дирижировал хором, неистово пристукивая каблуком.
– Так! Жги! Ловко! Чище, идолы! – покрикивал гусар. – Люблю! Митя! Друг!.. Выпьем!
– Милые мои! – ревел Блуждаев, хватая себя за грудь и обрывая пуговицы у жилета. – Эфиопы-черти! Убейте меня! Ради бога, убейте!
– Митя, плюнь, выпьем! – твердил гусар, опуская усы в стакан.
– Убейте, эфиопушки! – плакал Митя, размазывая по лицу ладонью слезы. – Не могу я больше жить на свете после этого… тяжко мне, фараонушки… Дюжину шампанского! – перестал он вдруг плакать. – Стой! Стой, анафемы!..
Хор остановился.
– Плясовую… Тр-рогай!
Хор моментально тронул «Сени». Со стула сорвалась красивая смуглая цыганка и, сверкая черными, как агат, очами, ветром пронеслась по зале.