Текст книги "Застолье Петра Вайля"
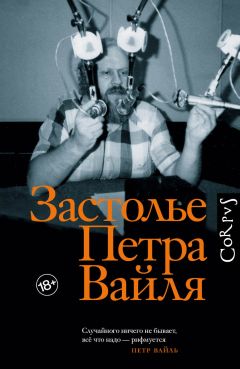
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Из очерка Петра Вайля о Чечне
В Чечне я увидал и ощутил огромное количество горя. Именно так: в неких арифметически измеряемых величинах, больших и тяжелых. Горя вокруг было столько, сколько, боюсь, мне бы не выдержать – если б не изумление перед способностью человека выживать. Как нет предела роскоши и комфорту, так не достать дна в снижении к первичным основам жизни.
Я спускался в бомбоубежище в Грозном, где в семи крошечных помещениях три месяца жили семьдесят четыре человека. Было больше двухсот. Восьмерых убило: в разное время, но всех при выносе параши – большого бидона из-под молока. Остальные разъехались по родственникам, когда кончилась бомбежка. Этим семидесяти четырем идти некуда, они переругались, их дети передрались, каждый уверен, что сосед извлек из пакета гуманитарной помощи сыр, оставив ему пшено, а когда мы принесли детям шоколад и печенье, гвалт дележки доносился вслед еще несколько кварталов. Они научились позировать перед фотоаппаратом и делать паузу при перезарядке магнитофонной кассеты, возобновляя речь с привычного вопля. Они ходят за хлебом, выносят парашу, вместе варят еду в парке у себя над головой, возле университета, на углу улиц Ноя Буачидзе и Интернациональной. Не могу понять, легче или тяжелее, когда у трагедии есть точный адрес?
Если городская цивилизация Чечни – давняя и довольно богатая – уничтожена, то подвальная культура усвоена. Многими – накрепко, быть может, на всю жизнь. В погребе наших шалинских хозяев, Магомета и Мариэтты Яхиевых, три месяца безвылазно жили четыре девочки, от пяти до девяти лет. Они не выходили оттуда никогда: даже когда не было слышно канонады, даже когда светило яркое солнце, даже когда я выманивал их конфетами и воздушными шариками. Они играли оранжевыми, желтыми, красными шарами в темном погребе, и, по-моему, им было весело.
Чеченское гостеприимство органично и просто. С Магометом мы познакомились на базаре, а через полчаса сидели на кукольных табуреточках за низеньким столом и пили чай с вишневым вареньем, а женщины уже готовили в отдельной комнате ночлег, а другие ставили на плиту мясо, чтобы подать козырное блюдо чеченской кухни – жижик-галныш: отварную говядину с чесночной подливкой. Третьи во дворе отмывали наши башмаки от грязи. Чеченцы надевают на шерстяные носки галоши с малиновой подкладкой и заостренными носами. Их легко сбросить с ноги на пороге, легко обмыть в придорожной канаве. Чужой с трудом делает шаги по этой земле, облипая вязкой грязью и разнося ее повсюду с собой.
В Шали из всех коммуникаций остался газ, который гнал по трубам горячую воду. В доме было даже жарко, мы выходили на крыльцо со своей бутылкой, непьющие чеченцы делали вид, что не замечают.
Вечером собрались соседи, разлеглись на полу в пальто, в шапках, головами привалившись к горячим трубам, задавали вопросы гостям. Человек из Нью-Йорка вызывал особый интерес: “Борода, скажи, а правда, что в Америке на улицу страшно выходить?”
Через четыре дня мы снова ехали в Шали, воображая, как накупим на базаре всякой мишуры для девочек – Анжелы, Фаризы, Элины и Фатимы. Базары – один из ярких примеров неистребимости жизни. На ящиках – сокращенный прейскурант московских коммерческих киосков: всероссийская национальная еда – “Сникерс” и “Марс”, жвачка, пепси-кола, “Мальборо” с “Кэмелом” и своя специфика – тушенка из армейского рациона, обменянная на курево и алкоголь. Там мы и собирались набрать гостинцев для девочек подземелья.
Но Шали оказался полумертв: три дня бешеной бомбежки, и жители вывели женщин и детей в горы. Исчез и базар: накануне по нему ударили три тяжелых снаряда. Яхиевы-старшие собирались уезжать назавтра. Паспорта еще лежали стопочкой на подоконнике: если попадание и пожар – чтобы схватить сразу. Магомет бродил по двору обреченного дома, словно запоминая забор, яблони, сарай. Жена его сбилась с ног, управляясь со скотиной, и мы предложили помощь.
Впервые в жизни я доил корову и долго сбивал в ручном сепараторе сливки. Мариэтта дивилась моей неуклюжести и наконец спросила: “А что, в Нью-Йорке разве не держат коров?”
Лев Лосев. Прага сейчас очень космополитический город, ее сравнивают с Парижем 20-х годов. Какими бы ни были внешние обстоятельства, мне кажется, что для большинства иностранцев в Праге привлекательно нечто вроде эффекта остранения по Шкловскому – возможность вместе с городом остро ощутить прелесть возвращающейся цивилизации – гостиницы, магазины, кафе, рестораны здесь новые, и вообще все строится, ремонтируется, люди уже улыбаются, но улыбка еще не стала автоматической. Вайлю подходит жить в Праге, потому что поэтика цивилизации – его тема. При этом путевая проза Вайля, смею утверждать, по существу, беспрецедентна в русской литературе. Перефразируя поэта, скажу – он у нас оригинален, потому что чувствует.
Я не хочу втаскивать в разговор путевую прозу прошлого – “Записки русского путешественника” или “Фрегат «Паллада»”, но в ХХ веке так о путешествиях никто из русских не писал. Чувство места – не просто сумма литературных, художественных ассоциаций, смешанных с личными впечатлениями. Речь идет об уникальном переживании автора, передающемся читателю, – вот что я нахожу в путевой прозе Петра Вайля, хотя такое определение обычно относится к лирике.
Лирическими у нас называли и очерки Паустовского, Нагибина, Казакова. Проза Вайля принадлежит совершенно иной эстетической традиции. Если и то и другое обозначать как лирику, то у Паустовского, Нагибина, Казакова песенно-есенинский лиризм, а у Вайля – акмеистический. В первом случае описывается, что я, автор, чувствую, оказавшись в городе N, а во втором описывается самочувствие города N с присутствием автора в нем. Так что, если у прозы Вайля все-таки есть русские прецеденты в путевом жанре, то, наверное, это путевые заметки Мандельштама, Бродского, может быть, Шкловского.
Лучшие вещи Вайля посвящены окраинам цивилизации, будь то Сахалин, Чечня или провинциальные города Европы. Именно там, где цивилизация граничит с природой или с варварством, она переживается особенно остро. Не случайно поэтику окраин цивилизации первыми открыли и освоили англичане и американцы, “просвещенные мореплаватели”, как справедливо называл их Расплюев: Конрад Фостер, Грэм Грин, Хемингуэй, Найпол или Джоан Дидион и Пол Теру, известные главным образом в жанре путешествий. В последнее время особенно популярны стали так называемые репортажи из преисподней – книги о путешествиях в заведомо малопривлекательные места, в края нищеты, унылого прозябания, тусклых ландшафтов. Таковы бестселлеры Рышарда Капущинского “Империя” и Роберта Каплана “Концы света”. Оба писателя путешествовали по бывшему СССР. Меньше всего в книгах Капущинского и Каплана щекотания нервов, сенсационности, больше всего – сочувствия, симпатии к обитателям унылых мест, уважения к их повседневной борьбе за существование.
Я бы хотел, чтобы рассеянные по журналам путешествия Вайля собрались в книгу. Получилась бы сильная, оригинальная и на редкость приятная в чтении книга. Иосиф Бродский ценил Вайля. Мне кажется, он понимал Вайля как интеллектуала с имперской окраины – тип художественного сознания, особенно привлекавший Бродского. Найпол, Дерек Уолкотт, Томас Венцлова, центрально-европейские писатели. “Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря”. В империи, откуда мы родом, “глухой провинцией у моря” были и Ленинград, и Рига. Помимо Вайля, у Бродского были другие друзья – выходцы из Риги: Михаил Барышников и сэр Исайя Берлин.
Татьяна Толстая. Трудно представить себе Петю Вайля облупывающим крутое яйцо или нарезающим полукопченую колбасу на вчерашней газете.
Соавтор, вместе с Александром Генисом, моей любимой книги “Русская кухня в изгнании”, он словом и действием разрушил стереотип русского эмигранта, традиционно прибедняющегося где-то на уголку стола, не убранного после вчерашнего сеанса прибеднения – скорлупа, знаете, кожурки да хрящики. Нет, господа, настоящий художник, он уж художник во всем – от гусиного пера, летающего по тетради в белую ночь, до гусиной печенки в южный полдень. Кто ел Петины омлеты с копченой моцареллой и травами, тому знакомо это чувство: “И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли”.
Петя Вайль не только объездил весь мир и описал его своим легким и умным пером. Чуждый российскому чванству – мы, дескать, хотим в музей, а не в ресторан, – он с равным тщанием исследовал и духовную пищу нашего мира, и перепробовал земные его блюда. Ничто ведь так не говорит о культуре народа, как кухня, будь то консервы из пальмовых сердец или частик в томате. И не только это. Кулинария – это не просто отвлеченное знание, это воспроизведение, воссоздание, постоянное творчество, дружба народов трижды в день за накрытым столом. Поесть-то любят все, но неизжитые комплексы интеллигентов-шестидесятников часто мешают нам вполне отдаться этой страсти: что мы, есть сюда пришли? Да, мы, в частности, пришли в этот мир, чтобы поесть и порадоваться. Человек с поварешкой – миротворец во всех смыслах этого слова. Мятущиеся герои русской литературы начинают с того, что воротят нос во французском ресторане, а кончают тем, что гордо гибнут, зажав зубами концы телефонного провода. По-моему, невкусно. Не пробовали они Петиных креветок, истомленных в горячей клюкве с томатом.
Стиль – это человек. Правило это верно не только за письменным столом, но и в кухне. Кулинария, так же как и литература, – искусство неожиданного и почтение к традиции, эрудиция и поиск новых путей, смелые стилистические оксюмороны. В кастрюле, как и в тексте, есть свои законы, и все мы, те, кто попробовал Петины кулинарные чудеса и завистливо выпросил рецептик, свято записывали заповеди мэтра. После Петиного отъезда из Нью-Йорка мы, русские американцы, словно бы осиротели. Мы звоним друг другу и спрашиваем: “А ты помнишь, как у него сломалась плита и он готовил фазана в электрическом кофейнике?”
А вашингтонский журналист Илья Левин, сам прекрасный кулинар, рассказал, как он ночевал у Пети Вайля на Манхэттене. Роскошный ужин, правильная выпивка, сплошная кулинарная поэзия. Потом постелили ему на диване в кабинете. “Проснулся я, – говорит, – утром, вокруг все книги, книги, книги…. Хорошо так чувствую себя, просто Пушкиным. Вышел я на кухню, говорю: «Петя, чувствую себя Пушкиным, только морошки не хватает»”. И что же? Не говоря ни слова, Петя открыл холодильник и подал Илье моченой морошки. “Вот тогда я понял, – говорит Левин, – что передо мной великий человек”.
Владимир Уфлянд глазами Иосифа Бродского
Программа: “Поверх барьеров”
Ведущий: Иван Толстой
25 января 1997 года
Петр Вайль. У Иосифа Бродского была замечательная черта – верность друзьям юности. Им, даже тем из них, в ком успел разочароваться за годы разлуки или во время новой встречи через много лет, он как бы считал своим долгом помогать и содействовать чем возможно. Но что касается Уфлянда, здесь классического конфликта долга и чувства не было. Уфлянда Бродский, попросту говоря, очень любил, у него даже голос менялся, когда он заговаривал о “Володичке”. Тут было полное совпадение во всех сферах – любовь к старому другу, к прекрасному человеку и любовь к его стихам, в которых предельная простота сочетается с подлинной философичностью и абсурд удивительно реалистичен.
У Бродского практически на всех его выступлениях спрашивали, кого он считает лучшими современными русскими поэтами. Он называл несколько имен. Из литераторов своего поколения это обычно были Евгений Рейн, Лев Лосев, Александр Кушнер. Из более молодых – Сергей Гандлевский, Денис Новиков, Владимир Гандельсман. Набор имен мог меняться, но Владимир Уфлянд в этом перечне присутствовал неизменно. Больше того, не раз, не два и не три я был свидетелем такого: Бродского просили что-нибудь почитать, а он отвечал: “Давайте я лучше почитаю Уфлянда”. И читал Уфлянда.
О последнем стихотворении Бродского
Программа: “Поверх барьеров”
Ведущий: Иван Толстой
27 января 1997 года
Петр Вайль. В первую годовщину смерти Иосифа Бродского я бы хотел сказать о его последнем стихотворении. Это написанный буквально за несколько дней до кончины “Август”. Стихотворение являет собой как бы сразу три различных знака читательского препинания. Разумеется, это точка: единственное стихотворение Бродского, датированное 96-м годом, стало его последним. Это несомненный восклицательный знак трагедии: по “Августу” можно судить, на каком подъеме находился поэт, как забирался все выше, хотя, казалось, уж некуда. И наконец, это вопросы, как и почему в заснеженном Нью-Йорке он писал о жаре маленьких городов.
Обозначения временных вех встречаются у Бродского во множестве, но вот имена месяцев – нечасто: на все почти сорокалетнее сочинительство – полсотни с небольшим упоминаний, в заголовках же всего полтора десятка. Здесь первенство у зимы, еще точнее – как раз у января.
В январе случаются важные события интимной жизни; в январе поэт оказывается в любимых местах – Крыму, Риме, Массачусетсе – и фиксирует это; в местах нелюбимых, но незабываемых (“Прошел январь за окнами тюрьмы…”); в январе 65-го, за тридцать один год до того, как это произошло с ним самим, Бродский написал: “Он умер в январе, в начале года…”.
Всегда есть соблазн прочесть в строках гениального поэта предсказание, расслышать пророчество, ощутить предчувствие.
К январю 96-го Бродский завершил сразу несколько важнейших дел: вышел сборник эссе, были подготовлены для издания книги стихов – по-английски и по-русски. Обычно довольно медлительный в этих делах, Бродский был непривычно энергичен, теперь кажется – спешил. Теперь кажется значащим и то, что именно в последние дни – замыкая бог знает что: некую поэтически-жизненную параболу, что ли, – он читал почти исключительно Пушкина и много говорил о нем (“загорелый подросток” – вот оно, “племя младое, незнакомое”).
Я понимаю условность, субъективность всех подобных выкладок: назовем это попыткой рационализации горя.
Так что означает август в январе?
Когда-то, в середине 60-х, август у Бродского фигурировал – дважды – как “месяц ласточек и крыш”. Но затем приобрел вес и значение – попал, обернувшись женским именем, в заглавие единственной в русской литературе книги, все стихотворения которой посвящены одной женщине, – “Новые стансы к Августе”.
В 88-м “Дождь в августе” написан о смерти отца:
…Втроем за ужином
мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,
совершенно моим, но дальностью лет приглушенным
голосом: “Ну и ливень”.
Свои собственные ассоциации – в данном случае любовь и смерть – поэт не забывает. Но и чужие – тоже. До января 96-го в русской поэзии был только один “Август” – пастернаковский. Цветаева и Мандельштам занимали больше места в поэтическом обиходе Бродского, Ахматова – в жизненном. Но именно вслед Пастернаку он написал стихотворение “Рождественская звезда”, вернувшись в 87-м из Стокгольма, так что евангельский мотив был окрашен нобелевскими обстоятельствами. И вот – еще один повтор заглавия, а значит, исподволь, темы. Надо ли напоминать, о чем тот, пастернаковский, “Август”:
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
У Бродского ни слова впрямую о смерти, но аллюзия безошибочная: в судьбоносном январе появляется судьбоносный август.
Остается мелочь – что это за маленькие города? В контексте Бродского последних десятилетий – вроде бы его любимая американская провинция: Новая Англия или Средний Запад. Но вглядимся: специфического признака – ни одного.
Совсем иное дело с прежними “маленькими городками” – они ведь встречались и раньше:
В маленьких городках узнаешь людей
не в лицо, но по спинам длинных очередей;
и населенье в субботу выстраивалось гуськом,
как караван в пустыне, за сах. песком…
Тут узнавание полное – ясно, где такие места. Новые “маленькие города” совсем иные. Они всевременные и вселенские. Они существуют везде и всегда. Эти города звучат приглушенным голосом отца и откликаются на имя давней возлюбленной, над их крышами вьются ласточки, залетая к погосту, где уже вырыта по росту яма. Эти маленькие города называются “жизнь”, поэтический псевдоним – “Август”.
В январе 96-го Иосиф Бродский не столько предсказал смерть, сколько попрощался с жизнью.
Памяти Андрея Синявского
Программа: “Поверх барьеров”
Ведущий: Иван Толстой
25 февраля 1997 года
Петр Вайль. Строго говоря, если из жизни ушел Андрей Донатович Синявский, по профессии литератор, то из русской литературы сразу два писателя – Андрей Синявский и Абрам Терц. И этим двум именам больше, чем кому-либо еще, отечественная словесность обязана ощущением свободы, легкости, дерзости. Отечественный писатель – чувством освобождения от тяжелых обязательных оков наставника народов и властителя дум.
В глухие советские времена благополучный литературовед и критик Андрей Синявский стал печататься на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Был вскоре посажен. И беспрецедентный процесс 1966 года, на котором литераторов Андрея Синявского и Юлия Даниэля судили за литературные произведения, даже не придумывая других поводов, прогремел на весь мир и во многом стал отправной точкой движения инакомыслящих. Попав в мордовские лагеря, Синявский-Терц ответил так, как мог ответить только он: написал, маскируя главы под письма к жене, книгу о самом свободном человеке российской истории – “Прогулки с Пушкиным”.
И написал ее как свободный человек, впервые отделив поэта от хрестоматии.
Отсидев, Синявский уехал во Францию, где уже открыто воссоединился со своим двойником Абрамом Терцем. Он (или они) написал много. Это была и свойственная ему гротескная беллетристика, и тот причудливый жанр художественной литературы о художественной литературе, который легче всего обозначить просто именем Синявского. Книги о Пушкине, Гоголе, Розанове, о русском фольклоре…
Опять-таки, обращу внимание на то, что героями его всегда были свободные творцы. Таков был сам Синявский, что никак не облегчало его жизнь.
Уникальный случай в мировой словесности – он был не принят и так или иначе осужден при трех различных социальных ситуациях, в различных общественных климатах. Советская власть его отправила за решетку, эмигрантская среда назвала “вторым Дантесом”, перестроечная Россия заклеймила клеветником и русофобом. Однако писатель сам творит свою биографию, и в истории российской культуры останутся и извивы творческой судьбы Синявского, и его книги. Главное – книги. И еще главнее – явленный им образец творческой независимости.
Синявский-Терц – писатель слишком самобытный и яркий, чтобы иметь прямых последователей. Его заслуга больше и шире. Он создал модель поведения и показал пример отношения к литературе.
Я знал Андрея Донатовича на протяжении восемнадцати лет. Это был тихий невысокий человек с седой бородой, похожий на мирного домового. Его задевали и оскорбляли несправедливые нападки, но не поколебали ничуть. Этот домовой знал выбранное много лет назад дело – хранил свой дом, которым была свободная русская словесность.
О Льве Лосеве
Программа: “Поверх барьеров”
Ведущий: Иван Толстой
14 июня 1997 года
Петр Вайль. Место, которое Лев Лосев занимает в нашей литературе и в литературном процессе, уникально. Напомню разницу: литература – то, что написано, литературный процесс – обстоятельства, в которых создается написанное. Обстоятельства эти во все эпохи, на всех широтах трудны, не в последнюю очередь потому, что литературный народ не слишком тепло относится друг к другу. Это естественно. Если верно определение, что поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке, то сколько может быть лучших порядков?
Отсюда и самомнение, и ревность, и зависть, и недоброжелательство. И вот тут Лев Лосев резко выделяется. Его все уважают. Его литературная фигура обладает мощным авторитетом: “А Лосев сказал”, “А Лосев считает не так”.
Можно было бы сослаться на солидность, основательность его занятий. Ничего подобного. Основательность явлена в мастерстве, но какая солидность у литератора, позволяющего себе такие вольности в стихах, что не всякий юный авангардист осмелится.
Интересно, есть такая поэтическая категория – авторитетность? Если нет, введем для Лосева. Однажды, года два назад, я спросил Иосифа Бродского, относился ли он когда-нибудь, кроме детства и отрочества, разумеется, к кому-либо как к старшему. Он вдруг стал серьезен, задумался, потом сказал, что в какой-то период – к Чеславу Милошу, и всю жизнь, с юности и по ту пору – к Лосеву. По-моему, Бродский сам был несколько озадачен собственным умозаключением.
Что касается литературы, поэзии, Лосев сочиняет стихи, узнаваемые сразу, ни на кого и ни на что не похожие. Я хорошо помню, как прочел их впервые. Подборка, самая первая поэтическая публикация Лосева, появилась в 1979-м в парижском журнале “Эхо” и произвела впечатление какой-то мистификации. Помню ощущение: так не бывает. Не бывает, чтобы вдруг, разом, единым махом появился поэт совершенно зрелый, виртуозный, сильный, оригинальный, мыслящий. Но это я, кажется, начинаю цитировать пушкинские слова. Ничего не поделаешь. Со времен Пушкина, сказавшего о Баратынском: “Он у нас оригинален, ибо мыслит”, изменилось немногое. Разумеется, четыре десятка лет присутствия в отечественной поэзии Бродского даром не прошли, стихи стали умнее, но пока речь идет обычно об имитации, настоящие последствия впереди.
Тем более поразительно, как параллельно своему великому другу, не похоже на него, совсем по-своему движется интеллектуальная поэзия Льва Лосева. Впрочем, это словосочетание, хоть оно и верно, уж очень неполно. Очень не хочется сводить стихи Лосева к изумительной версификации, едкому остроумию, тонким наблюдениям, глубоким мыслям. Мало что ли этого? Мало. Фрагменты из Лосева я читаю вслух чаще, чем стихи кого-либо другого. Это уместно, это эффектно, это выигрышно. Но про себя его строки бормочешь не оттого, что ими восхищаешься, а потому, что они для тебя и про тебя написаны. То неуловимое, неопределимое и неописуемое качество, которое делает поэзию настоящей, попытался обозначить сам Лосев в стихотворении “Читая Милоша”: “И кто-то прижал мое горло рукой и снова его отпустил”. Пятнадцать лет назад я прочел эту простую строчку и вспоминаю всякий раз, когда читаю Лосева.
Кроме двух-трех начальных нот
и черного бревна в огне,
никто со мной не помянет
того, что умерло во мне.
А чем прикажешь поминать —
молчаньем русских аонид?
А как прикажешь понимать,
что страшно трубку поднимать,
а телефон звонит.
Или вот это:
… А это что еще такое?
А это – зеркало, такое стеклецо,
чтоб увидать со щеткой за щекою
судьбы перемещенное лицо.
Вот и формула, одна из многих замечательных лосевских формул – “судьбы перемещенное лицо”. Это он про себя, конечно, но и я подпишусь, если он не против.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































