Текст книги "Застолье Петра Вайля"
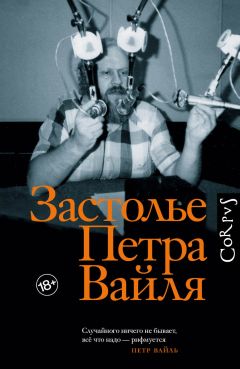
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Памяти Анри Труайя
Программа: “Время «Свободы»”
Ведущий: Андрей Шарый
5 марта 2007 года
Петр Вайль. Я не думаю, что кто-нибудь с чистым сердцем мог бы сказать, что Анри Труайя великий писатель. Я бы сказал, что его место в литературе и в общественной жизни исключительной важности. Он великий просветитель. Вообще-то он начинал как романист и Гонкуровскую премию получил в двадцать семь лет. Между прочим, заметьте, в двадцать семь лет – за роман! Потом сделал своей стезей биографию и написал более ста книг, из них половина так или иначе связана с Россией. Все знают, что он русский. Следующее знание, поскольку семья принадлежала к Армянской церкви, – что они из армян. Но и это неверно. Они были черкесы. Тарасовы были черкесы. Один из их предков звался Торос, а когда обрусели, то Торос-Тарас – и они сделались Тарасовыми.
Отец Анри Труайя был богатым коммерсантом, владел какой-то железной дорогой. Кстати, их дом до сих пор в Скатертном переулке в Москве сохранился.
Если мы посмотрим на список персон, которым посвящал свои книги Анри Труайя, то рискуем оказаться в тупике и недоумении. Как можно, например, быть специалистом, писать про Ивана Грозного и Екатерину Великую – и в то же время про Гюстава Флобера и Эмиля Золя.
Андрей Шарый. Во французской литературе есть такая традиция – Андре Моруа, один из лучших биографов, тоже разбрасывался невероятно. Чьи только биографии он не писал!
П. В. Моруа гораздо меньше разбрасывался, он все-таки держался в рамках эпохи. От Ивана Грозного до Марины Цветаевой, согласитесь, далекое расстояние, а если сюда подключить и французов, то понятно, что настоящим, глубоким и узким специалистом стать невозможно. Поэтому есть масса претензий к книгам Труайя у русских специалистов. В частности, в книге о Цветаевой российские знатоки нашли массу неточностей, ошибок мелких. Это все верно, это все так. Но роль же Труайя – не ученого, а просветителя и популяризатора! Какое количество людей возьмет в руки академическую, скажем, биографию Цветаевой, набитую ссылками, сносками, комментариями и так далее? Сотни человек. А книгу Труайя прочтут сотни тысяч. Такая роль прививания любви к истории и к литературе мало кому была отведена в ХХ веке. Анри Труайя – один из них.
А.Ш. Что полезнее для общественного просвещения: такие написанные легким, хорошим, иногда блестящим, как у Труайя, языком книги, которые содержат фактические ошибки и в любом случае являются очень субъективными, поскольку это подход литератора, а не исследователя, либо серьезные научные монографии?
П. В. Все нужно в разной дозировке. В моей юности Труайя не было, в Советском Союзе его не издавали тогда. А Фейхтвангер был. Исторические сочинения Фейхтвангера я взрослым уже перечитывать не в состоянии, потому что это очень слабая история и слабоватая литература. Но я бесконечно благодарен Фейхтвангеру, что такие писатели, как он, привили мне любовь к истории и интерес. Роль этих людей колоссальна! Какое количество людей, во Франции и в России только, заинтересовались литературой и историей благодаря Анри Труайя! Уже за это нужно ставить памятник.
Журнальный стол
Советский театр сегодня
Программа: “Культура. Судьбы. Время”
Ведущая: Виктория Семенова
1 апреля 1986 года
Виктория Семенова. Советская театральная сцена чрезмерно заполнена в наши дни партийно-номенклатурным пафосом – таково впечатление журналиста Андрея Двинского, которому мы и передаем микрофон.
Андрей Двинский (Петр Вайль). Более ста лет тому назад, в конце 70-х годов XIX века, Салтыков-Щедрин в книге “В среде умеренности и аккуратности” ввел в активный обиход выражение “кукиш в кармане”. Это было время бурного кипения гражданских страстей, общественной жизни, время смены ориентиров. Тогда-то Салтыков-Щедрин и определил целую группу, говоря по-современному, творческой интеллигенции, как людей, разработавших, по его словам, “целую систему показываемых в кармане кукишей”. Что означает это выражение, пояснять вряд ли нужно. Это псевдосмелость, робкая бравада в рамках разрешенного, бескомпромиссность за спиной и за глаза.
Недавняя “Литературная газета” с восторгом пишет о пьесе Александра Гельмана “Обратная связь”: “А. Гельман смело вывел драму на площадку, казалось бы, мало оборудованную для театрального действа, – кабинеты руководящих лиц разного ранга, их приемная. Заставил героев проявлять себя на совещаниях, в постоянных телефонных разговорах, в несменяемом служебном интерьере”.
Действительно, театральная сцена стала напоминать партийное собрание. И произошло неожиданное. Театр потихоньку стал превращаться в партийное собрание не только по форме, но и по сути. То есть автор пьесы, режиссер, актеры – это президиум собрания, а зрители собравшиеся – рядовые члены.
Эта партийно-лицедейская эпидемия распространилась по всей стране. В Ташкенте, например, на ура идет спектакль “Говори!” по мотивам очерков “Районные будни” Валентина Овечкина. Снова умиляется “Литературная газета”: “Финальный эпизод – районная партконференция. Доярка читает, сбиваясь, кем-то для нее состряпанную речь. Секретарь райкома Мартынов берет у колхозницы листки и просит: «Говори! У тебя есть что сказать – говори!» После спектакля Сергей Федорович Бондарчук признался постановщику: “Когда у вас мальчик из толпы крикнул: «Теть, ну говори же!» – у меня перехватило горло”.
Почему же так перехватывает горло от этой насквозь фальшивой и ходульной сцены у корреспондента “Литературки” и у маститого режиссера Бондарчука? Дело в том, что срабатывает эффект “кукиша в кармане”. Зритель охотно находит в спектакле то, что хочет найти. То, чего на самом деле нет. Можно, конечно, вообразить, что теперь решения на конференциях будут принимать не партийные бюрократы, а простые колхозницы. Во всяком случае, так хочется думать. Правда, мечта от этого не становится явью, но зритель благодарен спектаклю за минутную иллюзию.
Так теряется различие между подлинником и подделкой, между настоящим продуктом и суррогатом. Это как если понемногу добавлять в кофе цикорий, все увеличивая добавку, и вот уже незаметно, что в напитке самого кофе почти не осталось.
Тут надо сохранить объективность. Разумеется, сатира нужна, и то, что сатирические спектакли появляются на советской сцене, – явление прогрессивное и ценное. Но только не надо путать секретаря райкома с Гамлетом. У шекспировского героя вопрос стоит – “быть или не быть?”, а у советского партийца – быть или не быть секретарем райкома. Это еще в самом крайнем случае. Пафос разоблачительства оказывается на поверку дутым и преувеличенным.
Это хорошо видно на примере главной театральной сенсации последнего времени, постановки МХАТа по пьесе драматурга Мишарина “Серебряная свадьба”. В провинциальный город приезжает большой партийный начальник из Москвы – навестить родные места. Среди местных низовых партработников (многие из них – друзья его детства) москвич обнаруживает коррупцию, злоупотребления, чуть ли не прямую уголовщину. Действуя принципиально и решительно, гость наводит порядок. Вот и все.
Уместно задать вопросы: а что, если бы гость был чуть менее принципиален, если бы он больше тяготел к рыбной ловле, охоте, финской бане? Если бы чуть больше выпил? Если бы вообще поехал отдыхать в Сочи, а не на родину. В этом случае в провинциальном городе все продолжалось бы по-прежнему, как продолжается по всему Советскому Союзу. Спектакль отмерил точно дозволенную долю критики – дескать, есть некоторые отдельные нетипичные недостатки, с которыми идет успешная борьба. Центральный комитет отправляет своего посланца, недреманным оком сверху заметив неладное, и московский партаппаратчик является, как в греческой трагедии является божество, призванное разрешить все проблемы. Но зритель валом валит на “Серебряную свадьбу” за неимением лучшего. Бог знает, кого он поминает про себя, глядя на сцену, и кому показывает “в кармане кукиш”.
Так или иначе, пар выходит и страсть к разоблачению и правде временно удовлетворена. Наверное, глядя на современного советского интеллигента, Салтыков-Щедрин непременно бы снова взялся за перо.
Японские впечатления
Программа: “Поверх барьеров”
Ведущий: Петр Вайль
25 июня 1989 года
Петр Вайль. Я вернулся из Японии и, конечно, сразу собирался поделиться своими впечатлениями в нашей программе. Но шло время, и я все не знал, как к этому подступиться. Уроки Японии оказались столь ярки и необычны, что их очень трудно и осознать, и тем более внятно о них рассказать, уложить в некий комплект. Я бы сказал, тут такая же разница, как между европейским или русским букетом и японской икебаной – традиционным искусством аранжировки цветов. В любом букете отдельный цветок приобретает особое значение, соединяясь с другими, но в японском эта связь ослаблена. Вот я и решил отказаться от связного повествования, пойти по японскому пути. Назовем такой текст, допустим, “звуковой икебаной”.
Символ Японии – знаменитый вулкан Фудзияма. Я его так и не видел, хотя забрался довольно высоко в горы с такой именно целью. Но думаю, что так и должно быть, все правильно. Правда, меня не спросили, хочу ли я видеть Фудзияму или нет, просто не показали: она почти всегда в облаках. Образ ускользает, что, по-моему, и задумано: не зря у японцев очень много привидений и духов в живописи и в литературе. И вообще, идея недоговоренности – господствующая. В классическом искусстве Запада художник знает примерно столько же, сколько умеет изобразить, в современном может знать меньше, чем уметь. Японский художник всегда оставляет в запасе так много, что возникает комплекс неполноценности и уверенность в том, что сталкиваешься с чем-то превосходящим – интеллектуально, чувственно, духовно. Когда-то для Запада стало потрясением, что японец оставляет нетронутыми три четверти холста. Вот и Фудзияма должна не красоваться, а подразумеваться. О ней, как и обо всей Японии, можно и нужно не знать, а догадываться.
Уже с самолета начинается фантастический японский сервис. В самолете компании Japan Airlines стюардесс больше, чем на любых других линиях. Но потом понимаешь, что это как в футболе: если команда лучше играет, кажется, что игроков у нее больше. Японки лучше играют – беспрерывно появляются с подушками, журналами или чайниками. Но, надо сказать, и с перебором. Я развалился на свободных местах, заснул. Меня разбудили, сказали, что все в порядке, я могу спать, никто будить не станет. Поневоле вспомнишь анекдот про ненавязчивый советский сервис: “Не нравится – катись”.
Но всерьез если говорить, обслуживание впечатляет. Кондуктор входит в вагон поезда, низко кланяется пассажирам и только потом начинает проверять билеты. Я не видел, чтобы попался безбилетник, но думаю, что и его отводят в полицию с поклонами. Шоферы такси все в белых перчатках и с манерами маркизов. У меня знакомых маркизов нет, но у них должны быть, по-моему, именно такие манеры. То же самое – официанты, швейцары, продавцы. Никаких чаевых, конечно. Не придет ведь в голову дать на чай маркизу. Я раз в кафе оставил по привычке на столе мелочь – так за мной гнались два квартала, чтобы вернуть эти три монетки.
Перед путешествием много читаешь про народ и страну. Прочел я про японский патриотизм, граничащий с заносчивостью и ксенофобией, и сразу же усмотрел дискриминацию по признаку чая. В самолете обычный черный чай разносят в стальном сосуде, а японский, зеленый – в изящной керамике. Правда, зеленый чай там вкуснее, это надо признать. Вот и вся ксенофобия, с которой сталкивается путешественник. Кстати, в Японии я каждый день по нескольку раз с огромным удовольствием пил зеленый чай. Вернувшись, купил сразу килограмм и ни разу не заварил. Конечно, тут дело в конформизме. Но среди японцев так легко стать конформистом: они создают некое силовое поле, вовлекаясь в которое начинаешь жить по их законам. И ведь никто не принуждает.
Например, я по своим российско-американским привычкам всегда перехожу улицу, глядя не на светофор, а на присутствие или отсутствие машин, и не только в Америке, но и в дисциплинированной Германии, например. А вот в Японии послушно стоял на пустых перекрестках, дожидаясь зеленого света. Никто, разумеется, не осудит (корректность повсюду, повторяю, безупречная), но есть ощущение, что все окружающие буквально умрут, если ты двинешься на красный свет. Умрут даже не от стыда или страха за тебя, а просто перед лицом не имеющего названия ужаса.
Токио – один из самых уродливых городов, которые я видел. Наш эклектичный Нью-Йорк рядом с Токио – чудо гармонии, Версаль. Снова ощущается, как и с сервисом, перебор. Япония дальше всех ушла по пути технической цивилизации. Кажется, что дальше, чем нужно. Вокруг – нагромождение конструкций, режущих глаз. И дальше, на всем протяжении от Токио до Осаки, как будто рабочие окраины Магнитогорска, только внезапно выросшие вверх и вширь. И чем дольше я был в Японии, тем больше задумывался: как же они готовы пренебречь внешним видом ради внутреннего, как они озабочены интерьером.
Отдельный разговор – советская тема в Японии. Я каждый день читал местные газеты. Я не владею, конечно, японским, где уж там, просто в этой во всем сверхразвитой стране выходят четыре ежедневные англоязычные газеты. Так вот, острый интерес к Советскому Союзу присутствует, и немалую роль в этом играет давняя обида за пол-Сахалина, Кунашир, Шикотан. А где обида – там всегда неравнодушие, интерес. В то время, когда я был там, в двух кинотеатрах Токио и одном в Киото шли ретроспективы Тарковского, “Мой друг Иван Лапшин” Алексея Германа, в театральном репертуаре – Чехов, “Вишневый сад”. Но это, я думаю, чисто апрельская примета – время цветения японской вишни, сакуры. “Вишневый сад” – сезонный спектакль.
Как-то я включил в гостинице телевизор и попал на урок русского языка.
– Меня зовут Лена. А как вас зовут?
– Меня зовут Андрей.
И так далее. Потом эстрадный певец исполнял песню. Слова до того диковинные, что я даже списал их:
Яблоки на снегу в розовой нежной коже.
Ты им еще поможешь, я себе не могу.
А по низу идут японские титры. Я представил себе телезрителей. Думают, наверное: как близки, если разобраться, эти русские с их чисто японскими символами! Ведь в каждом японском стихотворении присутствует так называемый Ки – элемент, вызывающий ассоциации с временем года и определенным настроением. Допустим, какая-нибудь умолкшая цикада непременно означает возлюбленного, навсегда ушедшего в сентябрьских сумерках. Но откуда же японцам знать, что яблоки на снегу – никакой не символ, а просто набор слов, возникший в сумеречном сознании массовой культуры.
Япония на девяносто девять с половиной процентов состоит из японцев. На фоне такого единообразия поневоле встречаешь как знакомого каждого человека европейской внешности. Лицо – как визитная карточка. Ясно, что тебе с ним по пути. Даже и буквально – не на промышленный же гигант он направляется, а, как и ты, в храм, в музей, в ресторан.
Особо проявляется редкая славянская близость. В Киото, у монастыря Дайтоку, я был участником случайной встречи русских из Нью-Йорка, чехов из Кейптауна и поляков из Мельбурна. В такой встрече есть грустный оттенок. Что-то ведь побудило всех этих людей покинуть соседние родины и так просторно рассеяться по свету. Но, верный своему оптимизму, я вижу в таком факте знак меняющегося мира, мира тотально проницаемого. О чем-то это говорит. Да попросту о том, что границ становится все меньше. А главное, это делается все привычнее. Только представить – люди из Европы, обитающие в Америке, Африке и Австралии, встретились в Азии. И всего только назвали друг другу имена, выпили пива и разошлись, как будто так и надо. Значит, так и надо.
Один из самых интересных эпизодов путешествия – японская традиционная гостиница риокан. Суровость и простота – предельные. На завтрак – рис с сырым яйцом и плошка жидкого бульона. Вся мебель в комнате – столик высотой тридцать сантиметров и две подушки для сидения. Постели вынимают перед сном из шкафа и стелют на пол.
Вечером лил дождь, никуда не выйдешь, можно только наливаться зеленым чаем в ожидании сатори – просветления. Читать на полу как-то нелепо. Писать открытки лежа еще труднее. Телевизора нет. Здесь все как тысячу лет назад. И не пожалуешься – сам напросился для полноты впечатлений. Причем заплатил за эти сомнительные удобства куда дороже, чем за нормальный отель. Что делать, экзотика. А экзотика – в цене. Аскетизм – более редкий товар, чем комфорт, диета разорительнее, чем чревоугодие.
Вот лежишь на полу в японском риокане и представляешь себе, какие риоканы можно было бы соорудить в России для туристов: с ночевкой на печи, с кадкой соленых огурцов в сенях, на ужин – водка с кашей. Между прочим, все веселее. А тут поневоле самосовершенствуешься, рассматривая рисунок потолочных досок, витиеватый узор, напоминающий иероглифы. Все, естественно, не крашеное – это один из основных принципов японской эстетики – саби. Простота. Проще некуда.
Как известно, при входе в дом в Японии положено снимать обувь. Я заметил, что эта простая операция сразу выбивает иностранца из колеи. Он становится покорным и запуганным. Даже американцы в риокане говорят тихо, встают к завтраку по команде, лезут в общую ванну, где до этого кто-то уже лежал, мирятся с японской уборной, которая больше всего мне напомнила годы армейской службы. Но сразу, только надев туфли в прихожей и выйдя на утицу, турист снова становится хозяином жизни. Какая все-таки рабская зависимость от вещей и вещевого этикета! Как будто вся сила человека в ботинках. А если бы надо было снимать брюки?
Необходимая часть туристского набора – театр Кабуки. Все не так: женщин играют мужчины, но в мужских ролях ходят на высоких каблуках и в чем-то вроде юбок. Оживленная беседа идет по принципу джазового джем-сейшена – все садятся на авансцене и по очереди выдают монологи. Ударение в японском музыкальное, обозначенное высотой тона, так что аналогия с джазом полная. Альт-саксофон визгливо надрывается – девушку выдают за нелюбимого.
С пьесой у меня был сюрприз. Вместо ожидаемых героев в масках, с самурайскими мечами, чтобы прыгали и рубились, мещанская драма. Купец умер, дело гибнет, дочь надо выдать за богатого, а она любит другого. Называется “Брадобрей Синдза”. Автор – Каватаси Макуами. Видно, местный Островский. Так что проникаешь в проблематику досконально. Но тут замечаешь, что у героини, которая все-таки мужчина, зачернены зубы. При густо выбеленном лице это делается для создания контраста, чтобы белый цвет зубов не отвлекал от белизны лица. Опять эстетический перебор. А как же принципы естественности и простоты?
Молодежь в театре Кабуки сидит, как и туристы, с наушниками. Только у них не английский, конечно, а перевод с японского на японский современный. Костюмы на публике тоже современные. Кимоно на молодых я не видел ни разу, если это была не майко, будущая гейша. У пожилых встречается красивый компромисс. Мужчина – в строгом европейском костюме, женщина – в кимоно. Пятидесятипроцентный компромисс виден и в ресторанах, даже тех, которые считаются традиционными. Второй этаж – для соблюдающих старинные нормы сидения за столом, а первый – на выбор. Низкие столы, подушки, но под столом – выемка, куда можно спустить ноги. Я посмотрел вокруг. Четыре пятых примерно молодых японцев сидели, как я.
Любовь японцев к фотографированию общеизвестна. Нет такого туристского объекта в Старом и Новом Свете, вокруг которого не толпились бы японцы с камерами в руках. Но, оказывается, они вовсю фотографируют и дома. Снимают друг друга на фоне железобетонных конструкций, глухих заборов, автоматов газированной воды. В самолете я видел, как мужичина приник к иллюминатору и сделал десяток снимков. Мой сосед испуганно оторвался от книги, встревоженный вспышками, и стал смотреть наружу: что снимают – птицу, летающую тарелку, знакомого? Но лучше всех были парковые служащие в Камакуре, которые, притом что встречаются ежедневно, все же снимали друг друга, прислонясь к серому фургону и почти прижимая объектив к лицу товарища.
Многократно осмеянная страсть к фотографированию чего и кого угодно, с любого расстояния, десяти километров или десяти сантиметров. Разумеется, это было заложено в японце до изобретения Дагера. Душевный импрессионизм, стремление к фиксации мгновения. Одна из основ японской эстетики – красота быстротечности. Отсюда страсть к кратковременному цветению сакуры. Представление о доблести: умереть молодым. Краткость трехстишия хокку. Стремительный полет камикадзе. Белый мазок кисти по листу. Фотография. Все это вещи одного порядка – попытки запечатлеть мгновение.
Апрель – главный месяц в Японии, цветение вишни-сакуры. Каждый японец знает, куда и когда он должен пойти, чтобы в самое подходящее время дня под самым лучшим ракурсом смотреть на вишню. Фотографируясь, разумеется, под ней. Вообще все народы любят цветение плодовых деревьев. Вспомним “белых яблонь дым”. Должно быть, подсознательно человеку нравится, что дерево цветет не зря, не только для поглощения, для варений и компотов.
Эстетизация быта у японцев доходит до предела, естественно, во дворцах. Даже в тех, где никто не живет. Там остаются жить невиданные нами диковины. Замок Нидзё в Киото. Из страха перед заговорами и покушениями сконструированы так называемые соловьиные полы, устройство, издающее громкий скрип, чтобы было слышно, если кто подкрадывается. Но скрип весьма мелодичный, почти пение. Даже такая неприятная штука продумана эстетически, ведь могли просто понаставить ведер.
Чайная церемония в Камакуре. У храма Цуругаока-Хатимангу ко мне подошли две дамы в кимоно с предложением по-английски: “Любите ли вы зеленый чай?” И тут же у стены храма под огромными платанами устроили чайную церемонию. Лучшую из всех. Потому что сугубо персональную, потому что логично вписанную в пейзаж и, главное, потому что неожиданную. Тут торжествует чисто японская идея случайности как явления обязательного и ожидаемого. Закономерность случайности. Японцы полагают, что на случайность можно и нужно рассчитывать. Они уверены, что чем полнее знания о предстоящем переживании, тем глубже переживание. Японец едет за сотни километров любоваться полнолунием не потому, что над его городом луна не светит. Просто зная столько, проехав столько, получишь наслаждение несравненно большее. А спонтанность появится сама собой. И это тоже предусмотрено. Заранее известно, что внезапно вспорхнет ночная птица, заденет по лицу ветка, упадет под ноги лист. В планировании случайности и есть разница в восприятии. Мы тоже едем за тридевять земель смотреть Джоконду или Ниагарский водопад, но на сюрпризы не рассчитываем, в лучшем случае – робко надеемся.
Идея камикадзе в кулинарии. Торжество случайности – поедание рыбы фугу. Она содержит нечто ядовитое, что может сказаться при неправильной разделке. От ста до двухсот человек в год умирают, что не останавливает других: случай сам разберется. Я заказал фугу в самом отчаянном варианте – сырой. Других не японцев в ресторане не было, и мне показалось, что официант посмотрел на меня с уважением. Хотя вряд ли. Просто я сам себя зауважал. Может, в этом и есть смысл фугу?
Суть чайной церемонии – в эстетизме обыденного. Объекты художественного восторга – чайник, чашка, помазок для взбивания чайного порошка. Можно представить себе водочную церемонию, на которую валом бы валили интуристы в России. Минимализм декора – скажем, сломанная скамейка. Поэзия суровой простоты – граненый стакан, мятый огурец, плавленый сырок. Благоговейный ритуал деления пол-литра на троих. Эмпирическое преодоление теоретически невозможного.
На вокзале в первой столице Японии Наре – статуя Ники Самофракийской. Должно быть, у японцев вызывает недоумение: почему бы не приставить женщине голову и руки? Вот у знаменитой статуи Будды голова отвалилась в землетрясении, сделали новую, и все. Большинство храмов – XIX века. И тоже ничего. Дело в месте, духе, святости традиции, а не в возрасте стройматериала. Привыкнуть к этому трудно. Обычный на Западе вопрос: “Когда это простроено?” – имеет ответ, но не смысл. Синтоистские храмы вообще положено обновлять через определенный срок. Японцы верят, что время уничтожает “не мысли о вещах, но сами вещи” (строка из Бродского). Так зачем же вещи беречь, если их можно сделать заново? Еще и лучше. Будь у них Венера Милосская, они бы ее превратили в Шиву.
Предел условности в искусстве – кукольный театр Бунраку. Федерико Феллини, скажем, включает в кадр оператора с камерой, и мы замираем от авторской смелости, от обнажения приема. А тут с VIII века прилагаются все усилия, чтобы уйти подальше от правдоподобия. Одну некрупную куклу ведут три человека. Первый управляет головой и правой рукой, второй – левой, третий – ногами. И не только не прячутся, хорошо хоть куклу не всегда заслоняют. Раствориться в действе нельзя и не задумано. Любопытно, что в эпоху немого кино во всем мире фильмы шли с аккомпанементом музыки, и только в Японии придумали специальную должность так называемого бенси – он стоял на возвышении возле экрана и пояснял происходящее. В первой трети нашего века лучшие бенси не уступали в популярности самим кинозвездам. Японцы постоянно как бы вносят условность, напоминают, что искусство не есть жизнь, это вещи разные.
Дзен-буддистские сады, знаменитые сады камней – главное, что я вынес из Японии. Страна интерьера здесь превзошла себя. Как борец айкидо сосредотачивается на одной-единственной точке внизу живота, чтобы потом творить богатырские чудеса, Япония собирает все, кажется, свои духовные силы на мельчайшем клочке земли, усыпанном камнями и галькой. В этом алькове посторонним делать нечего. Сад камней – будуар страны. Сад камней – для прогулок, а не для созерцания. Это не часть природы, а нечто соперничающее с ней, самодостаточное. И пустые пространства сада, не занятые ни камнями, ни деревьями, ни мхом, значат не меньше, чем значащие предметы. Недоговоренность, недопоказанность, намек. Так во всем. Над Фудзиямой всегда облачное небо.
Сады и поезда – формула современной Японии, включающая огромный набор антитез. Неподвижность и стремительность, традиция и новаторство, застой и развитие, канон и изменчивость, эзотерика и открытость, самобытность и космополитизм, лаконичность и многообразие, минимализм и усложненность. Поезда “Синкансэн” (“Пуля”) несутся со скоростью двести двадцать километров в час с такой точностью, что на пятисоткилометровой дистанции Токио – Киото в часы пик они отходят каждые четыре минуты. Такого нет нигде в мире.
Но гипотетическая разгадка Японии не в поездах (в принципе, они возможны и в другом месте), а в том, что позволяет существовать этим поездам, – в садах. Антитеза садов создает противовес, необходимый духовному здоровью нации. Отсюда – эстетическая терпимость у столь эстетского народа к безобразным экстерьерам городов. Зачем стараться, когда для прекрасного есть сады? В стиле японской жизни, который в конечном счете определяет и судьбу народа, сады – тот центр, вокруг которого концентрическими кругами может размещаться все что угодно. Именно – что угодно, потому что дзенский сад уже вмещает в себя все. Он уже есть самодостаточная вселенная, поэтому так легко раскрепощаются силы для всего остального. Потому переимчивы и предприимчивы японцы, что главное всегда остается в саду. Всё в саду. Сады и поезда, эта странная пара – всего лишь догадка, всего лишь попытка как-то понять поразительный феномен страны, настолько непохожей на другие, что кто-то назвал Японию “спутником Земли”.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































