Текст книги "Из Африки"
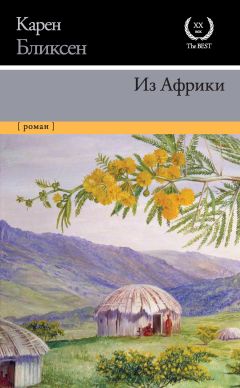
Автор книги: Карен Бликсен
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Во время сафари и в процессе работы на ферме мое знакомство с африканцами постепенно перерастало в тесные, товарищеские отношения. Мы были добрыми друзьями. Я смирилась с тем фактом, что никогда до конца не узнаю и не пойму их, а они знают меня как облупленную и заранее угадывают, какие решения я приму, когда я еще ни на чем не остановилась.
Одно время у меня была маленькая ферма в Гиль-Гиль, где мне приходилось жить в палатке; я путешествовала между Гиль-Гиль и Нгонг на поезде. В Гиль-Гиль дождь мог заставить меня принять мгновенное решение ехать в Нгонг. Но когда я доезжала до Кикуйю – нашей железнодорожной станции, откуда до фермы еще оставалось десять миль, там меня обязательно поджидал человек с фермы и мул. На мой вопрос, как они догадались о моем возвращении, они отводили глаза или испытывали смущение, словно им было страшно или скучно; точно так же реагировали бы мы с вами, если бы глухой потребовал объяснить ему словами симфонию.
Когда же африканцы не ожидали от нас резких движений и внезапных звуков, то беседовали с нами с гораздо большей открытостью, чем беседуют друг с другом европейцы. Положиться на их правдивость было невозможно, зато искренности им было не занимать. В мире местных жителей большое значение имеет доброе имя, иначе именуемое престижем. Наступал момент, когда вам выносилось нечто вроде коллективного приговора, против которого уже никто не поднимет голоса.
Порой жизнь на ферме становилась очень одинокой в вечернем безмолвии, когда истекали одна за другой бесчисленные минуты и меня как будто в том же самом ритме покидала по капле жизнь, настолько мне не хватало белого собеседника. Однако я никогда не переставала чувствовать безмолвное присутствие африканцев, чье существование протекало параллельно моему, но в другой плоскости. Наши души обменивались звучным эхо.
Африканцы представляют собой плоть и кровь Африки. Высокий потухший вулкан Лонгонот, взметнувшийся над рифтовой долиной, раскидистые деревья мимозы вдоль реки, слоны и жирафы – это еще не Африка; Африка – это ее уроженцы, крохотные фигурки на бескрайнем ландшафте. Все они – различные проявления одной и той же идеи, вариации на одну тему. Это не однородное бурление разнородных атомов, а разнородное существование однотипных существ, подобно тому, как желудь и дубовый лист относятся к одному и тому же дубу. Мы своими сапогами и своей постоянной спешкой повергаем пейзаж в трепет, африканцы же живут в согласии с ним, поэтому когда эти рослые, стройные, темнокожие и темноглазые люди пускаются в путь – а делают они это только гуськом, поэтому даже основные африканские транспортные артерии представляют собой узкие пешеходные тропы, – обрабатывают землю, пасут стада, танцуют свои красочные танцы или что-то вам рассказывают, то это странствует, отплясывает и развлекает вас сама Африка. Приходят на ум слова поэта:
Полон достоинства местный,
Пришлый же скучен и вял.
Колония претерпевает изменения, и после моего отъезда там многое стало по-другому. Когда я с максимальной точностью описываю, как мне жилось на ферме, вообще в стране, как складывались мои отношения с жителями равнин и лесов, то питаю надежду, что это может иметь кое-какой исторический интерес.
Африканский ребенок
Каманте звался маленький кикуйю, сынишка одного из моих арендаторов. Я хорошо знала детей своих арендаторов, потому что все они работали на ферме, в свободное время болтались вокруг дома, приглядывая за своими козами на лужайках и надеясь на какие-нибудь интересные происшествия. С мальчиком Каманте вышло иначе: прежде чем я впервые с ним повстречалась, минул не один год; наверное, он до того вел затворническое существование, как хворый зверек.
Я столкнулась с ним в первый раз, когда ехала по полю, где он пас коз своей семьи. Более жалкого зрелища невозможно себе представить. При огромной голове у него было крохотное истощенное тельце, локти и коленки торчали на конечностях, как сучки на палках, обе ноги от бедер до самых ступней были покрыты глубокими язвами. На бескрайнем пространстве поля он казался особенно тщедушным, и меня поразила подобная концентрация страдания. Я остановилась и попыталась с ним заговорить, но он не отвечал и вряд ли вообще меня замечал. Глаза на его плоском и изможденном лице глядели мертво, словно принадлежали трупу. Судя по его виду, ему оставалось прожить от силы несколько недель, и я машинально задрала голову, ожидая увидеть в раскаленном воздухе кружащих над ним стервятников, которые всегда загодя чуют мертвечину. Я велела ему прийти ко мне в дом следующим утром и была полна решимости попробовать его излечить.
Почти каждое утро, с девяти до десяти часов, я занималась врачеванием и, подобно всякому добросовестному лекарю, имела широкий круг пациентов, из которых от двух до дюжины людей ходили в хронических больных.
Кикуйю всегда готовы к непредвиденному и имеют привычку к неожиданностям. Этим они радикально отличаются от белых, которые в своем большинстве стремятся застраховаться от неведомого и от поворотов судьбы. Африканец находится в дружеских отношениях с роком, ибо постоянно пребывает в его руках; рок для него в некотором смысле – родной дом, настолько он привычен к темноте, царящей у него в хижине, и к гниению, которое всегда может поразить его корни. Он спокойно ждет любых перемен в жизни. Среди качеств, которые он ожидал бы увидеть воплощенными в хозяине, враче или Боге, на одном из первых мест стоит, на мой взгляд, воображение. Видимо, такой вкусовой ориентацией объясняется представление обитателей Африки и Аравии о халифе Гарун-аль-Рашиде как об идеальном правителе: ведь он всегда всем преподносил неожиданности. Когда африканцы рассуждают о Боге, то их слова кажутся навеянными «Тысячью и одной ночью» или последними главами книги Иова: на них производят неизгладимое впечатление безграничные возможности человеческого воображения.
Именно этой особенности своего народа я была обязана моей популярностью, даже славой врача. В первое мое плавание к африканскому берегу со мной на борту находился один крупный немецкий ученый, который направлялся туда, кажется, в двадцать третий раз с целью опробовать средства излечения от сонной болезни и везший с собой добрую сотню крыс и морских свинок. По его словам, основной проблемой, с которой он сталкивался, работая с пациентами-африканцами, было не отсутствие в них отваги – они обычно легко соглашались на болезненное обращение и на операцию, – а их глубокая неприязнь ко всякой регулярности, к повторному лечению, к любой системе вообще. Этого крупный немецкий доктор понять, конечно, не мог. Но когда я сама как следует познакомилась с африканцами, мне больше всего понравилось в них именно это свойство. Они обладали подлинной смелостью: их непритворная любовь к опасностям представляла собой истинный ответ создания из плоти и крови на оповещение о его грядущей судьбе, ответ земли на глас небес. Иногда меня посещала мысль, что в глубине души они больше всего боятся нашего педантизма. Попав в руки педанта, они угасают от тоски.
Пациенты ждали своей очереди на террасе перед домом. Кого тут только не было: превратившиеся в скелеты старики, сотрясаемые кашлем, со слезящимися глазами, молодые драчуны с фонарями на лице и рассеченными губами, матери с захворавшими младенцами, виснущими у них на шеях, как увядшие цветы. Мне нередко приходилось иметь дело с сильными ожогами, потому что ночь кикуйю проводят вокруг костров, разведенных посреди хижины, и горящие дрова или угли часто сползают прямо на спящих. Исчерпав все свои запасы медикаментов, я часто обнаруживала, что неплохим средством заживления ожогов является мед.
На террасе царила оживленная, наэлектризованная атмосфера, как в европейском казино. Негромкая беседа при моем появлении стихала, но то была тишина, чреватая всевозможными неожиданностями. Наступал момент, когда могло произойти все что угодно. Все ждали, чтобы я самостоятельно выбрала первого пациента.
Я имела очень ограниченные представления о врачевании, так как окончила всего лишь курс неотложной помощи. Однако моя репутация врача была сцементирована несколькими удачными исцелениями, и сделанные мною катастрофические ошибки уже не могли ее поколебать.
Если бы я могла гарантировать всем пациентам полное выздоровление, то число их, возможно, сократилось бы. Я добилась бы престижа профессионалки, как один врач-чудотворец из Валайи, но сохранилась бы у них уверенность, что мне помогает Бог? Ведь представлению о Боге их учили многолетние засухи, львиный рык, доносившийся до их хижин по ночам, разгуливавшие неподалеку от хижин с младенцами, оставленными на весь день родителями, леопарды, нашествия непонятно откуда бравшейся саранчи, которая не оставляла после себя на поле ни единой былинки. С Богом их знакомили также мгновения нечаянного счастья, когда облако саранчи пролетало над их кукурузными полями, не опускаясь на землю, когда по весне проливались ранние обильные дожди, из-за которых все вокруг покрывалось цветами и поспевал тучный урожай. Поэтому они не испытывали большого доверия к врачу-чудотворцу из Валайи, когда речь заходила о действительно важных вещах.
К моему удивлению, на следующее же утро после нашей встречи Каманте явился на прием. Он стоял в сторонке от остальных трех-четырех больных и, несмотря на полумертвое выражение лица, старался держать спину прямо, словно его еще что-то связывало с жизнью и он решился на отчаянную попытку продлить ее хотя бы немного.
Со временем он проявил себя прекрасным пациентом. Приходил тогда, когда ему было велено, и проявлял способность вести счет времени, безошибочно являясь через три дня на четвертый, чего обычно не приходилось ждать от его соплеменников. Он переносил болезненное лечение язв с такой стойкостью, что я не верила своим глазам. Все это превращало его в образец для подражания, но я не выставляла его таковым, потому что в то же самое время он причинял мне немало душевных страданий.
Мне крайне редко приходилось встречаться до этого со столь же дикими натурами, настолько отгороженными от мира и по собственной твердой воле невосприимчивыми к окружающей жизни. Задавая ему вопрос, я могла добиться от него ответа, но он никогда не произносил ни единого слова по собственному желанию и избегал на меня смотреть. Он был напрочь лишен жалости и с презрительным превосходством реагировал на слезы других больных детей, когда их обмывали или перевязывали, хотя не удостаивал взглядом и их. У него не было желания вступать в какой-либо контакт с окружающим миром, так как он уже успел обжечься и познать жестокость. Силой духа перед лицом боли он походил на старого воина. Старого воина уже ничто, даже самое ужасное, не может удивить: испытания и философия жизни приготовили его к худшему.
Каманте был величественен в своей отрешенности. В его присутствии я вспоминала символ веры Прометея: «Я неотделим от боли, как ты – от ненависти. Рви меня на части: мне все равно. Делай свое дело: ведь ты всесилен». Однако такое отношение к происходящему со стороны столь маленького создания заставляло сжиматься мое сердце. Что подумает Господь, размышляла я, когда перед Ним предстанет такое очерствевшее маленькое существо?
Мне хорошо запомнился момент, когда он впервые посмотрел на меня и соизволил по собственному желанию ко мне обратиться. К тому времени мы уже давно были знакомы; я отказалась от прежнего метода лечения и испробовала новый – горячую припарку, состав которой выудила из книг. В своем рвении достичь совершенства я переусердствовала и сделала припарку слишком обжигающей. Когда я приложила компресс к его ноге и стала ее бинтовать, Каманте произнес:
– Мсабу.
Это слово сопровождалось выразительным взглядом. Африканцы прибегают к этому индийскому словечку, когда обращаются к белым женщинам, но произносят его по-своему, превращая в слово, звучащее вполне по-африкански. В устах Каманте это была просьба о помощи и предостережение: так предостерегают верного друга, когда он делает что-то неподобающее. Потом, размышляя об этом событии, я исполнилась надежды. У меня уже возникли определенные амбиции как у врача, и мне было стыдно, что я приложила к его ноге такой горячий компресс, но одновременно и радостно, потому что появился первый проблеск взаимопонимания между мною и этим диким ребенком. Испытанный страдалец, ничего, кроме страданий, не ожидавший от жизни, он тем не менее не ждал от меня такого обращения.
Что касается состояния его здоровья, то здесь перспектив не просматривалось. Я очень долго промывала и перевязывала ему ноги, но его болезнь была сильнее меня. Иногда ему становилось лучше, но потом язвы открывались в новых местах. В конце концов я приняла решение отвезти его в больницу шотландской миссии.
Это мое решение было достаточно фатальным, и при всех возможностях, которые оно открывало по части произведения на Каманте впечатления, он не захотел ехать. Опыт и философия научили его не слишком много протестовать против чего-либо, но когда я привезла его в миссию и отдала в больницу – длинное чужое здание, в совершенно чуждые, загадочные для него условия, он содрогнулся.
Миссия Шотландской церкви находилась по соседству с моей фермой, в двенадцати милях к северо-западу, и располагалась футов на пятьсот выше; в десяти милях к востоку имелась также французская католическая миссия: она помещалась на равнине и лежала, наоборот, ниже фермы на пятьсот футов. Я не симпатизировала ни одной из миссий, но дружила с обеими и сожалела, что они враждуют.
Святые отцы-французы были моими лучшими друзьями. Утром по воскресеньям я ездила с Фарахом к мессе – отчасти чтобы попрактиковаться во французском языке, отчасти потому, что к миссии вела живописная дорога. Она шла через старые посадки австралийской акации, сделанные лесным ведомством, и сильный хвойный аромат, источаемый этими деревьями, было особенно приятно вдыхать поутру.
Я поражалась, насколько римско-католической церкви удается повсюду, где она ни появляется, насаждать свойственную ей атмосферу. Святые отцы сами спроектировали и выстроили с помощью местной паствы свою церковь и имели основания ею гордиться. Церковь получилась большая, изящная, серая, с колокольней; ее окружал просторный двор с террасами и лестницами, а вокруг простиралась кофейная плантация, старейшая в колонии и процветающая благодаря правильному хозяйствованию. Во дворе имелась также трапезная с арками и помещения монастыря, а еще школа; ниже по реке стояла мельница. Чтобы достигнуть церкви, надо было переехать арочный мост. Все сооружения были сложены из серого камня и смотрелись на фоне местного пейзажа аккуратно и одновременно внушительно, как где-нибудь в южном кантоне Швейцарии или на севере Италии.
Дружелюбные святые отцы по окончании мессы приглашали меня на рюмочку вина в свою просторную и прохладную трапезную; там я с восхищением внимала их рассказам и удивлялась их осведомленности о событиях в колонии, даже в самых дальних ее уголках. Продолжая учтивый и приятный разговор, они умудрялись вытягивать из собеседника любые новости, носителем коих он мог являться, напоминая при этом стайку мохнатых бурых пчел – все они носили окладистые бороды, – виснущих на цветке и охочих до меда.
При всем своем интересе к жизни колонии они оставались изгнанниками в типично французском духе, с радостью и смирением выполняющими некое высочайшее и совершенно загадочное для непосвященных повеление. Чувствовалось, что не будь этой неведомой другим воли, здесь не оказалось бы ни их, ни этой церкви из серого камня с высокой колокольней, ни аркады, ни школы, ни аккуратной плантации, ни миссии вообще. Как только им выйдет помилование, они с радостью устремятся назад, в Париж, перестав интересоваться кенийскими делами.
Фарах, следивший за лошадьми, пока я проводила время в церкви, а потом в трапезной, на обратном пути не мог не замечать моего приподнятого настроения. Сам он был праведным магометанином и не прикасался к спиртному, но считал мессу и вино уважаемыми обрядами моей религии.
Иногда святые отцы-французы садились на мопеды и наведывались ко мне на ферму, где вкушали обед, декламируя на память басни Лафонтена и давая мне советы по части работ на кофейной плантации.
С шотландской миссией я была знакома хуже. С их горы открывался замечательный вид на всю окружающую местность кикуйю, но сама миссия производила на меня впечатление какой-то слепоты. Шотландская церковь очень старалась обрядить африканцев в европейские костюмы, что не было тем полезно ни в каком отношении. Зато в этой миссии была очень хорошая больница, главный врач которой, доктор Артур, филантроп и умница, взял надо мной шефство. В больнице спасли жизнь многим людям с моей фермы.
Каманте продержали в шотландской миссии целых три месяца. За все это время я виделась с ним всего один раз. Я проезжала мимо миссии, направляясь на железнодорожную станцию Кикуйю: дорога туда идет мимо территории больницы. Внезапно я заметила Каманте: он стоял один, не присоединяясь к кучке выздоравливающих. К этому времени он настолько поправился, что уже мог бегать. Увидев меня, он подошел к забору и побежал вдоль него, провожая меня. Он трусил со своей стороны забора, как жеребенок в загоне, и не сводил глаз с моей лошади, но так ничего и не изрек. Там, где кончалась территория больницы, он был вынужден остановиться. Я поскакала дальше, а потом оглянулась. Он стоял неподвижно, задрав голову и напряженно глядя мне вслед, в точности как жеребенок, провожающий вас взглядом. Я пару раз помахала ему рукой; сперва он не ответил, потом вдруг поднял руку, как семафор, и тут же ее опустил, чтобы больше не поднимать.
Каманте снова появился в моем доме пасхальным утром и протянул мне письмо из больницы, в котором говорилось, что он поправился, скорее всего, окончательно. Наверное, он знал, что сказано в письме, потому что внимательно наблюдал за выражением моего лица, пока я читала послание, хотя и не желал его обсуждать, так как его ум был занят более важными вещами. Каманте всегда отличало собранное, полное сдержанного достоинства поведение, к которому на сей раз примешивалось плохо скрываемое торжество.
Все африканцы привержены драматическим эффектам. Каманте тщательно забинтовал себе ноги до колен, приготовив мне сюрприз. Не вызывало сомнений, что важность момента он усматривает не в своей удаче, а в том удовольствии, которое собирался мне доставить. Он, видимо, помнил, как меня огорчала моя неспособность его вылечить, и понимал, что успех больничного лечения равен чуду. Он невыносимо медленно размотал бинты, и моему взору предстали здоровые гладкие ноги с чуть заметными рубцами.
Сполна насладившись в своей величественной манере моим изумлением и восторгом, он усугубил важность момента заявлением, что сделался христианином.
– Я теперь такой же, как ты, – сказал он и добавил, что неплохо было бы получить от меня рупию по случаю годовщины воскресения Христа.
Затем он отправился к своей родне. Его мать была вдовой и жила на дальнем конце фермы. Судя по ее дальнейшим рассказам, сын в тот день отступил от своих привычек и выложил ей все свои впечатления о чужом народе и об обращении с ним в больнице. Побыв в материнской хижине, он вернулся ко мне, словно уже не сомневался, что его место – рядом со мной. С тех пор он прислуживал мне, пока я не покинула его страну, то есть на протяжении двенадцати лет.
При первой встрече Каманте можно было принять за шестилетнего ребенка, однако у него был брат, выглядевший на восемь лет; оба соглашались, что Каманте – старший. Видимо, у него случилась задержка роста, вызванная длительной хворью. На самом деле ему было тогда лет девять. С тех пор он вытянулся, но все равно походил на карлика или уродца, хотя нельзя было толком сказать, что конкретно делало его таким. Со временем его заостренное личико округлилось, он без труда ходил и вообще двигался, и лично я даже считала его миловидным, хотя, видимо, была пристрастна, так как приложила руку к изменению его облика. Ноги у него навсегда остались тоненькими, как спички.
Это была фантастическая фигура: глядя на него, хотелось то смеяться, то плакать. Подправив лишь самую малость, его можно было бы усадить среди горгулий на карниз собора Нотр-Дам в Париже. При этом в нем оставался свет жизни; на полотне живописца он оказался бы светлым пятном. К тому же он придавал моему дому живописности. Каманте никогда не отличался здравым рассудком, вернее, человека с таким поведением, но с белой кожей, называли бы завзятым эксцентриком.
Ему была свойственна задумчивость. Видимо, долгие годы страданий приучили его к размышлениям и к собственным выводам по любому поводу. Он был полностью погружен в свою жизнь и проявлял крайнюю нелюдимость. Даже делая то же самое, что остальные люди, он умудрялся делать это по-своему.
Я завела у себя на ферме вечернюю школу, в которой преподавал африканец. Учителя приходили ко мне из миссий, и как-то раз их собралось целых трое: один католик и по приверженцу англиканской и шотландской церкви. Образование африканцев построено в стране на религиозном фундаменте: насколько мне известно, на суахили переведена только Библия и псалмы. Пока я жила я Африке, меня все время подмывало заняться переводом басен Эзопа, но у меня так и не нашлось на это времени. Но школа все равно оставалась моим любимым уголком на ферме, центром нашей духовной жизни, и я провела немало приятных вечерних часов в длинном старом складском помещении, отведенном под класс.
Каманте сопровождал меня и туда, однако не подсаживался к детям за парты, а стоял в сторонке, словно сознательно сопротивляясь наукам и предпочитая простое присутствие. Зато оказавшись один в кухне, он часто принимался медленно выписывать по памяти буквы и цифры, увиденные на школьной доске. Вряд ли он смог бы учиться, как все, даже если захотел бы: на заре жизни в нем произошел какой-то перелом, и теперь для него было естественным противоестественное состояние. Каманте сознавал свою особенность и относился к ней с высокомерием урожденного карлика, который, видя, что отличается от всех остальных, считает уродами их, а не себя.
Каманте умел обращаться с деньгами: он мало тратил и часто заключал выгодные сделки по части коз с соплеменниками-кикуйю. Он женился совсем молодым, а брак у кикуйю – мероприятие накладное. Тем не менее он любил пофилософствовать – оригинально и с умом – насчет бессмысленности денег. Он относился по-своему к жизни вообще: умея жить, он оставался о жизни невысокого мнения.
Восхищаться чем-либо он не умел. Он признавал сообразительность за животными, но за все время нашего знакомства всего один-единственный раз одобрительно высказался о человеке – молодой сомалийке, которая впоследствии поселилась на ферме. У него была привычка тихонько усмехаться, проявлявшаяся при любых обстоятельствах, но особенно при встрече с самоуверенными и напыщенными субъектами. Все африканцы наделены природной хитринкой и радуются, когда что-то идет не так, чего европейцы совершенно не выносят. Каманте довел это свойство до совершенства, дополнив его самоиронией: собственные неудачи доставляли ему не меньше удовольствия, чем оплошности посторонних.
Аналогичное умонастроение я усматривала у старых африканок, прожаренных бесчисленными кострами, мятых судьбой и умеющих видеть в ней иронию и приветствовать ее удары, как дружеское похлопывание близкого человека. У себя на ферме я поручала бо́ям[1]1
Бой – зд. слуга-туземец (прим. ред.).
[Закрыть] раздавать воскресным утром нюхательный табак чернокожим старухам, которые по этому случаю превращали двор в подобие старого птичьего загона; в окно моей спальни долетало их негромкое карканье – африканцы редко повышают голос.
Как-то раз их обычная тихая беседа взорвалась хохотом. Видимо, случилось что-то невообразимо забавное, и я потребовала у Фараха отчета. Фарах мялся; дело было в том, что он забыл закупить табак, так что старухи напрасно притащились издалека. Это надолго стало для старых кикуйю причиной веселья. При встрече со мной на кукурузном поле любая показывала на меня костлявым пальцем, а ее физиономия покрывалась морщинами веселья, причем так стремительно, словно она незаметно дергала за веревочку; она напоминала мне о том воскресенье, когда вместе с другими любительницами табачка проделала неблизкий путь, в конце которого выяснилось, что я на этот раз забыла про угощение для них. Вот умора, мсабу!
Белые часто обвиняют кикуйю в неблагодарности, но Каманте отнюдь не был неблагодарным и даже облачал в слова свое чувство долга. По прошествии многих лет после нашей первой встречи он продолжал самозабвенно оказывать мне услуги, о которых я его даже не просила, а на мой вопрос, зачем он так поступает, отвечал, что не будь меня, он бы не выжил. Каманте демонстрировал свою признательность и иным способом: трогательно, иногда даже снисходительно помогая мне. Возможно, он всегда помнил, что мы с ним исповедуем одну и ту же религию. В мире дураков я была для него, наверное, одной из самых неподражаемых дур.
С того дня, как он поступил ко мне в услужение и связал свою судьбу с моей, я постоянно чувствовала на себе его проницательный взгляд; вся моя жизнь была объектом неумолимой критики с его стороны. Думаю, он с самого начала рассматривал мою заботу о его исцелении как пример безнадежной эксцентричности. Однако его ответом была симпатия ко мне и старание рассеять мое вопиющее невежество. Я неоднократно сталкивалась со свидетельствами того, что он уделил внимание и время той или иной проблеме и так построил свои наставления, чтобы мне было проще их усвоить. Каманте начинал у меня в доме с ухода за собаками, а впоследствии дорос до санитара-ассистента. Я узнала, как он проворен, несмотря на свой чудной облик, и отправила на кухню помогать повару Езе. Потом Еза погиб, и Каманте занял его место, на котором и оставался до моего отъезда.
Обычно африканцы очень небрежны со зверьем, но Каманте проявил своеобразие и здесь. Он очень хорошо обращался с собаками и полностью отождествлял себя с ними; он часто докладывал мне, что им требуется, чего им не хватает, о чем они думают… Благодаря ему мои собаки не страдали от блох, хотя в Африке очень трудно этого добиться; часто глубокой ночью мы с Каманте, разбуженные их воем, при свете керосиновой лампы снимали с них по одному страшных муравьев сиафу, пожирающих все на своем пути.
Видимо, лежа в больнице при миссии, он не терял времени даром и все впитывал (хотя ни словом не обмолвился потом о своих достижениях), потому проявил смекалку и в роли медицинского ассистента. Уже став поваром, Каманте нередко принимал участие в лечении очередного больного, давая мне очень разумные советы.
Но в качестве повара он проявил таланты, просто не поддающиеся классификации. Поиздевавшись над ним, природа в качестве компенсации наделила его ни с чем не сравнимым кулинарным даром. Его кухонные священнодействия не подлежали объяснению и указывали на гениальность. Как кулинар Каманте был стопроцентным гением и в качестве такового был подвержен напасти всех гениев – бессилием перед лицом собственной силы. Родись Каманте в Европе и окажись он в руках у хорошего наставника, он достиг бы славы и вписал бы достойную страницу в историю. Даже в Африке он сделал себе имя своим незаурядным мастерством.
Я сама проявляла интерес к приготовлению пищи и, впервые вернувшись из Африки в Европу, взяла несколько уроков у знаменитого повара во французском ресторане с мыслью, как забавно будет вкусно готовить в африканских условиях. Мой наставник, месье Перроше, даже предложил мне заняться вместе с ним ресторанным бизнесом – такова была моя преданность этому искусству. Когда рядом со мной оказался Каманте, родственная душа, ко мне вернулся былой интерес к кулинарии. Мне казалось, что наше сотрудничество открывает заманчивые перспективы. Природный кулинарный инстинкт дикаря казался мне необъяснимым чудом. Из-за него я иначе посмотрела на нашу цивилизацию и снова стала видеть в ней божественное начало. Я уподобилась человеку, вновь обретшему веру в Бога, когда френолог показал ему участок головного мозга, отвечающий за теологическое красноречие. Если существует теологическое красноречие, значит, жива и теология, а там недалеко и до обоснования бытия Господня.
Как кулинар Каманте проявлял поразительную сноровку. Любые кухонные фокусы получались у него играючи; казалось, его коричневые руки сами по себе знают, как готовить омлеты, соусы и майонезы. У него был особенный талант делать кушанья легкими, чем он напоминал мне Христа, который в детстве лепил из глины птиц и приказывал им летать. Он отвергал любые хитроумные кухонные приспособления, словно из опасения, что они поведут себя слишком независимо; предложенную мною машинку для взбивания яиц он сразу отложил и продолжил взбивать белки ножом, которым я прежде срезала на лужайке сорняки, и добивался, чтобы взбитые белки превращались в легкие облачка. В кухонной сфере Каманте проявлял проницательность и вдохновение: он умел выбрать на птичьем дворе самого жирного цыпленка, а взвешивая на ладони яйцо, точно определял, когда оно снесено.
Он придумывал целые системы, направленные на совершенствование моего стола, и сложными путями, через знакомого, работавшего с одним врачом в глуши, раздобыл семена замечательного сорта салата, которые я сама безуспешно искала на протяжении многих лет.
Каманте держал в памяти огромное количество рецептов. Он не владел грамотой и не знал толком английского, поэтому кулинарных книг для него не существовало, но, видимо, все, что он узнавал, навсегда оставалось в его несимметричной голове, подчиняясь какой-то его собственной систематизации, о которой я не имела понятия. Блюда он называл по событиям, случавшимся в дни, когда ему их показывали, поэтому мне приходилось слышать от него о соусе-молнии-ударившей-в-дерево или соусе-издохшей-лошади.
Он почти никогда ничего не путал, и лишь одно мне так и не удалось ему внушить: порядок подачи блюд. По случаю гостей мне приходилось рисовать своему повару меню: суповую кастрюлю, рыбу, куропатку, артишок. Вряд ли этот его недостаток был вызван провалом в памяти: просто он полагал, что всему есть предел, и отказывался тратить время на столь нематериальное обстоятельство, как порядок чередования блюд.
Работать рядом с демоном – волнующее испытание. Кухня считалась моей вотчиной, но мне казалось, что не только она, но и весь мир, в котором я сотрудничаю с Каманте, перешел в его руки. Он блестяще схватывал все, что я от него требовала, а иногда выполнял мои пожелания еще до того, как слышал о них. Я терялась в догадках, каким образом у него все это получается. Мне казалось невероятным подобное искусство, когда человек не понимает его истинного смысла и не испытывает к нему ничего, кроме презрения.









































