Текст книги "Проблемы души нашего времени"
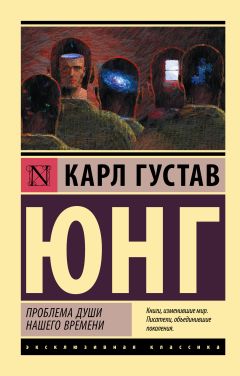
Автор книги: Карл Юнг
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Нетрудно понять, что этот вопрос бесконечно сложен. И он становится еще сложнее, если мы включаем в круг нашего рассмотрения приведенные выше рассуждения о случае поэта, тождественного творчеству. Если принять, что осознанный и целенаправленный способ сочинения, при всей его осознанности и целенаправленности, является лишь субъективной иллюзией, то поэтическое произведение должно обладать символическими, проникающими в царство неопределенности и выступающими за пределы современного сознания свойствами. Они могут быть надежно спрятаны, ибо и читатель не переступает определенные духом времени границы сознания автора, так как сам существует и живет в границах современного сознания и не способен найти точку Архимеда за пределами своего мира, не может перевернуть современное сознание – иными словами, распознать в произведении символ такого рода. Однако символ должен быть назван: это возможность и намек на существование некоего более широкого и высокого смысла по ту сторону от наших нынешних способностей к пониманию.
Вопрос этот, как уже было сказано, весьма деликатный. Я, собственно, поднимаю его просто для того, чтобы за счет типизации возможных смысловых вариантов художественного произведения не строить тесных шаблонов, когда текст, по всей видимости, сообщает ровно то, что он со всей очевидностью говорит. Все мы часто становимся свидетелями того, как вдруг заново открывают того или иного поэта. Это происходит тогда, когда развитие нашего сознания достигает более высокой ступени; стоя на ней, мы мы вдруг улавливаем в давно знакомых строках нечто новое. Это нечто уже содержалось в произведениях поэта, но таилось от нас, и скрытый символ мы осознали только после обновления духа времени. Потребовался свежий взгляд, ибо прежний усматривал в произведениях лишь то, что привык видеть. Эти опыты должны настраивать нас на известную осторожность, поскольку они подтверждают правоту ранее высказанного взгляда. Общепризнанно, что символическое произведение не нуждается в таких тонкостях, оно обращается к нам своим полным интуитивных прозрений языком: я намерен сказать больше, чем фактически говорю; я имею в виду нечто большее, чем я сам. Здесь мы можем ощутить присутствие символа, даже если нам не удается удовлетворительно его разгадать. Этот символ становится постоянной темой наших размышлений и чувств. Сюда примешивается и тот факт, что символическое произведение возбуждает сильнее, так сказать, глубоко вгрызается в нас и потому редко доставляет нам чисто эстетическое удовольствие, в то время как очевидно несимволическое произведение намного больше говорит эстетическому восприятию, потому что позволяет гармонично взглянуть на совершенство.
Можно с полным правом спросить, что же такого сделала аналитическая психология для решения главной проблемы художественного творчества, для разгадки тайны творчества? Все, о чем мы до сих пор говорили, не относится к области психической феноменологии. Так как она не проникнет «в святая святых природы, созидающей дух», не стоит ожидать невозможного от нашей психологии, не нужно думать, что она даст удовлетворительное объяснение великой тайны жизни, которую мы непосредственно ощущаем в творчестве. Подобно любой науке, психология вносит крайне скромный вклад в лучшее и более глубокое понимание жизненных явлений, она так же далека от абсолютного знания, как и другие ее сестры.
Мы столько рассуждали о смысле и значении произведений искусства, что едва ли теперь удастся подавить принципиальное сомнение в том, что искусство на самом деле что-то «означает». Может быть, искусство вообще ничего не «означает» и не имеет никакого «смысла» в том значении, в каком здесь понимается это слово. Может быть, творчество подобно природе, которая просто «есть», а не «означает». Является ли «значение» по необходимости чем-то большим, нежели просто истолкованием, которому надо придать ореол таинственности в соответствии с потребностью рассудка, жаждущего смысла? Можно сказать, что искусство – это красота, этим оно исполняется и является достаточным само по себе. Оно не нуждается в смысле. Вопрос о смысле не имеет никакого отношения к искусству. Если я ставлю себя в область искусства, то должен подчиниться правде этого положения. Но, обсуждая отношение психологии к художественному произведению, мы тем самым выходим за пределы искусства, и тогда нам не остается иного выхода: мы должны рассуждать и толковать, чтобы явления обрели значение, ибо в противном случае мы вообще не сможем помыслить об этом предмете. Мы должны раскрыть жизнь, что развертывается и исполняется в самой себе, раскрыть наряду с ее событиями в образах, смыслах и понятиях, сознательно при этом отстраняясь от живого таинства. Пребывая во власти творчества, мы не видим и не познаем ничего, да и не можем познавать, ибо нет ничего более вредоносного и опасного для непосредственного переживания, чем познание. Для познания мы должны выйти за пределы творческого процесса и рассматривать его извне, только тогда возникнет картина, значение которой может быть высказано. Только тогда мы можем, даже должны, говорить о смысле. Только таким путем сугубая умопостигаемость превращается в нечто, обозначающееся в связи с другими феноменами, в то, что играет определенную роль, служит известной цели и оказывает осмысленное воздействие. Если мы сможем все это увидеть, у нас появится ощущение, что мы что-то поняли и объяснили. Так и надо понимать потребности науки.
С таким же основанием, с каким мы прежде говорили о произведении искусства как о дереве, растущем на питательной почве, можно прибегнуть к сравнению с ребенком в материнском чреве. Но, поскольку все сравнения хромают, лучше использовать вместо метафор точную научную терминологию. Напомню, что выше я определил находящееся в стадии рождения произведение как автономный комплекс. Этим понятием обозначают все психические образования, которые вначале развиваются совершенно бессознательно и только с того момента, когда достигают порога сознания, в него прорываются. Связь с сознанием, в которую они вступают, не носит характера ассимиляции; скорее, это восприятие (перцепция): мы утверждаем, что автономный комплекс воспринимается (ощущается), он не поддается сознательному управлению – ни подавлению, ни произвольному воспроизведению. Автономность такого комплекса проявляется именно в том, что он тогда и в том виде появляется или исчезает, когда для этого имеют место соответствующие условия, независимо от произвола сознания. Эту характерную особенность творческий комплекс разделяет со всеми другими автономными комплексами. Именно здесь возможно провести аналогию с болезненными душевными процессами, ибо эти последние суть развитие автономных комплексов, в первую очередь при психических расстройствах. Божественное безумие художника имеет пугающе реальное сходство с заболеванием, но не тождественно ему. Аналогия опирается на присутствие автономного комплекса. Сам факт такого присутствия не указывает на патологию, ибо и здоровые люди порой, иногда продолжительное время, находятся под влиянием автономных комплексов. Этот факт относится к нормальным свойствам психики, причем в значительной мере он касается бессознательного, ибо существование автономного комплекса осознается отнюдь не всегда. Так, например, каждая дифференцированная в той или иной степени типичная установка склонна превращаться в автономный комплекс, а в большинстве случаев комплекс становится установкой. Также и каждое влечение, в большей или меньшей мере, обладает свойствами автономного комплекса. Следовательно, сам по себе автономный комплекс не является заболеванием, и лишь частое и разрушительное его появление свидетельствует о страдании и болезни.
Как же возникает автономный комплекс? По какой-либо причине – подробное исследование таких причин завело бы нас сейчас слишком далеко – активируется некий, до того неосознаваемый участок психики; оживляясь, он расширяется за счет вовлечения родственных ассоциаций. Энергия, которая при этом используется, заимствуется, естественно, у сознания, если последнее не предпочитает отождествлять себя с комплексом. Если этого не происходит, то возникает то, что Жане называет «ослаблением сознательности» (abaissement du niveau mental)[15]15
Французский психиатр П. Жане, создатель общей теории неврозов, считал, что в человеческой психике имеются как «низшие» (рудименты примитивного, инстинктивного сознания), так и высшие элементы (собственно сознание современного человека, прежде всего индивидуальное). – Примеч. ред.
[Закрыть]. Насыщенность осознанного интереса и деятельности постепенно исчезает, в результате чего возникает либо апатичная бездеятельность – очень частое состояние творческих личностей, – либо регрессивное развитие осознаваемых функций; собственно, в этом и состоит понижение – в возврате к инфантильным, архаичным ступеням развития, когда наблюдается нечто вроде вырождения. Parties inférieures des fonctions[16]16
Низшие части функций (фр.).
[Закрыть] выступают на первый план: влечения против морали, наивно-инфантильное против рассудочного, зрелого, неспособность к адаптации против приспособляемости. Такие примеры мы встречаем в жизни многих художников. В итоге из энергии, отнятой у сознания, руководящего личностью, формируется автономный комплекс.
Но откуда берется автономный творческий комплекс? Это невозможно узнать до тех пор, пока законченное произведение не откроет нашему взгляду свои основы. Произведение предлагает нам разработанный образ в самом широком смысле этого слова. Этот образ доступен анализу в той степени, в какой мы распознаем его как символ. Если мы не можем раскрыть в нем символическое значение, то тем самым констатируем, что для нас этот образ означает не больше того, что он явно выражает, или, иными словами, что он есть то, чем он кажется. Я говорю «кажется», ибо наша пристрастность, возможно, не позволяет делать более глубокие догадки. Как бы то ни было, в этом последнем случае мы не находим ни повода, ни исходной точки для анализа. Для первого случая мы можем напомнить себе слова Герхарда Гауптмана[17]17
Немецкий драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1912). – Примеч. ред.
[Закрыть]: «Поэзией называют умение заставить звучать глубинные слова за словами обыденными». В переводе на психологический язык наш первый вопрос должен звучать так: «На какой первозданный образ коллективного бессознательного можно спроецировать образ, созданный и явленный в произведении?»
Этот вопрос во многих отношениях требует разъяснения. Я упомянул выше случай символического произведения искусства, причем такой, что его источник следует искать не в личном бессознательном автора, а в той области бессознательной мифологии, исконные образы которой являются общим достоянием человечества. Поэтому я обозначил эту область термином коллективное бессознательное и тем самым провел различение с личным бессознательным; я обозначаю его как совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут быть объектами сознания, каковыми они часто бывали, но вследствие своей несовместимости с реальностью были вытеснены и искусственно удерживаются ниже порога сознания. Также эта область порождает источники искусства, но они мутны и, начиная преобладать, делают произведение искусства не символическим, а, скорее, симптоматическим. Такой вид искусства мы можем, вероятно, без всякого вреда и угрызений совести оставить фрейдистскому методу катарсиса.
В противоположность личному бессознательному, которое в известной мере занимает относительно поверхностный слой сразу за порогом сознания, коллективное бессознательное в норме не способно проявляться в сознании, не может быть привнесено в сознание любыми аналитическими техниками, ибо оно не было ни вытеснено, ни забыто. Само по себе и для себя коллективное бессознательное вообще не существует, оно является не чем иным, как возможностью, именно той возможностью, которая с незапамятных времен наследуется нами в определенной форме памяти или, выражаясь анатомическим языком, в форме мозговой структуры. Не существует врожденных представлений, но существуют врожденные возможности представлений, которые устанавливают определенные границы самых смелых фантазий, так сказать, категории деятельности по порождению фантазий, в известной мере априорных идей, существование коих невозможно без опыта. Они проявляются только в оформленном материале как регуляторные принципы его оформления, то есть только за счет выводов, сделанных на основе законченного произведения, можно реконструировать исходный оригинал первобытного образа.
Первобытный образ, или архетип, – это фигура, будь то демон, человек или процесс, которая повторяется по ходу истории там, где дается простор творческой фантазии. В первую очередь это мифологическая культура. Если мы тщательно исследуем эту фигуру, то обнаружим, что она является во многом оформленным результатом бесчисленных типических опытов длинного ряда предков. Опять-таки, это психические остатки бесчисленных переживаний одного и того же типа. Они усредняют и описывают миллионы индивидуальных переживаний и создают образ психической жизни, разделяемый и проецируемый на многочисленные образы мифологического пандемониума. Но и мифологические образы как таковые суть порождения творческой фантазии, они ждут своего перевода на понятийный язык, однако этот перевод пока выполняется в муках. Только понятия, которые еще предстоит ввести, могут помочь нам опосредовать и сделать доступным абстрактное, научное познание бессознательных процессов, каковые суть корни возникновения первобытных образов. В каждом таком образе содержится мельчайший фрагмент человеческой психологии и человеческой судьбы, фрагмент страдания и радости, которые бесчисленное множество раз проявлялись в череде поколений, причем всегда эти переживания принимали одно и то же течение, одну и ту же форму. Это можно сравнить с расположенным глубоко в душе руслом потока, где жизнь, которая до этого как бы ощупью, широко, но мелко катилась по поверхности, внезапно превращается в бурный поток, когда достигает того особого стечения обстоятельств, каковое с незапамятных времен приводило к возникновению определенного прообраза.
Миг, когда проявляется мифологическая ситуация, всегда знаменуется особым эмоциональным напряжением; как будто в нас начинают вибрировать никогда прежде не звучавшие струны или высвобождаются силы, о которых мы никогда не догадывались. Процесс приспособления мучителен, ибо нам постоянно приходится справляться с индивидуальными, то есть атипичными, условиями. Нет, однако, никакого чуда в том, что мы в тех случаях, когда попадаем в типичную ситуацию, внезапно либо ощущаем чувство небывалого освобождения, которое подхватывает нас волной, либо чувствуем, как нас увлекает куда-то неодолимая сила. В такие мгновения мы перестаем быть отдельными индивидуумами, превращаемся в род, внутри вас возвышается голос всего человечества. Отсюда следует, что когда индивидуум лишь отчасти способен в полной мере пользоваться своими силами, ему на помощь приходят коллективные представления, каковые именуются идеалами и каковые высвобождают все те инстинктивные силы, доступ к которым не в состоянии получить никакая заурядная осознанная воля. Самые действенные из идеалов всегда представляют собой более или менее прозрачные варианты архетипа, распознать которые достаточно просто, ибо такие идеалы нетрудно соотнести с аллегориями: например, родину можно воображать как мать, причем, разумеется, аллегория ни в коей мере не обладает мотивирующей силой, проистекающей из символического значения идеи родины. Архетип выступает формой «мистической сопричастности»[18]18
Термин французского этнолога Л. Леви-Брюля. – Примеч. ред.
Перевод А. Чечиной
[Закрыть] некоему первобытному началу той почвы, на которой он обитает, – почвы, пропитанной духом предков. Горе чужакам!
Каждая связь с архетипом, переживается ли она или только упоминается, «трогает» за живое, то есть действует; ибо она слышит или исторгает голоса, каковые мы воспринимаем как наши собственные. Тот, кто изъясняется прообразами, будто говорит тысячами голосов, захватывает и овладевает, при этом возвышает то, о чем говорит, делает из сиюминутного и преходящего нечто вечно сущее, возносит личную участь до судеб человечества и тем самым высвобождает в нас все те полезные силы, какие всегда и везде помогали человеку спасаться от бедствий и переживать самую долгую ночь.
Такова тайна воздействия искусства. Процесс творчества, насколько мы вообще в состоянии его проследить, состоит в неосознанном оживлении архетипа, в его разработке и представлении в виде законченного произведения. Представление в определенной форме первозданного образа есть, в известной мере, перевод на современный язык, за счет чего оно дает каждому возможность доступа к глубочайшим источникам жизни, которые иначе остались бы недоступными. Здесь заключается социальная значимость искусства: оно всегда трудится над воспитанием духа времени, выводит на поверхность те образы, которых в наибольшей степени недостает духу времени. Из неудовлетворенности современностью возникает томление художника, которое разрешается только достигнув прообраза бессознательного, каковой в наибольшей степени способен восполнить недостаточность и односторонность духа времени. Этот образ охватывает недостающее, позволяет извлечь его из сокровенных глубин бессознательного и приблизить к сознанию в доступной современному человеку форме в меру способности последнего к пониманию. Вид художественного произведения позволяет нам делать заключения о характере эпохи, в которой оно возникло. Что означают реализм и натурализм для своих эпох? Что такое романтизм? Эллинизм? В искусстве существуют направления, которые выносят на поверхность то, что в наибольшей степени требуется современной духовной атмосфере. Художников считают воспитателями эпох – об этом можно было бы много говорить и сегодня.
Подобно отдельным людям, народы и времена имеют свои оригинальные духовные направления или представления (установки). Уже само слово установка, в смысле единственной точки зрения, отражает необходимую односторонность, каковая задается определенным направлением. Где есть направление, есть и исключение. Исключение же означает, что многим психическим явлениям, которые могли бы переживаться, не позволено проявляться, так как они не соответствуют общей установке. Заурядный человек может без вреда для себя переносить общую направленность; человек, склонный к блужданию по извилистым тропинкам и обходным путям, который, в отличие от заурядного, не способен идти по широкой столбовой дороге, как и должно быть, раньше других открывает то, что находится в стороне от большой дороги, – и ждет, когда к нему присоединятся другие. Относительная неспособность художника к приспособлению является истинным преимуществом; она позволяет оставаться в стороне от главной дороги, следовать своему томлению и обнаруживать то, чего лишены прочие, пусть они этого и не осознают. В отдельном индивидууме односторонность сознательной установки может быть подправлена бессознательными реакциями на пути саморегуляции, а искусство представляет собой процесс саморегуляции в жизни народов и времен.
Я вполне отдаю себе отчет в том, что в рамках короткого доклада возможно изложить лишь общий взгляд, и то в сжатом виде. Но я все же смею надеяться, что все, о чем не было сказано, все, что существует пока лишь в моей голове, а именно подробное рассмотрение этих идей применительно к конкретным поэтическим произведениям, когда-нибудь обретет плоть и кровь.
Фрейд и Юнг: различия во взглядах[19]19
Впервые очерк опубликован под названием «Der Gegensatz Freud und Jung» («Противоречия Фрейда и Юнга» в газете Kolnische Zeitung (Кельн) 7 мая 1929 года (стр. 4); позже включен в сборник «Seelenprobleme der Gegenwart» (Цюрих, 1931).
[Закрыть]
О различиях между взглядами Фрейда и моими собственными лучше всего сможет судить тот, кто находится вне орбиты тех идей, которые ассоциируются с нашими именами. Смогу ли я быть достаточно беспристрастным, чтобы подняться над собственными воззрениями? Под силу ли это вообще кому-нибудь? Сомневаюсь. Если бы мне сказали, что некто обскакал барона Мюнхгаузена и действительно совершил подобный подвиг, я бы ни на мгновение не усомнился в том, что его идеи заимствованы.
Впрочем, общепринятые идеи никогда не являются личной собственностью автора; напротив, он сам становится их рабом. Впечатляющие идеи, которые полагают истинными, содержат в себе нечто особенное. Хотя они возникают в определенный момент, они существуют и всегда существовали вне времени; они проистекают из той сферы созидательной психической жизни, из которой эфемерный разум отдельного человека вырастает подобно растению. Это растение цветет, приносит плоды и семена, а затем увядает и умирает. Идеи обязаны своим возникновением отнюдь не отдельному человеку; их порождает нечто несравнимо большее. Человек не создает идеи; скорее, это идеи создают человека.
Всякая идея несет в себе неизбежное признание, ибо обнаруживает не только наши достоинства, но и наши худшие слабости и личные недостатки. Особенно это касается представлений о психологии. Откуда же им взяться, как не из нашего субъективизма? Могут ли наши переживания объективного мира спасти нас от субъективной предвзятости? Разве каждое переживание, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не является по меньшей мере на пятьдесят процентов субъективной интерпретацией? С другой стороны, любой субъект есть объективный факт, частица мира; то, что исходит от него, исходит в конечном счете от самого мира; точно так же любой организм – даже самый редкий и странный – носит и питает общая для всех земля. Именно наиболее субъективные идеи, будучи ближе всего к природе и нашей собственной сущности, заслуживают того, чтобы считаться самыми истинными. Но «что есть истина»?
В психологии, я полагаю, лучше всего отказаться от мысли, что сегодня мы в состоянии утверждать что-либо «истинное» или «правильное» о природе психического. Самое большее, на что мы способны, – это правдивое выражение. Под ним я подразумеваю открытое признание и подробное изложение всего того, что мы наблюдаем субъективно. Один будет подчеркивать формы, в которые он может втиснуть свой материал, и потому полагать себя творцом обнаруженного внутри себя. Другой будет придавать наибольший вес тому, что он видит, и говорить об этом как о феномене, сознавая собственную рецептивную установку. Истина, вероятно, лежит где-то посередине: правдивое выражение состоит в придании определенной формы наблюдаемым явлениям.
Современный психолог, каким бы честолюбивым он ни был, вряд ли может надеяться достичь чего-то большего. Наша психология – это более или менее удачно сформулированная исповедь нескольких индивидов, а поскольку каждый из них более или менее соответствует определенному типу, его признание можно считать вполне достоверным описанием множества других людей. Поскольку те, кто относится к другим типам, тоже принадлежат к человеческому роду, можно заключить, что это описание применимо и к ним, хотя и в меньшей степени. То, что Фрейд говорит о сексуальности, инфантильном удовольствии и их конфликте с «принципом реальности», об инцесте и тому подобном, служит самым точным выражением его личной психологии. Это удачная формулировка его субъективных наблюдений. Я не противник Фрейда; я лишь кажусь таковым в силу его собственной близорукости и близорукости его учеников. Ни один опытный психиатр не станет отрицать, что он лечил десятки пациентов, чья психология отвечает психологии Фрейда во всех ключевых аспектах. По его собственному субъективному признанию, Фрейд способствовал рождению великой истины о человеке. Он посвятил свою жизнь и силы построению психологии, которая представляет собой не что иное, как формулировку его собственного естества.
Каков человек, таково и его ви́дение. Поскольку у разных людей разная психология, им свойственно разное ви́дение и разные способы самовыражения. Наглядный тому пример – Адлер, один из самых первых учеников Фрейда. Работая с тем же эмпирическим материалом, что и Фрейд, он подошел к нему с совершенно иной точки зрения. Его взгляды, по меньшей мере, так же убедительны, как и взгляды Фрейда: подобно Фрейду, Адлер олицетворяет достаточно распространенный тип психологии. Последователи обеих школ убеждены, что я ошибаюсь, однако меня не покидает надежда, что история и все беспристрастно мыслящие люди подтвердят мою правоту. Обе школы, по моему мнению, следует упрекнуть в чрезмерном акцентировании патологического аспекта жизни и интерпретации человека исключительно в свете его недостатков. В качестве убедительного примера можно привести неспособность Фрейда понять религиозное переживание, о чем ясно свидетельствует его книга «Будущее одной иллюзии».
Со своей стороны, я предпочитаю смотреть на человека в свете того, что в нем есть здорового и здравого, и вижу свою первоочередную задачу в том, чтобы освободить больного от той самой психологии, которая пропитывает каждую страницу, написанную Фрейдом. Я не представляю, как Фрейд может выйти за рамки своей собственной психологии и избавить пациента от страданий, от которых страдает сам. Его психология – это психология невротических состояний разума, определенно однобокая и этими состояниями ограниченная. В их пределах она истинна и достоверна, причем даже тогда, когда заблуждается, ибо всякое заблуждение содержит важный элемент общей картины и несет в себе истину откровения. Но это не психология здорового разума; она основана – и это один из симптомов ее морбидности – на некритическом, даже бессознательном ви́дении мира, склонного сужать горизонт опыта и ограничивать обзор. Со стороны Фрейда было большой ошибкой отвернуться от философии. Он ни разу не подвергает критике ни свои предположения, ни даже личные психические предпосылки. И напрасно, как можно заключить из того, что я сказал выше; если бы Фрейд критически анализировал свои базовые принципы, он никогда бы не смог так наивно выставить на всеобщее обозрение свою своеобразную психологию, как это было сделано в «Толковании сновидений». Во всяком случае, он бы получил некоторое представление о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться мне. Я никогда не отказывался от горько-сладкого напитка философской критики, но принимал его с осторожностью, понемногу. Слишком мало, скажут мои оппоненты; даже слишком много, подсказывает мое собственное чувство. Самокритика отравляет наивность, то бесценное достояние или, вернее, дар, без которого не может обойтись ни один творческий человек. Как бы там ни было, философская критика помогла мне увидеть, что всякая психология, включая мою собственную, носит характер субъективного признания. И все же я не должен допускать, чтобы мои критические способности подрывали мои творческие силы. Я осознаю, что каждое произнесенное мной слово несет в себе частицу меня самого – моей особой и уникальной самости с ее специфической историей и ее собственным специфическим миром. Даже когда я оперирую эмпирическими данными, я обязательно говорю о себе. Только приняв это как неизбежность, я могу служить цели познания человека человеком – цели, которой, несмотря ни на что, служил и Фрейд. Знание зиждется не только на истине, но и на заблуждении.
Возможно, именно в вопросе о признании субъективной окрашенности всякой психологии, созданной одним человеком, расхождения между Фрейдом и мной проступают особенно явственно.
Еще одно различие, как мне кажется, состоит в том, что я стараюсь освободиться от всех бессознательных и потому некритических предположений о мире в общем. Я говорю «стараюсь», ибо кто может быть уверен, что он в самом деле избавился от всех своих бессознательных допущений? По крайней мере я стараюсь воздерживаться от самых грубых предубеждений, а потому склонен признавать всевозможных богов, если только они действуют в человеческой психике. Я не сомневаюсь, что естественные инстинкты или влечения являются мощными движущими силами в нашей психической жизни вне зависимости от того, как мы их называем: сексуальностью или волей к власти. Однако я также не сомневаюсь и в том, что эти инстинкты вступают в столкновение с духом, ибо они постоянно сталкиваются с чем-то, и почему это что-то не может называться «духом»? Я далек от понимания того, что такое дух, и столь же далек от понимания того, что такое инстинкты. Первое для меня так же загадочно, как и второе, и я не могу объяснить одно как неверное истолкование другого. В природе не бывает двусмысленностей: разве можно ошибочно истолковать тот факт, что у Земли есть только один спутник – Луна? Ложные представления существуют только в сфере того, что мы называем «пониманием». Разумеется, инстинкт и дух выше моего понимания. Это термины, которыми мы обозначаем могущественные силы, природу которых человек не знает.
Посему я отношусь ко всем религиям позитивно. В их символике я узнаю те фигуры, с которыми сталкиваюсь в сновидениях и фантазиях своих пациентов. В их нравственных учениях я вижу попытки, подобные тем, которые предпринимают мои больные, когда, руководствуясь собственным интуитивным пониманием или вдохновением, ищут правильный способ совладания с силами психической жизни. Ритуалы, обряды посвящения и аскетические практики во всех своих формах и вариациях вызывают у меня живой интерес, равно как и многочисленные техники установления надлежащей связи с этими силами. Не менее позитивно я отношусь к биологии и эмпиризму естествознания вообще. Если религиозный гнозис есть грандиозная попытка человеческого разума извлечь знание о космосе изнутри, то естествознание есть геркулесова попытка понять психику, приблизившись к ней извне. Моя картина мира разделена на обширное внешнее царство и столь же обширное внутреннее царство; между двумя этими царствами стоит человек. Он обращается то к одному, то к другому и, в зависимости от темперамента и характера, принимает одно за абсолютную истину, а другое отрицает или приносит в жертву.
Несмотря на всю гипотетичность данной картины, из нее вытекает гипотеза, которая настолько ценна, что я не откажусь от нее. Я считаю ее эвристически и эмпирически обоснованной; более того, она подтверждается общим согласием (consensus gentium). Эта гипотеза, несомненно, пришла ко мне из внутреннего источника, хотя я мог бы вообразить, что к ее открытию привели эмпирические данные. Именно она легла в основу моей теории типов, а также побудила меня примириться со взглядами, столь же отличными от моих собственных, как и взгляды Фрейда.
Во всем происходящем я усматриваю игру противоположностей и основываю на этой концепции свое представление о психической энергии. Я полагаю, что психическая энергия включает в себя игру противоположностей почти так же, как физическая энергия включает в себя разность потенциалов, то есть существование таких противоположностей, как тепло и холод, высокое и низкое и т. д. Первоначально Фрейд рассматривал сексуальность как единственную психическую движущую силу и только после моего разрыва с ним принял во внимание другие факторы. Со своей стороны, я объединил различные психические влечения или силы – выделенные более или менее спонтанно (ad hoc) – в общее понятие энергии, дабы исключить почти неизбежную произвольность, свойственную всякой психологии, которая построена исключительно на стремлении к власти. По этой причине я говорю не об отдельных влечениях или силах, а о «системе ценностей»[20]20
Ср.: «О психической энергии», абз. 14 и далее. – Примеч. авт. См.: Gesammelte werke, band 8. – Примеч. ред. оригинального издания.
[Закрыть]. Этим я не пытаюсь отрицать важность сексуальности в психической жизни, хотя Фрейд упрямо утверждает, что это так. Прежде всего, я стремлюсь ограничить терминологию секса, которая пропитывает все обсуждения человеческой психики, и вернуть сексуальность на надлежащее ей место.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































