Текст книги "Люди Красного Яра"
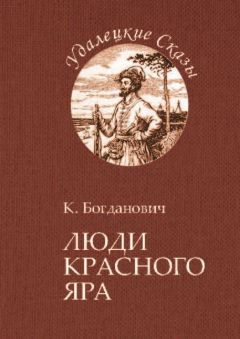
Автор книги: Кирилл Богданович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сказ второй
Стенька – гулящий человек
В лютый мороз на Крещенье Афонька возвращался с дозора. Пали уже сумерки. Спустился Афонька в распадок. И тут конь Афонькин, храпнув, прянул в сторону. Схватившись за саблю, Афонька склонился с коня и увидел на снегу не то мешок, не то иную кладь какую, обронённую. А соскочил, глянул – человек! Не шелохнётся, но вроде как ещё живой. Перекинул его Афонька через седло и махом домчал до острога.
Когда найденный вошёл в силу, привели его в приказную избу. Новый воевода, Никита Карамышев, сам вёл ему спрос. И сказался тот мужик Стенькой – гулящим человеком. А шёл из Енисейского на Красноярский, да в дороге обессилел. А прозвище и по отцу как, и лет сколько, и откуда родом – мол забыл, не помнит, ум-де отшибло. А веры православной и не вор какой.
И что с тем Стенькой делать и куда его деть? Неведомо! Хотели приписать Стеньку в служилые или в посадские люди. Но он заартачился: я-де человек вольный, гулящий.
На том Стеньку и отпустили с миром, крепко упредив: воровскими делами не заниматься, чтоб ни в разбое, ни, боже упаси, в каком изменном деле не был замешан, не то пусть пеняет на себя.
Так и остался Стенька при остроге Красноярском. Скитался меж дворов. Промышлял чем мог. Одно лето ходил с торговыми людьми, тянул бичевой лодки с товаром. Потом нанимался к пашенным и посадским на покосы, на жнитво. А студёными зимами – когда промышлять в тайгу зверя ходил, когда опять же у пашенных или посадских работал. Тем и жил.
По всему видать было, что крестьянство Стенька знал. Ладно обихаживал лошадей, сноровисто косил и жал, намётывал воз. Знал и по кузнечному ремеслу, как сошник наварить, топор закалить, коня подковать.
И всё же на Стеньку, хоть и не замечали за ним ничего худого, смотрели косо. Ни кола, ни двора, ни у дела – а самому лет уже за тридцать. Сам из себя мужик здоровенный: в руках силища медвежья, рост – воробья из-под стрехи достанет. Всем вышел – а вот шатун. Да и во хмелю его видывали, и не раз, и не два. Правда, бражничая, Стенька не буянил. Лишь кручинился шибко, угрюмел и уходил с глаз людских то на Енисей, то в тайгу.
Так и жил года с три. Но за последнюю зиму стал озоровать, а по весне совсем задурил. Из похмелья не выходил, стал буен. Дрался не единожды с посадскими и пашенными, за что на съезжей батогов отведал. Ходил теперь Стенька в драном зипуне, в дырявых опорках. Кормился от добрых людей – чем бог пошлёт. Вновь попал Стенька в приказ к воеводе на Великом посту. А за то, что облаял десятника конной казачьей сотни Романа Яковлева, и тот на Стеньку челом бил воеводе, Стеньку сначала отменно попотчевали батогами, а потом привели в приказную избу и пригрозили с острога согнать.
Стоит Стенька перед воеводой.
Сквозь слюдяные оконца приказной избы озорует на полу апрельское солнце. На широкой лавке, опершись ладонями о колени, сидит воевода Никита Карамышев. За столом, навалившись грудью на столешницу, – атаман конной сотни Дементий Злобин. Десятник Роман Яковлев, недавний истец Стенькин, и два казака – старый знакомец Стенькин Афонька и ещё один – стоят около воеводы. Все смотрят на Стеньку. Он же стоит насупротив их – гулящий человек, привалившись могучим плечом к косяку. Стоит, мнёт в руках истрёпанную шапку и угрюмо, исподлобья глядит куда-то в сторону.
– Тебя, поди-ка, и с Енисейского острогу тоже согнали? – допытывается воевода. – Смотри, и с Красноярского сгоним.
Стенька молчит: чо там, воля ваша – гоните.
Тут воевода вдруг и скажи Стеньке:
– Садись, Стенька, на землю. Хватит тебе в гулящих ходить.
– На землю? – вскинул глаза Стенька и опять замолчал. Он-то знал, что такое земля. Из-за неё бежал за Камень[32]32
Камнем называли тогда Уральские горы. Бежать из России «за Камень» – значит, бежать за Урал, в Сибирь.
[Закрыть], подпалив боярскую ригу, когда свезли у Стеньки со двора последние снопы за недоимку. За четверть десятины тощих песков дрожал и бедовал в кабале мужик.
А тут земли – пахать не перепахать. Да кто её даст, землю-то? Ему – гулящему?
– Ну что окоченел? Или язык проглотил? – сердито посмотрел на Стеньку Никита Карамышев. – Отвечай, любо тебе ай нет в пашенные идти?
Стенька молчал. Он за эти годы, как скитался по местам разным, и думы-то не держал, что сможет землю иметь. Свою землю – не боярскую, не господскую, на которой хребет ломал.
– Ты, Стенька, дурень, – с трудом выдвигаясь грузным телом из-за стола, сказал атаман Злобин.
Он подошёл к Стеньке.
– Ну чо ты за человек есть? Ну чо? Шатуга, перекати-поле. Ни себе, ни людям. Ты только посмотри, сколь земли-то! Знай паши, засевай. Ждёт она, земля-то! Тебя ждёт! Ить как она урожает тут. Хлебушко урожает, – грубый голос атамана помягчел. – Хлебушко. Эх, Стенька, непутёвый ты человек! Казакам хлебушко нужен и иным прочим: посадским, татарам мирным – всем. Без хлебушка знаешь как худо. Вон, как только острог мы поставили, все припасы сошли у нас. Голодно. И вот по такому делу убили атамана Ивана Кольцова. Ходил он в Енисейский за хлебными запасами и не привёз, почитай, ничего. Казаки голодные озлобились и посадили его в воду. А ты! – вдруг озлился Дементий Злобин. – Ни за саблю, ни за орало. Да креста на тебе нет опосля этого.
Он в сердцах плюнул, но тут же покосился на воеводу – экое ведь невежество допустил, и отошёл от Стеньки.
– Так, так, – согласно кивали и десятник Роман Яковлев, и Афонька, и другой казак.
– Эй, Стенька, думай, – властно и решительно произнёс Карамышев. – Сгоню тя с острога!
И тут Стенька заговорил, хрипло и глухо, толчками, ровно кто его в шею шпынял.
– Согнать-то чо… Может, я и сам уйду… Гулящий… А на землю… Чо на землю… Я… всегда… землю… Я из-за земли-то и за Камень утёк, – вдруг зло молвил Стенька, высоко подняв голову. – От петли убёг.
– Что было – быльём поросло, – пристально и спокойно глядя на Стеньку, сказал воевода. – Ты вот теперь подымись. И не думай, не сгоним с земли. Сколь возьмёшь, столь и дадим, опричь государевой десятины.
– Она-то, земля, государева, да наша – не боярская. Мы за неё бились и кровушку лили, – прогудел из угла Дементий Злобин.
– Так, – серьёзно кивнул воевода и глянул на Стеньку.
– Земли у меня на заимке возьмёшь, за Енисеем. Добрая там земля, за Енисеем-то, – продолжал Злобин.
Стенька вдруг заулыбался. Он вскинул голову и широко открытыми глазами обвёл всех. И все тут вдруг приметили, какие у Стеньки глаза – большие и синие, красивые, ровно у девки.
– Ну так что, Стенька, надумал на землю садиться? – спросил Карамышев, тоже улыбаясь.
Но Стенька опять нахмурился и сгас.
– Коня у меня нет. Сохи тоже. Семян… Ничего нет, – прошептал он.
– Дадим, – сказал Карамышев. – Мужики пашенные, кто посильнее, дадут, пока своего не заведёшь.
– В кабалу идти?! – Стенька снова вжался в косяк. – Я от кабалы утёк и опять в неё, постылую?!
– Дадут без кабалы. Пойдёшь в издольщики к кому – дадут.
И Стенька – гулящий человек согласился.
Когда вышли из приказной избы, Стеньку нагнал Афонька.
– Ну вот и ладно, – сказал он, дружески хлопая Стеньку по широкому плечу. – Только смотри, Стенька, место там за Енисеем одинокое, наших там, почитай, никого нет, а иной раз киргизы набегают.
– Не. Мне ничто! Слажу с ними. Не спужаюсь.
– Я тебе рушницу дам.
– И то ладно.
На другой день, пока держал ещё лёд, перебрался Стенька на правый берег Енисея, и непоодаль от Злобинской заимки отвели ему земли. Отвели – не меряли. Добрую елань насмотрел Стенька. Окружал ту елань подлесок густой, за которым могучей стеной тайга шумела, а дале горы подымались.
Осмотрел Стенька своё место. Угожее. И хоть снег ещё лежал, а видно: корчевать и выжигать мало чего будет. Вот только камни какие-то из-под снегу торчат, да сосна-сушина высится. А так только кустики кое-где да ёлочки малые.
Работы Стенька не боялся.
Дали ему лошадь, соху, жита с ячменём на посев. Построил Стенька себе балаган на опушке, чтоб не бегать до заимки взад-вперёд, и стал вырубать на елани там куст, здесь ёлочки. Сваливал всё в кучи. «Как снег сойдёт, враз спалю всё – и за пашню».
Здорово работал Стенька, не жалел себя. Уж очень хотелось запахать землю, свою – не боярскую. Засеять её, ждать тучного колоса.
И шло всё хорошо.
Но однажды, когда кончал Стенька стаскивать последние каменья, набежали на него несколько иноземных ратных людей. Попервости Стенька не разобрал, кто такие. Подумал – может, татары качинские куда снарядились. Но вглядевшись – ахнул: «Киргизы – не иначе».
Во главе их был старик. Поган с виду, а зол – беда!
Киргизы изрядно по-своему шумели, а тот, старый, больше всех. И кричал, и руками махал, и грозил Стеньке – лук натягивал.
Налетели киргизы так прытко, что Стенька, сжав в руке топор, а другой вытащив нож из-за пазухи (эх, огненного боя не было – рушница в балагане осталась), стоял и не ведал, что делать.
Долго шумели, пока понял Стенька, чего раскричались некрещёные. На том месте, занятом под пашню, был схоронен родич старого киргиза, и камни те, которые с усердием сволакивал Стенька, на могиле положены были.
А сам киргиз сей старый – князец. И сказал он: все русские должны уйти с Качи-реки и землиц здешних, не то рано ли, поздно ли изведут их они, потому как места эти ихние и ясак с качинских людей они по все времени на себя брали. Всё это растолмачил Стеньке с пятое на десятое один из киргизов.
– Ходи дом, Кызыл-Яр-Тура, – старательно втолковывал он Стеньке.
«И тут гонят», – с горечью подумал Стенька и озлился.
– Цыть, вы! – рявкнул он и замахнулся топором. Киргизы попятились испуганно. Острог хоть и за рекой был, а всё же близко, и они боялись трогать Стеньку.
– Моя земля, – твёрдо и решительно сказал Стенька. – Царь-государь всея Русии меня пожаловал, да воевода, да казаки. Ишь: «ясашные», «помер кто-то». Ну и что – помер? Пошли прочь, – широко шагнул он на ратных киргизских людей. Те отбежали и, став поодаль полукругом, смотрели, как Стенька вывернул своими огромными ручищами здоровенный камень, отнёс в сторону и метнул его. И пал камень наземь так, что земля загудела. А потом Стенька в несколько могучих взмахов сокрушил зазвеневшую под ударами его топора большую сушину, что стояла посередь елани. Та рухнула и легла межой деревянной меж Стенькой и киргизами.
Стало тихо. Киргизы повернули и пошли, молча оглядываясь. И лишь на опушке старик-князец обернулся и долго ещё что-то кричал, грозил кулаком.
А Стенька продолжал своё дело. К вечеру, закончив работу, он забрал рушницу и пошёл на ночь на Злобинскую заимку: поостерёгся остаться в балагане.
Поутру нашёл балаган разорённым. Всё вокруг поистопта-но, а балаган раскидан по жердиночке. Стенька только головой покрутил, но с места своего не ушёл, а рушницу брал теперь всегда с собою.
Шибко докучали киргизы Стеньке. Когда пахал, однова ночью соху всю как есть начисто поизломали, потому как не увёз её Стенька с поля. Пришлось просить другую у пашенных мужиков. Спасибо – дали, ладить-то новую недосуг было.
Сколько раз приходили. Вот так вылезут из тайги, маячат поодаль, смотрят. Трогать, правда, не трогают. Но надоело от них.
Стенька погрозит киргизам кулаком и крикнет:
– Ну чо, ироды, чо надо? Вот пальну в вас, – он схватывал пищаль, лежавшую поодаль, и стрелял не целясь. Убивать их он не хотел, да и не стоило. Место от жилья всё ж отдалённое, а Стенька один, хоть и с самопалом. Да и не душегуб Стенька.
От выстрела киргизы разбегались, крина на разные голоса тонко так, будто режут их.
Как-то раз, когда, пошабашив, Стенька полдничал, вылез из-за кустов киргиз, что умел по-русски говорить. Он шёл к Стеньке и всё время оглядывался, ровно высматривал, не идёт ли следом кто за ним. Шёл он к Стеньке медленно – видать, боялся. Ни лука, ни сабли – ничего при нём не было. Шёл он, вытянув руки ладонями вперёд, – мол, смотри – с миром иду. Стенька встал и стоял середь поля, выжидая. Киргиз не дошёл до Стеньки несколько шагов, огляделся, сел на землю, подвернул ноги калачиком, похлопал рукой около себя – мол, и ты, Стенька, садись.
Вид у киргиза был мирный, да и мало он походил на киргиза, коль присмотреться ближе. «И 40 ему надо?» – подумал Стенька.
Настороженно приблизился Стенька к киргизу, нож за пазухой незаметно поправил, чтоб сподручней было вытащить в случае него. Сел рядом на корточки.
– Ну, но тебе? – хмуро спросил. Тот покрутил головой туда-сюда и, приклонившись в Стенькину сторону, быстро пролопотал:
– Ходи отсюда, шибко ходи, – и махнул в сторону острога.
– Опять грозитесь, – вскипел Стенька и хотел было вскочить, чтобы наподдать киргизу, но тот, ухвативши Стеньку за холщовые порты, продолжал:
– Йок, йок. Не моя тебя бить. Моя тебя люби. Моя нет киргиз. Моя киштым, ясырь, татара моя, Кана. Давно в ясырь киргиз брал. Моя мирный люди, твоя – тоже мирный люди. Хозяин тебя бить хонет, злая хозяин – плохой люди, – быстро шептал новый знакомец, тревожно озираясь. Стенька внимательно слушал.
– Твоя живи, моя живи. Места много. Мне есть, тебе есть. Соболь русскому есть, и татару есть, и киргизу есть. А хозяин, он тебя бить хочет – ходи домой.
И татарин показывал, как натягивают лук.
– Ходи домой.
Вот оно что! Старый хрыч, князец поганый, что с татар всегда ясак брал и грабил их, замыслил недоброе против Стеньки. Ладно!
Стенька улыбнулся.
– Не бойся, паря, – он хлопнул татарина по плечу, тот едва усидел на месте. – Никуда я не уйду, понял? Не спужался, понял? Тебе же за добро, что упредил меня, спасибо.
Стенька встал, и татарин-ясырь поднялся, глядя на Стеньку.
– Спасибо тебе. – Стенька сжал татарину руку в локте. – А теперь иди. Слово твоё доброе запомню. Придётся встретиться – отплачу. Да к своим иди, на Качуречку. Брось киргиза своего.
Татарин печально улыбнулся.
– Йок. Улус моя нет, побит все. Дом нет, ничего нет. – Он покрутил головой, поцокал, потоптался и ушёл, а Стенька вернулся к своему делу.
Старался Стенька на своей, первой в жизни собственной ниве. Он сжёг на кострах сучья, ветки, стволы, валежник – дотла выжег всё, и майскими днями, когда солнце оттаяло и прогрело землю, начал пахать.
Тяжёлая, нетроганная испокон веков земля туго поддавалась сохе. Но железо и Стенькина сила одолевали её. Радовался Стенька, слушал, как хрустела, потрескивала вспарываемая сошником земля, как отваливался переплетённый кореньями плотный пласт. И шёл, налегая на рогали сохи, шёл медленно, твёрдо.
Борозда за бороздой покрывали елань. Борозда за бороздой… И вот уже не елань, а поле – чёрный млеющий под солнцем среди буйной зелени клин лежал перед Стенькой.
Довольный стоял Стенька, оглядывая вспаханное поле, прикидывая, сколько же в десятинах будет. Вроде и не так уж много. Но зато – своё. А земля-то какая!
Тяжело поводя боками, смирно стояла лошадь, поматывая башкой, махала хвостом, поглядывала на Стеньку лиловым добрым глазом.
А Стенька всё стоял на последней проложенной борозде босыми ногами в пахоте. Ветер обдувал его широкую грудь, ласково лез за распахнутый ворот рубахи. Стенька нагнулся и, взяв ком чуть влажной ещё земли, чёрной и жирной, растёр его.
– Эх ты! Сеять. Теперь скоро и сеять.
Стенька представил себя, идущего по пахоте медленным шагом с лукошком через плечо, щедро и широко разбрасывающим золотые зёрна. Так он ясно себе представил это, что даже ощутил плечом тяжесть полного лукошка, а в ладони – сыпучие скользкие зёрна.
Отвлёк Стеньку шорох и треск сучьев сзади. Он оглянулся – опять, поди, киргизы. Но на сей раз то были не киргизы, то был Афонька, который не раз проведывал Стеньку на его поле. Приходил когда один, когда вместе с дружком своим – казаком Федькой.
Они садились у края поля и смотрели, как Стенька пашет. Кончив борозду, Стенька подсаживался к ним, и затевали они разговоры, пока на костре в котелке уха варилась. Афонька всегда притаскивал рыбы – сам ловил сетью. Поев, Афонька и Стенька шли на Енисей к лодке и ждали, когда соберутся все, кто приезжал на заимку.
Раз, глядючи, как Стенька пашет, Афонька не выдержал, сказал:
– Дай-ко я борозды две-три пройду.
– А умеешь ли? – засомневался Стенька.
– Да ты чо? Как же не уметь-то, – даже обиделся Афонька.
Он скинул кафтан и шапку и ухватился за роголи.
Стенька шёл рядом и посмеивался, глядя, как пашет Афонька. Шёл он не так, конечно, сноровисто, как Стенька или даже пашенный мужик, но видать было, что умеет, поотвык только.
Когда они сидели у борозды, Стенька спросил:
– А что, Афонька, пашни не заводишь? Шёл бы тож в пашенные, чем вот сбрую таскать ратную.
– Нет, Стенька, без сбруи этой в сих местах ни я, ни ты не проживём. Сам видишь, как к тебе киргизы подступаются. А они и на острог наскакивают. Нет, Стенька, нельзя мне на землю садиться. А пашню завесть – так это семейным которые, тем надо, они и заводят себе. Вон атаман наш запахивает немало с семьёй, как и иные казаки.
Стеньке нравился казак Афонька – человек простой, не корыстный, участливый. Он всегда спрашивал, как киргизы те приходят. Тревожился он за Стеньку. Но Стенька отмахивался – ничего не сделают.
Так и сейчас. Подошёл к Стеньке Афонька, спросил – всё ли ладно, а потом стал глядеть на пашню.
– Ишь ты, всё уже вспахал. Дай кину зёрен малость.
– Не, рано ещё, – улыбнулся Стенька. – Приходи дён через пять-шесть.
– Пришёл бы, да в наряде, видать, буду. И, поговорив ещё немного со Стенькой, Афонька ушёл.
Через несколько дней после этой встречи с Афонькой, пробороновав пашню, Стенька вышел сеять.
Он вышел в поле рано. Жито и ячмень в чистых холщовых мешочках отнёс на край поля к таёжной опушке и прислонил к разлапистой ели, которая словно выбежала одна из тайги и стояла на мелколесье. Он присел у мешков. Насыпал полное лукошко тяжёлым зерном. Расправил лямку, чтоб не лежала на плече сукрутиной. Разулся, чтобы легко было идти по мягкой пахоте. Потом, зачерпнув полную горсть зерна и ещё не вздев лукошка, поднялся, расправил плечи, примеряясь, как лучше пойти по полю.
И тут раздался позади осторожный шорох и потрескивание. Обернулся Стенька. Только глянул в ту сторону, как враз что-то просвистело и ударило его сильно и остро в широкую грудь. Качнулся Стенька от тяжёлого удара, но на ногах устоял и, ещё не понимая, что случилось, удивлённо смотрел на стрелу, глубоко вошедшую ему в грудь.
Стрела ещё дрожала мелко-мелко, тяжёлая медвежья стрела с аршин длиной. Пустили её сильно и метко из кустов, которые на безветрии ещё качали потревоженными ветками. Трещали кусты: кто-то тайный убегал прочь.
Но так и не видел Стенька недруга-ворога своего. Он как врос в землю от изменного удара. Спустя малое время Стенька, набрав воздуху в грудь, отчего сделалось ему больно, ухватился за древко стрелы. Нет, не выдернуть, крепко засела стрела.
Шатаясь, сделал несколько шагов Стенька и рухнул около лукошка, что оставлено было им у первой борозды. Стенька не кричал, не звал на помощь, не пытался встать или хотя бы ползти к Злобинской заимке. Чуял – рана смертельная и жить ему на белом свете осталось ровно ничего.
С трудом приподнявшись на локте, он привалился к лукошку и запустил глубоко в зерно руку. Он стал перебирать рожь, пересыпать её меж пальцев, словно хотел унести с собой напоследок тяжесть литого, янтарного зерна, что лилось у него сквозь пальцы. Каждое движение вызывало у Стеньки боль в груди, из которой обильно текла кровь, орошая вспаханную им землю.
– Ох ты, жито-рожь наша, хлебушко, – мертвеющими губами шептал он.
Да, не посеять было Стеньке на своей земле, не похозяиновать. Не жить ему предстояло на своей земле, а уйти в неё, в землю. И рожь в землю ляжет, и Степька тоже. Только рожь-то взойдёт, а Стеньке лежать вечно. Ах ты, земля, ах ты, жито, – за вас отдал богу душу свою грешную.
Всё медленнее шевелились Стенькины пальцы, перебиравшие ржаное зерно. И вот вздрогнул Стенька всем телом, ровно хотел подняться, в последний раз простонал глухо и откинулся навзничь. И рука, лелеявшая золотую рожь, откинулась в сторону…
Всё замерло над полем. Только из разжатой, уже неживой Стенькиной ладони скатилось меж пальцев, скользнуло с лёгким шорохом несколько ржаных зёрен. Они пали во вспаханную Стенькой землю, и подмытый тёплой Стенькиной кровью комочек земли тоже с лёгким шорохом скатился с места и прикрыл упавшие в борозду зёрна…
Стеньку нашли на другой день. Его похоронили тут же, под разлапистой елью, которая, ровно обогнав всех, выскочила из мелколесья таёжной кромки. Поставили на могиле простой деревянный крест. А поле, что Стенька вспахал, засеяли пашенные мужики, которые давали Стеньке и лошадь, и соху, и зерно на посев. С ними был и Афонька. Он первым шёл по борозде, хмурый и согнувшийся. Шёл и широко разбрасывал зёрна. Засеяли всё. Лишь обошли то место, где нашли Стеньку с киргизской стрелой в груди.
Когда кончили сеять, Афонька сказал пашенным:
– Без меня не сымайте урожай. Скажите, как почнёте.
Добрый урожай дала Стенькина нива. А на том месте, где умер Стенька, осередь диких трав взошло несколько колосьев. И были они тучнее и крупнее всех иных на всём поле. Высокие, могутные, как сам Стенька.
Когда были связаны последние снопы, Афонька, давно приметивший те колосья, подошёл к ним. Постояв немного, он сорвал эти колосья, подержал на широкой ладони и с бережением спрятал за пазуху. Перекрестившись на одинокий крест над Стенькиной могилой и что-то шепча про себя, он пошёл прочь, загребая землю ногами. Подошел к пашенным, он постоял, что-то подумал, потом вынул из-за пазухи колосья, вышелушил их меж ладоней и роздал всем мужикам по нескольку зёрен. Оставшиеся бережно завернул в тряпицу и спрятал за пазуху.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































