Текст книги "Люди Красного Яра"
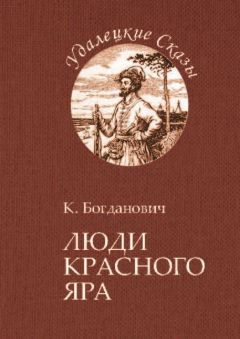
Автор книги: Кирилл Богданович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сказ четвёртый
Афонька женится
Худые вести дошли, атаманы. Слыхали, поди? Киргизские тайши наши ясачные улусы отогнать затеяли.
Атаманы, которые сидели по лавкам в приказной избе, смолчали: вестимо, слышали. Воевода сердито оглядывал каждого. Ну, сукины дети…
– То-то что слышали. А почему не довели сразу до меня? – воевода по столешнице кулаком стукнул. – Своевольничаете! Сами-де с головой. Ан и выходит, что дурные ваши головы-то. Киргизы уже путь до улусов держут. Угонят ясачных наших, что делать станем? Соболей в государеву казну с кого брать будете? Может, сами начнёте соболишек добывать? Или с енисейских ясачных на Красный Яр брать мягкую рухлядь станете, смуту да раздор завернёте по всей округе?
Атаманы засопели, заёрзали по лавкам.
– Не кори, государь, – пробурчал самый старший из всех, Дементий Злобин. – Проруха вышла.
– Винитесь вот теперь.
– Думу имели, что лживые те сказки были про киргизских людей.
– А ведаете, кто ко мне вчера от улусных прибёг? Лучший человек князца Абыртай, Тамаев сын. Поминки привёз. Сказывал – идут на них киргизские люди, и челом бил, просил слёзно, не медля нимало, с помогою идти к ним. Самим-де им от киргизов не уйти.
– Надо отбивать их от киргизов, – сказал Злобин.
– Вот и прибери, Дементий Андреевич, сколь надобно на то казаков, и без промедления поспешай напереймы, на их сакмы[38]38
Са́кмы – тропы, дороги.
[Закрыть] тайные, они тебе ведомы. Спешно собирайся, атаман. А вы все вдругоредь не держите язык за зубами.
Атаманы повставали с лавок, зашумели. Злобин уже от дверей обернулся к воеводе.
– А как не поспеем?
– Ране надо было об этом думать, ране. Не доспеете воровство упредить, следом пойдёте. С ясыром да со скотом они не скоро продвигаться будут. Нагнать надобно и отбить улусных. Не новик ты в сих делах, Дементий, сам разумеешь, что оно и к чему.
Вскорости около сотни казаков, конных и оружных, вышли из воротной башни походным строем под началом Дементия Злобина.
Афоньке не было череда в наряд какой идти. Дня три как он с Енисейского острога повертался, куда за хлебными запасами ходил. Но услышав, что поход затевается, враз вскинулся и доброхотом испросился в отряд. А всё потому, что вот давно смутно было на сердце у Афоньки. Уж так смутно и нехорошо. И в тягость было осередь острожных стен сидеть – всё тянуло куда подале идти, дело какое себе найти, чтобы тоска-кручина не глодала. С тех пор, как убили дружка Федьку во время киргизского набега, ровно что потерял Афонька. И Стеньку – гулящего человека не раз поминал. Были бы они и со Стенькой дружки, да вот не довелось. Вот и вызвался в поход, чтобы от дум невесёлых уйти, тоску-горе развеять и с киргизами, коли доведётся, счёты свесть.
До улусов, которые киргизы отогнать задумали, было ходу на коне дён пять. Дементий же Злобин порешил за три дни до улусов дойти и потому роздыхи давал самые малые. Шли спешно. Где можно – прямили в обход троп проторённых. И шли тайно, без шуму лишнего, чтоб не дознались, кто куда и по какому делу идёт, и не донесли до киргизов через их же лазутчиков, кои уж высланы под Красный Яр.
Дозорный отряд, казаков с десять, на полдня пути впереди шёл. Шли с запасными конями, пересаживаясь, чтобы не поморить коней. Связь с отрядом держали беспрестанно. То один назад по своим следам скакал с вестями к атаману, то оттуда гонец прибывал с наказами.
И всё же не доспели казаки.
Дозор передовой, в котором Афонька, почитай, бессменно шёл и за старшего был, наехал на улус неожиданно.
Вёл дозор верный татарин-новокрещен из подгородных. Он и проводником шёл и толмачом. Казаки многие и сами по-здешнему понимали, но по-киргизски мало кто знал. А тот новокрещен знал по-киргизски, и по-джунгарски, и ещё другие языки сибирские.
Вот он-то по одному ему ведомым тропкам и навёл дозор на улус Абыртая. Улус был уже разорён и безлюден. На елани, на которой улус стоял, лишь остовы юрт виднелись. Ни живой души, ни голоса.
Ещё когда далеко от улуса были, Афонька тревожился: никто встречь не попадает. Только раз почудилось, что затрещали где-то впереди кусты. Афонька глянул и приметил, будто тёмное в кустах метнулось. Зверь? Человек? Кинулся туда Афонька с двумя казаками, сабля наголе. Да где там! Нашли кусты ломаные, траву смятую. Видать по всему – человек здесь был. Проводник-новокрещен, который следом на то место набежал, недовольно головой закрутил, языком зацокал, ругаясь по-татарски, по-киргизски, по-русски.
– Ходим быстро вперёд. Киргиз, видать, был, – сказал он.
Не выезжая из укрытия, где дозор остановился, послал спешно Афонька двух казаков встречь атаману. Послал ещё двух вперёд с татарином-новокрещеном в обход улуса – след поискать. А сам с остальными казаками стал ждать, не решаясь в малом числе из укрытия выйти. Не ровён час – засада где таится. Казаки не спешивались, поводья из рук не выпускали.
Через малое время появились посланные с вестью – атаман с людьми идёт. И верно, вскорости атаман Дементий Злобин уже осаживал коня возле Афоньки.
– Ну, чо тут?
– Упредили нас, – хмуро ответил Афонька. Въехали в улус. Вся елань была истоптана. Кругом валялись вещи разные поломанные, побитые: тряпьё, войлок, туесы, коробы. Видно, в спешке угоняли киргизы ясачных. И невдаве. Угли в очагах и кострищах под золой ещё тлели кое-где.
Дементий Злобин, всё оглядев, ещё раз золу в пальцах помял, сдунул с ладони, отёр руку о кафтан.
– Менее как с полдни ушли, собачьи дети. Нагнать можно. По коням всем, быстрее давай. Афоня, здесь останешься. Есть где след? – обратился он к татарину-новокрещену, который только что вернулся. Тот кивнул:
– Есть след. Большой след. Много кони. Много пеший люди. Новый след совсем. Хорошо видно.
Казаки напряжённо слушали.
– А? Слыхали? – оборотился Дементий Злобин к отряду. Все сидели уже верхами, дожидаясь, когда велят дальше идти.
– Ну, досматривай тут, Афонька, со своими, – атаман Злобин стегнул коня плетью. Тот пошёл тяжёлой рысью. Казаки тронулись следом и вот уже исчезли из виду.
Афонька и с ним три казака остались в улусе. Обошли кругом всё. Поискали, может, найдут себе чего. Но всё кругом было бросовое. Хоть и спешно угоняли киргизы ясачных, а всё же собрали всё, что получше было в улусе. А много ли там было, что в цене, окромя мягкой рухляди? Лопатина да снаряд охотницкий, да скот, да утварь какая?.. Бедны были. Одно богатство – соболи, да те в ясак всегда шли да по начальным людям – своим и русским же расходились. Да киргизы грабили.
Походив и переворошив барахлишко разное, сошлись казаки в кружок, сели наземь – притомились.
Тихо стало, только кони пофыркивают, траву щиплют, уздечками бренчат.
Афонька, хоть тоже устал, опять поднялся, отдохнув самую малость, и пошёл меж позорённых юрт. Не то что искал чего-либо, а так – томно ему стало. Отошёл он шагов пятьдесят в сторону от улуса, как почудилось ему: не то вроде мяучит кто, не то пищит. Пошёл Афонька на тот писк, а он то смолкнет, то опять слышится. Афонька вышел на ручей небольшой и около самой воды увидел кладь кинутую. Тряпьё, шкурки – невеликий узелок такой. И оттуда явственно писк идёт.
Ничего ещё не понимая, присел Афонька около узелка. Осторожно раскинул тряпьё и обмер – в тряпицах дитё лежало. Махонькое дите, татарское. У Афоньки аж руки затряслись – вот те на! Потянул было руку к дитю, а то пискнуло, и Афонька, спужавшись, руку отдёрнул. Что же делать-то теперь? Тут оставить? Так ведь сгинет. Да как оставить? Не зверёныш, поди, хоть и чужого роду-племени. Взять надобно да где потом улусным отдать – мол, ваше это дите, посиротелое.
А дитё раскинулось из тряпья и шкурок, совсем малое, поди-ка и ходить-то ещё не может. Лежит парнишка, смотрит на Афоньку, щурится от луча солнечного. Смолк, не пищит, к Афоньке руки тянет. И Афонька руку ему встречь протянул. Малец ухватился за Афонькин палец и в рот потянул. «Ись хочет», – смекнул Афонька. А малец пальчиками, махонькие у него они, а цепко за палец держит. Ах ты!
Усмехнулся Афонька. Как-то повеселело у него на сердце. Подхватил он весь ворох тряпичный вместе с парнишкой и понёс к своим. Те к нему – что-де за добычу нашёл. Глянули – и в смех. Вот так клад разыскал! И почали шутки шутить. Не иначе как ране тут Афонька бывал, сына себе нажил. Да нет, то князец, аманат[39]39
Амана́т – заложник. Русские часто брали в заложники представителей местных племён, чтобы предупредить возможные столкновения.
[Закрыть] Афонькин. Афонька за него выкуп богатый получит – сорок сороков шкур мышьих. А то, может, это дух нечистый, оборотень. Унесёт Афоньку в тайгу.
Обступили Афоньку, галдят. От такого шуму дитё опять писк подняло.
Осерчал Афонька. Нашли, над чем зубы скалить.
– Цыть вы, охальники. Чему смех-то подняли, дуроломы? Ить дитё кинутое, без отца-матери оставшись, ись хочет. А вы – «гы-гы-гы»!
Казаки смолкли.
А Афонька размотал тряпьё-рванину. Мокрое оно всё было. Не раз, видать, малец-то подпустил под себя, пока в кустах кинутый лежал. Бросил тряпьё под ноги, а мальца посадил на широкую ладонь свою нагой заднюшкой и крепко другой рукой за спину поддерживал. Малец ничего – сидел смирно, головой вертел по сторонам. Был он скуласт, телом смугл. Волос короткий, чёрный, глаза узкие, вкось ставленые. Смотрел, смотрел и сызнова заголосил. Голодный.
Кормить-то его как? Может, он ещё титьку у мамки сосёт?
Казаки меж тем на костре кашицу сварили полбяную. Ивашка уже котёл с огня снял, наземь поставил. Посели казаки вкруг котла, ложки повытаскивали. И Афонька с мальцом сел. Несподручно было с ним. Малец вертелся, к котлу тянулся – почуял, стало быть, что варёным пахнет. Почерпнул Афонька ложкой кашицу, поднёс к губам себе – горяча. Дуть стал. А малец глаз так и не сводит с ложки, тянется. «Поди-ка ты, понимает», – подивился Афонька. Сунул ему Афонька ложку. Малец кашицу в горсть ухватил с ложки и в рот. Замолк. Чмокает, ест. Ещё горсть с ложки ухватил и ещё. Афонька другую ложку кашицы поддел, остудил и мальцу подсунул.
Казаки, перестав кашицу из котла черпать, смотрят. А дитя, наевшись, притулилось к Афоньке и заснуло.
Сидит Афонька, пошевелиться не смеет – жаль дитё разбередить.
– Да ты положь его, Афонька. Кашицу ешь, не то поедим всё, – заговорили казаки.
Тут Евсейка встал, приволок откуда-то азям[40]40
Азя́м – верхняя долгополая одежда.
[Закрыть] брошенный.
– На, клади мальца.
Тихонько опустил Афонька парнишку на азям, прикрыл полой – тот и не ворохнулся. А погодя сгрёб Афонька тряпьё, в котором дитё завёрнуто было, и понёс на ручей. Выполоскал, развесил по кустам сушить, а сам пошёл опять куда-то. Вскорости короб большой приволок, из прутьев и коры сплетённый. Надрал травы да моху, устлал дно, поверх тряпки подсохшие набросал и с бережением мальца туда положил.
К вечеру вернулся Дементий Злобин с казаками. Вернулись притомлённые все: и кони, и люди. Догнать никого не догнали и след киргизов на речке потеряли.
Дивились казаки, узнавши про Афонькину находку, подходили к коробу поглядеть. Малец спал.
Вскорости, загасив костры и выставив караулы, казаки легли. И поутру, как только солнце лучи пробросило, уже повставали, наскоро по куску хлеба сжевали, у кого с чем было, и вповорот тронулись.
Афонька ехал в своём десятке, но всё отставал – потому как короб с дитём, который пред собой водрузил, то на один бок съезжал, то на другой, а то малец верещать начинал, и тогда его Афонька жёваным сухарём кормил али из баклажки испить давал. И ругался про себя: чёрт-де попутал с этим дитём.
Атаман Дементий Злобин серчать стал и на Афоньку в сердцах лаялся: «Не отставай, не чини задержки». А что делать-то? Не бросать же дите!
– В первом же улусе бабе какой ни есть отдай, – наказал Дементий Афоньке.
– Ну а как же? Вестимо, отдам.
Но ни в первом улусе, ни в котором другом мальца не отдал и волок с собой. Даже у баб татарских втайне по юртам насобирал одёжи разной да обуток для мальца.
Ехал Афонька то позади всех, то стороной. И в дозор раз пошёл с коробом, в котором парнишка придрёмывал. Не расстался. На что Дементий Злобин опять расшумелся.
– Ты что – казак али баба? Коли бабой стал, так брось саблю и порты, надень юбку да ухват возьми, язви тя. Срамота глядеть.
– Так ить…
– Вот то и знаешь – «так ить». А, прости господи меня, согрешишь с тобой. Чтоб духу того дитёнка не было. Мотри, коли не отдашь в улусе.
Афонька смолчал, но мальца опять же нигде не отдал.
И вот когда уже к острогу подъезжали, то призвал Дементий Афоньку до себя и строго-настрого наказал: не заходя в острог, отдать мальца кому-либо на посаде. Нечего в острог наезжать и срамиться. «Вишь-де, – скажут, – воины какие: мальца замест целого улуса привезли».
Но тут Афонька заперечил. Впервой атамана своего ослушался.
– Воля твоя, атаман, – придержав коня, сказал Афонька. – Вели, что хошь, делать, а парнишку не отдам. И слово моё твёрдое.
– Окстись, Афанасей! Да ты разумом решился? Али на тебя порчу напустили? Да на чо тебе дитё это?
Афонька молчал, голову потупя. И верно, на что? Ведь он – казак, воин, служилый человек. Жены не имеет. Но вот как высказать, что не может он мальца того отдать. Как нашёл его, в сердце ровно потеплело.
И до того хорошо бывало Афоньке, когда малой тёплым тельцем к нему льнул, ловил за нос, теребил бороду. Казаки, кто видел такие забавы Афонькины, гоготали, помоложе какие, а постарее, у кого семьи были, глядели, вздыхая. А кто подходил и мальца по жёстким чёрным волосам гладил. Парнишка что-то лопотал. А что – всё равно понять нельзя было: ни по-татарски, ни по-русски, а так ещё, по-птичьи гукал чего-то.
А когда Афонька его спать к себе брал, малец проворно забирался ручонками Афоньке за пазуху либо за ворот и так засыпал.
И вот на тебе – отдать.
– Не отдам, – ещё раз проговорил Афонька и вскинул взор на Дементия. Глаза Афонькины спокойные, серые. Сидит на коне прямо, лик строгий, брови союзно свёл, губы в нить сжал. Как из камня, лицо стало.
– Чумовой, – только и сказал атаман. – И что с ним делать-то станешь?
– Замест сына у меня будет. Вот. К попу его снесу, пущай окрестит. Вот. И будет как сын мне. И ростить буду. И в казаки потом запишу.
– Дурной ты, Афонька, – атаман покачал головой. – Ну, вот, наприклад, пришло тебе в Енисейский идти, хлебные запасы везть али куда тебя годовальщиком пошлют. Али ещё иное что по службе. Ну и что? Мальца-то разве с собой, как щенка, таскать станешь? Ведь он малой совсем. Он ещё еле от титьки мамкиной отлучённый. Сгинет он у тебя.
– А его определю, – вдруг заулыбался Афонька. – Найду бабу на посаде али у пашенного какого. И как по службе куда надобно будет – вот и оставлю мальца у неё. А как от службы волен буду, в отдыхе – к себе брать стану. Вот.
– Хитёр, Афанасей. Ладно так. Ну-ну, – похлопал его по плечу Дементий и добавил: – А всё же чудной ты мужик. Ей-право – чудной. Казак неженатый и с дитём. Смех один, – и Дементий забухал: «ха-ха-ха», из пушки ровно. Афонька, глядя на него, улыбался – ладно всё вышло.
Вскорости окрещённый малец, которому имя дали Моисейка, хотя и не в самой воде он найден был, записан был за Афонькой как его приймак.
Жил Моисейка в посаде у одной бабы. А когда Афонька в отдыхе был, брал Моисейку на все дни к себе. Казаки сперва смеялись над Афонькой – ну мужицкое ли дело с дитём возиться, казацкое ли? Но потом привыкли к мальцу, привечали его, лаской одаривали и гостинцами. Но над Афонькой всё же шутковали.
– Уж коли ты дитём обзавёлся, то и бабу тогда заиметь надобно. Съезди куда в улусы, Афоня, умыкни какую татарочку, или тут на посаде найди кого – женись.
Афонька серчал вначале на такие обидные слова. А как-то и задумался: а что бы и впрямь не жениться? Афоньке лет уже немало, уже тридцать, на четвёртый десяток счёт начался. А жениться до сих пор всё недосуг был. Да и баб на Красном Яру, почитай, совсем не было. Мало баб и девок в посаде, в окрестных деревнях и в самом городе жило. И от этого случались на остроге смуты середь казаков и посадских да пашенных, потому как казаки, особливо молодые да неженатые, на баб-то и девок зарились, какие были. Да и с иноземными бабами и девками озоровали. Иных добром и по согласию брали. А других – силой. И воеводе не единожды уже улусные мужики ясачные и новокрещенные челом били за бесчестие. Приходили с челобитьями на обидчиков и посадские, и пашенные.
Но всё одно. Хоть и наказывал воевода за блудодейство, а баловства не извести было. Дело-то молодое.
Только у своих служилых, которые жён и дочерей привезть насмелились, не трогали казаки баб и девок, не забижали, блюли честь и товарищество.
Иные казаки, какие посовестливее и подомовитее, али уже в года вошедшие, где силой, где добром брали на острог девок и баб улусных, но не для блуда, а женились на них, окрестив в веру православную. А иные так и жили с некрещёнными как с жёнами, за что поп корил – в блуде-де живёте, во грехе.
Говаривали, что велено прибирать по сибирским городам гулящих баб русских и девок в жёны казакам. Но только вести про то шли, а пока невест казакам не было.
Словом сказать – не всё ладно было в этом деле на Красном Яру.
Афонька среди других неженатых казаков скромен был, не любил сраму бабам учинять, но и он, когда по улусам езживал, не без греха был: где можно, своего не упускал. А жениться не приглядел ещё на ком. Вправду сказать, воевода не раз говаривал, что вскорости на острог девок молодых должны привезти – человек сто – в жёны казакам, чтоб, стало быть, заводили семьи здесь, садились на землю и с острогу никуда бы не уходили. «Ну и ладно, – думал Афонька, – привезут девок, и я женюсь тогда».
Минули осень и зима. А по весне случилось такое, про что никто и не загадывал. Возвращаючись с дозора, что на караульной вышке нёс с полуночи до зари, встретил Афонька казака из своей сотни и услышал от него, что на остроге его, Афоньку, поминают и мальчишку его, Моисейку. Почему поминают и как, он не знает: его черёд пришёл в дозор идти и он от приказной избы отошёл.
Защемила тревога Афоньку. И, как был во всём ратном, поспешил на воеводский двор. Там уже казаков изрядно, крыльцо красное обступили. А середь них у крыльца стоит татарин-старик и с ним баба молодая, татарка.
Афоньку увидели, закричали и стали растолковывать, какое дело случилось. А случилось то, что пришли поутру на острог татарин-старик и девка с ним. И сказались, что они того улуса, который в прошлые годы киргизы отогнали. И когда набегали киргизы, то баба эта своё дитё малое схватила и в лес кинулась – схорониться чтоб. Но не доспела убечь. Киргизин-вершник нагнал её, ухватил, и она дитё выронила. Стала кричать: мол, постой, дай дитё своё возьму, но тот киргиз слушать не стал, поволок за собой. По все дни в ясырстве она по дитю убивалась. А потом, время улучив, убежала от киргизов, добралась до улусов своих и узнала, что проходили русские ратные люди и у одного было дитё малое, в улусе позорённом найденное. И что шли русские ратные люди на Красный Яр. Тогда она с этим татарином старым дошла до острога и ладится проведать – у кого дитё. Потому как у неё парнишка был, сын.
А татарка догадалась, видно, о чём речь идёт, и к Афоньке подступилась. Посмотрел на неё Афонька. Мала ростом, тонка и уж так худа, так худа – в чём душа держится. Одета в дранину. Но на обличье не страшна. А в глазах – слёзы. Ну и ну!
– Ну и чо теперь-то? – растерянно спросил он, когда кончили ему доброхоты всё пересказывать.
– Как то ись чо? Покажи ей парнишку, может, и впрямь ейный. Коли признает, ну и…
– Так чо, коли признает? – тихо спросил Афонька.
– Ну, стало быть, это – отдашь ей, коли мать она.
Афонька от волнения слюну сглотнул.
– А дите-то крещёное уже, а она басурманской веры. Как отдать-то?
– Да-а. Ишь, незадача какая. А ну, стой. Может, и она веру-то переменила. Эй, ата, спроси: кто ей бог есть? Иисус, наш Спаситель, али нет? – обратились из толпы к старику татарину. Тот заговорил по-татарски. Баба головой замотала – нет, мол, некрещёная.
– Вот, видали, как отдать-то крещёное дитё да опять в язычество? – обрадовался Афонька.
Но тут баба опять кричать стала и плакать.
И почала поклоны бить и за волосы себя драть, и лицо ногтями скресть.
Шум поднялся страшенный. Баба кричала своё, Афонька – своё, казаки тоже всяк своё – советы разные. Дверь приказной избы отворилась, и воевода вышел на крыльцо. Выскочили следом приказные. Все враз затихли.
Узнав, в чём дело, воевода сердито сказал:
– Ладно. Показать мальца надо ей. Если признает, что её, – отдать. Вот и весь сказ мой. Раз велено от государя-царя не забижать местных и добром с ними жить и миром – вот и поступай так, не супротивничай, не перечь.
И воевода ушёл и дверью хлопнул.
Узнав от старика, о чём наказ воеводы был, татарка оборотилась к Афоньке. Афонька молча, ссупив брови, глядел на неё. Ишь, выискалась, Моисейку ей отдай. Видя, что неприветливо смотрит на неё казак, татарка сробела. Несмело приблизилась к Афоньке и начала кланяться ему и что-то тихонько и очень жалостно приговаривать. «Ишь ты, убивается как», – подумал Афонька.
– Идём, чо ли. Да цыть ты, не вой только!
И, широко ставя ноги, он быстро зашагал. Татарка, ухватив его за рукав, хотя он и отмахивался от неё, засеменила рядом. Позади за ними дед-татарин. А следом гужом казаки тронулись. Но тут Афонька озлился. Повернувшись так, что татарка в сторону отлетела, он крикнул:
– Куды ордой ринулись? Забава вам это, бесстыжие ваши очи! – И так резво за саблю ухватился, что казаки попятились.
– Тьфу, дурень. Сбесился! Да провались ты, охламон! – И отстали.
Моисейка бегал по подворью с деревянной сабелькой в руках, которую ему Афонька на досуге изладил. Увидав тятьку, встречь ему кинулся. Но тут баба-татарка, глянув на Моисейку, негромко ахнула, бела, ровно мука, стала и раз – наземь снопом повалилась. Моисейка испугался, бежать ударился в избу. Тут баба посадская из избы выскочила, мужик её – что, мол, да как.
Афонька тоже испуган был. Подскочил к бабе-татарке – лежит, ровно неживая. Ухватил её Афонька на руки – легка, овечка, поди, и та тяжелее будет – донёс до избы, положил на завалину. Старик-татарин приклонился ухом к её груди.
– Нет помирай, живой баба. – Подул ей в лицо, водой из черпачка плеснул, та очнулась. Вскинулась на ноги и твердит одно: «Мой, мой».
Привели Моисейку. Кинулась она к нему, а Моисейка от неё уклоняется, за Афоньку прячется. Но она изловчилась, задрала рубашонку на Моисейке и тычет пальцем ему в грудь: глядите, мол, пятнышко родимое. И смеётся, и вырвавшегося Моисейку к себе манит, по-татарски что-то ласково приговаривает.
Да, стало быть, и впрямь найденный – сын её. И, стало быть, как воевода велел, – надобно отдать его родной матери.
Лютая кручина взяла Афоньку. Он долго сидел сгорбившись. В груди у него сдавило и сердце будто кто в кулак зажал – так оно через силу тукало. «Прощай, Моисейка. Как же теперь я без тебя?»
Ну как же Афоньке с Моисейкой расстаться? А что поделаешь? Да и Моисейка так просто не пойдёт за ней, криком себя задавит. Ведь он к Афоньке вот как привык. И по-русски говорит.
Крупная светлая слеза выкатилась из глаза и упала на широкую Афонькину ладонь. Афонька вздрогнул. Стряхнул ту слезу наземь и встал. Отвернулся ото всех. Потом позвал Моисейку и стал ему толковать, показывая на татарку: «То, мол, мать твоя, Моисейка, мамка, и ты с ней ступай, куда она скажет. А у меня служба сейчас, а как освобожуся, то я сызнова тебя к себе заберу».
Обманом уговорил парнишку, лукавством. И ушли они: татарин-старик, татарка и Моисейка-татарчонок – Афонькин сын приёмный…
* * *
Недели с две прошло после того.
Ладил Афонька у избы своего десятка дверь новую. Десятник Роман Яковлев велел. Ссохлась дверь и наперекос пошла. Десяток их был в отдыхе – разбрелись казаки кто куда: по посаду, в деревни подгородные – кто за чем. У иных уже пашни свои были, иные заводить собирались.
Тюкал Афонька топором без всякой охоты. Тюкнет раз, постоит, думы свои невесёлые думает. И вдруг слышит:
– Тятька!
Оглянулся – обмер. Моисейка бежит! А за ним поодаль татарка идёт.
Афонька к Моисейке встречь бросился, подхватил его, вверх подкинул. Тот хохочет, Афоньку за волосья треплет. Радый.
А татарка поодаль остановилась, идти дале заробела. Тут её Афонька пальцем поманил: иди-де, не бойся. Подошла несмело, говорить что-то начала. Афонька, как он знал уже по-татарски, понял с пятого на десятое, что ихних родовы никого нет, а в иных улусах её с дитём не принимают и еды никакой не дают – мол, к своим идите. Покормят только, на ночь пустят – и всё. А к своим, которые у киргизов, она идти не хочет, чтобы Моисейка в ясырь не попал с ней безвинно. И вот пришла к Афоньке. Он человек добрый, малого возьмёт, а она уж пусть помирает.
Афонька нахмурился: зачем помирать? Баба она молодая, ещё долю свою найдёт. Он не зверь никакой и гнать её не станет. Пусть-де со своим мальцом остаётся. Дойдёт Афонька до воеводы – он своей милостью не оставит.
Та головой мотает: «Нет, мол, не выйдет так», и пальцем в рот себе тычет и на парнишку показывает: Моисейка ись хочет.
Тут Афонька схватился, вбежал в избу, насобирал по углам у кого что: хлеба кус, где кашу в миске, где рыбёшку просоленную. Усадил Моисейку и бабу, велел им сидеть тихо, а сам, пока никто из казаков не вернулся, побежал искать кого из начальных людей – атамана Дементия Злобина или десятника Романа.
Вернулся с Романом.
– Эх, Афонька! До чего же ты человек неспокойный. Дались тебе: то дитё чужеродное, то баба теперь эта.
– Как же иначе, Роман? Поди же – люди они.
– Люди, люди. Ну и что делать с ними станешь?
– На посад сведу али на деревню, поселю у кого из пашенных.
– А на прокорм что им давать станешь? Хлебного жалованья не прибавится тебе, как ты есть несемейный, и за тобою они не записаны.
– Прокормлю. Может, пашню заведу али корову где куплю.
Свёл Афонька Моисейку и бабу-татарку Айшу – так имя она своё назвала – в посад, срядился с одним мужиком, откупил у него в долг, на совесть, без кабалы, избёнку малую, как тот себе невдавне новую большую поставил.
Очаг в избёнке был, стол да две лавки, да ларь большой в углу. А чего ещё надо? Велел Афонька Айше: живи, мол, здесь. Та слушается. Пошла за ним в избу. Вот, показывает Афонька, здесь варить чего будешь, а тут спать станешь, на лавке, и взял её за руку, хотел на лавку усадить. А она как рванётся и к двери бежать.
– Да чо ты, дура-баба? – изумился Афонька. – Нужна ты мне больно. Чо я, баб не видел?
На другой день взял Афонька вперёд в зачёт своего хлебного жалованья круп да ржи, да толокна, да масла конопляного. Принёс всё в избу.
А Айша у баб подгородных татарских где чего добыла – котёл, да посудин сколько, да шкур и кошмы на постели, из одежонки что немудрящей, да иное что в обиходе нужное. Обрядила всё в избёнке по-своему – кошмы на пол настлала, на лавки, ровно на стол, утварь понаставила и головой качает, мол, высоко, и рукой показывает низко от полу: такой-де стол надо. Посмеялся Афонька и обрубил ножки у одной лавки – на тебе. А со столом Айша не знала что делать. Крутилась, крутилась вкруг него, хотела наружу вынесть, но Афонька велел оставить: как это в русской избе да без стола.
Себе Айша в угол полог навесила, из тряпиц сшитый, и спать за него уходила.
Повеселел Афонька, как Моисейка вернулся. Не всё ли едино – у посадской ли бабы будет без него Моисейка али у этой? У этой-то ещё лучше – всё же мать ему.
С месяца полтора прошло. Стала привыкать Айша к Афоньке. Уже не так робела, как он в избёнку заходил. И только зайдёт Афонька, Айша начнёт услужать ему, а Моисейку всегда огладит, оправит на нём всё, потом к Афоньке подтолкнёт – сама смеётся. Видать, баба она ране весёлая была.
А как по избе суетится, на Афоньку косо поглядывает, но не со страхом уже, а из любопытства. Кинет взгляд и отвернётся, как приметит, что Афонька на неё глядит. Рукавом прикроется али ладошками, а сама из-под тиха опять зырк да зырк глазами.
Как-то раз растолковался с ней Афонька. Несчастная доля ей выпала. Муж стар был, а она у того старика – пятая жена. А сын её не от старика, потому как у неё ране муж молодой был, да забили его киргизы насмерть за то, что отказал им ясак давать, потому-де он ясак русским на Красный Яр давал. Она тогда, как мужа убили, брюхата была, и киргиз её не взял, и она к своим убежала. И тогда старик один, польстившись на её молодость, взял как бы в прислужницы себе, а потом год и жил с нею. А когда киргизы угоняли их улус, то её муж старый по дороге помер.
Привыкла Айша к Афоньке. Других же казаков боялась – потому как озорничали они: то вдогонку ей улюлюкнут и свистнут, то облапят.
Афонька, узнав про такое, серчал и выговаривал: чего-де бабу забижаете. А те смеются знай: «Что ты, Афоня, мы её шутейно. А чего её не потискать – баба она баба и есть, пусть кто и попользуется, коли ты глазами хлопаешь».
Евсейка как-то молвил Афоньке:
– Ты, Афонька, как спишь-то с ней, с Айшей?
– То ись, как это сплю с ней? – задивился Афонька.
– Ну как мужик с бабой спит? Будто, как младеня, не знаешь…
Афонька озлился.
– Ничо я не сплю с ней, – огрызнулся он и засопел.
– Ну да, сказывай, – загоготал Евсейка, – будто ни разу в постелю к ней не залез.
Тут Афонька вовсе в ярость вошёл. Ещё бы маленько и зашиб бы Евсейку, еле тот доспел отскочить от него.
– Ты чо, чёрт паршивый, сдурел! Из-за бабы-то!
– А чо, баба тебе не живая душа? Чо баба тебе – подол только задирать?
– А будто ты и не задирал подолы у баб улусных.
– Да, да… – начал было Афонька и смолк.
– А? Чо? Крыть тебе и нечем! Вот то-то…
– Тьфу, дурень ты, Евсейка. То совсем иная стать. Ить Айша-то ко мне подобру пришла, из-за мальца. Верит мне, что не обижу её. Как же я супротив её воли дурное чо учиню?
На те слова Афонькины Евсейка смолчал. Потом так сказал:
– Чо ж, Афонька. Может, и твоя правда в том. Но упреждаю тебя. Как бы кто из казаков чего не сотворил с Айшей твоею. Потому как тебе она никто – ни ясырка, ни полюбовница…
Афонька дёрнулся, хотел что-то сказать, но смолчал: сам знал, что всякое может статься. А вот как быть, как беду отвесть? Не приневоливать же бабу бедованную блудом с ним жить только для того, чтоб уберечь её от надругательства.
Помрачнел Афонька с того разговору с Евсейкой.
Однажды пришёл он в избёнку к Айше, а та плачет. А чего и почему, не мог сразу никак в толк взять. А как разобрался в чём дело – взъярился.
Ссильничать её хотел казак какой-то. За посадом поймал и в кусты поволок, да укусила его Айша за губу и убежала. А кто, как звать, каков с виду – не могла растолковать Айша. Только показывала – высок ростом. «Не Севостьян ли Самсонов?» – помыслил Афонька.
Успокоил её как мог Афонька. И хотя и ране не дотрагивался до неё – всё ещё боялся, чтоб не подумала чего дурного, тут по голове чёрной погладил, подивился в который раз, сколь она косичек сплетает. Не как русские – одну или две, а боле десятка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































