Текст книги "Избранная лирика"
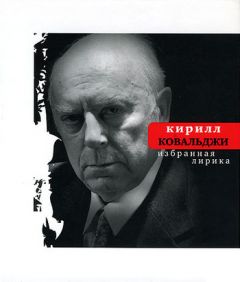
Автор книги: Кирилл Ковальджи
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
* * *
– При смене пластинок
Держись за карман:
Да здравствует рынок,
Да скроется план!
– Я за рынок, но я не рыночник,
У меня другой интерес,
Черепаший, но в гонке нынешней
Не догонит меня Ахиллес!
1992
РЕВНОСТЬ
Напишу я стихи про тебя,
а читатель возьмет и другую подставит
и присвоит, свое толкованье добавит,
чей-то собственный образ лепя…
Как я бьюсь над строкой,
чтобы ты – была ты, не такой,
как другие, а редкой избранницей,
чтоб читатель, завидуя, знал – не дотянется
до тебя,
и никто не сравнится с тобой!
* * *
Не могу себе вообразить
Иисуса в виде патриарха,
выходящего из лимузина,
медленно вступающего в храм…
Не могу себе вообразить
патриарха босиком, в хламиде,
на осле въезжающим на площадь..
Не могу вообразить владыку,
ноги моющим ученикам…
СОНЕТ ОЗАДАЧЕННЫЙ
Век отрезвленье позднее принес,
Смятенье на идейном пепелище,
Где все острей о пище, о жилище
Неотвратимый ставится вопрос.
Иное проповедовал Христос:
Он не учил обогащаться нищих,
А побуждал жить совестливей, чище
В земной юдоли, в этом мире слез.
Рубить узлы – глупее нет отваги.
Есть противонаправленные тяги,
Мы между ними – словно тетива.
Боль разрешается стрелой в полете!
Бесплоден дух, когда враждебен плоти,
Без духа плоть – распутная вдова.
* * *
В конце столетья общество больное.
Прощанье с Марксом. Снова Бог и бес.
Свобода, секс, насилие и стресс.
Свердлов – палач, а бывший царь – в герои.
Знак поменяла та же паранойя?
Воскрес к процентам крови интерес…
Спасется ль новой вырубкою лес?
С небес ли ждать решение земное?
Детей рожайте! – это свет в туннеле,
Надежда на младенца в колыбели.
Всего мудрее косвенный ответ.
Я знаю – мир приблизится к здоровью
Через терпимость. Но как быть с любовью
К врагам своим?.. Не мучь меня, Завет!
ТАКОЙ ЧАС
Что геройства запал,
коли разум погиб?
Час загиба настал,
торжествует загиб.
Дурь пошла на подъем,
подняла кутерьму, —
переспорить дурдом
не дано никому.
Все наперекосяк,
потому что загиб
заразителен, как
в эпидемию – грипп.
Тут нужна чистота,
а не бомба и штык.
Белой марлей – уста,
чтоб микроб не проник.
Если снова потоп
в обезумевший век —
не сколачивай гроб:
время строить ковчег.
Будет вопль, будет стон,
но молюсь, не как Ной:
дай, чтоб мир был спасен
не такою ценой!
1993
* * *
По Румынии метельной
еле ходят поезда,
сквозняком купе продуты,
на окне рисунки льда…
Ранний сумрак в день приезда;
по проспектам Бухареста
ветер бегает с ножом,
а свобода – нагишом.
И Москва вдали озябла
и простужен Кишинев,
между ними по Европе
расползающийся шов;
ни утопий, ни гостинцев —
пофартило же берлинцам:
их края без половин,
плед, натопленный камин.
Мне не спится в Бухаресте,
наплывает холод с гор.
Возраст, время или вечность —
что за дело? Кончен спор.
Так сложилось – не свободен
от границ, от разных родин,
я работал, сам не свой,
точно мост переносной.
Был мой век – землетрясенье,
опрокидыванье глыб.
Стал милее и дороже
мир, который не погиб.
Жизнь – прыжки через пробелы,
следом память с нитью белой:
как из пены – кружева.
Кем намечена канва?
Кружевница-мастерица,
обработчица пустот,
жизнь моя, скрещенье жизней
и светил небесный ход,
а еще познанья жажда
там, где каждый из сограждан
знает холод и тепло
лучше, чем добро и зло.
Вновь с друзьями в Бухаресте
завожу о встрече речь,
потому что холод хочет
подморозить и пресечь:
мол, на все про все, пойми ты,
есть незримые лимиты
и последние разы
без прощанья, без слезы…
Бухарест, декабрь 1991
* * *
Перелетные птицы на зиму
улетают на юг.
Север нам отведен. Это нас ему
с головой выдают.
Нас Россия в рассвет по росе вела,
по лесам, где зверята.
Северянки мои на севере
и северята…
НОВЫЙ ГОД
Невидимый порог,
придуманный, условный,
твержу: не паникуй,
порога просто нет…
Но маета души,
но сердца стук неровный —
запутался в себе,
на свой ступаю след.
Мне жаль себя и вас.
В скафандрах одиночеств
по камерам квартир,
в границах государств,
дальтоники любви
и пасынки пророчеств,
пугаемся врачей,
больные от лекарств.
Когда б душа всерьез
хотела быть счастливой
не стала б, замерев,
глазеть на календарь,
где лишь обратный счет
с обратной перспективой
накликаешь себе,
как отреченье – царь.
Мгновение – твое,
ты в нем богаче Креза,
Вселенной равносущ,
мирам равновелик.
Бессмертие и смерть
всего лишь антитеза,
клубок противоборств
и таинств маховик.
За окнами судьба
как города громада,
я ей в глаза смотрю
отсюда, изнутри,
и белыми, как ночь,
штрихами снегопада
лучами вместо струн
играют фонари.
ПЕРЕДЕЛКИНСКОЕ
Сюда от станции недолго —
вдоль кладбища через мосток
тропой до дачного поселка…
Не виноват я, видит Бог!
Усталым стал и невеселым,
и рассказать хотел сосне,
что начал к будущим глаголам
примеривать частицу «не».
Полвека ждали эти сосны,
пока по свету я кружил
и сыпал пепел папиросный
(я «Беломор» тогда курил).
Теперь и сам сосной под солнцем
я среди сосенок стою,
и сколько жизней, словно кольца,
я уместил в одну свою!
Немало прожил и неплохо,
вот книги, дом, друзья, родня…
Но как поймет душа-дуреха,
что лес – он лес и без меня?
Не обещайте мне как другу,
что есть надличная спираль,
да, есть, но я очерчен кругом,
за ним – не я, иная даль…
Я подхожу к черте последней, —
а вдруг, травинку теребя,
я встречу на тропинке летней
двадцатилетнего себя!
– Привет!
– Откуда ты?
– Отсюда…
Садится солнце. Скоро тьма…
Не отнимайте веру в чудо,
Не прибавляйте мне ума!
* * *
Душа консервативна,
упряма, непряма,
как женщине – противны
ей доводы ума.
Она желает чуда
всегда и навсегда
оттуда ли, отсюда,
но сразу и сюда!
Верна себе, наивна
эфирная струя
ведет ретроспективно
к началу бытия.
В отличие от плоти
уверена: в пути
при новом повороте
начало – впереди!
Не возражай. Загадка
пристала ей сия…
А без загадок – гадко
тебе, душа моя.
СТОЛИЧНЫЕ СТАНСЫ
Я видел сто столиц, да я и сам в столице
лет тридцать, но провинциален
я, как апостол Павел, и едва ли
уже смогу перемениться.
Я в детстве жил на первом этаже,
который москвичам не по душе:
на первом жить – им требуется смелость,
но ежели второго не имелось?
Не помню летом я закрытого окна,
дверь на ночь лишь была притворена,
спал как младенец в слепоте бесстрашной
провинциальный мир одноэтажный
(сентиментальный мир, немаловажный)…
Но мысль взлетала в купол голубой
затем, что не была подавлена толпой
за неименьем толп. Без них ты гениален,
чему и радуйся, пока провинциален.
Жила-была любовь, и если к ней прибавить
закончившуюся позавчера войну,
весну и глухомань, стихи во сне – судьба ведь! —
неопытность, озноб, днестровскую волну —
получится восторг. Какие ни готовь
подробности потом, – неисправимым буду:
мне навсегда в диковинку любовь
и авиация. Да не привыкну к чуду!
Летать я не рожден, и в самолете,
прошу простить, испытываю стресс;
с недоумением смотрю на стюардесс…
под стать моей незащищенной плоти
дом на земле и в будничной заботе
не высший пилотаж, а пассажирский рейс…
Веселой молодости демон
подталкивал покинуть дом родной…
Под старость, говорят, нам хочется домой;
и я вернулся бы, но где он,
тот дом родительский, который звался «мой»?
* * *
В ту пору славную, когда
хватало пальцев на года,
когда у вольных половинок —
еще ни свадеб, ни разводов,
ни огородов, ни доходов,
ни юбилеев, ни поминок, —
богаты были я и ты
среди руин и нищеты…
ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ
Здесь царствовал когда-то я,
здесь были дом, семья,
моя любимая, друзья
и молодость моя.
Да, башни крепости – в строю.
Лиман и небеса…
Калитки, окна узнаю,
былые адреса.
Но время вымыло навек
и выбило из них —
как будто новый был набег —
всех подданных моих.
Такая встреча: город мой
похож и непохож,
переменился – не чужой,
но отчужденный…
Что ж,
забыв меня, моих друзей,
он, продолжая жить,
музеем юности моей
не собирался быть!
Пускай слетелась на лиман
чужая ребятня:
бежит к лиману мальчуган,
похожий на меня.
* * *
В сорок пятом зимой в комнатенке с верандой
у тети Розы жили три квартирантки —
то ли сержантки, то ли лейтенантки.
Я был младше их года на три-четыре,
мне пятнадцать стукнуло. В послевоенном мире
пел патефон за стеной в той квартире…
Из-под пилотки локоны золотые,
гимнастерки хэбэ с ремнем, как литые,
сапоги-сапожки – тук-тук – позывные.
Фронтовички призыва последнего года,
им досталась война другого, победного рода:
Бухарест, Белград, Будапешт… Из похода
кое-что перепало им: полуботинки,
шали, пудра, чулки, керосинки,
а еще открытки, картинки, пластинки…
Вечерком, как на вахту, заступали поклонники,
капитаны, а может, и подполковники,
а пока – примостились на подоконнике,
зазывают меня, начинают шутки-расспросы,
улыбаясь, одна предлагает мне папиросы,
другая сплетает и расплетает косы.
Одна говорит, чтобы я не стеснялся,
а так вот сразу взял и признался:
хоть раз с девчонкой поближе я знался?
Быстрый жар обдает меня до макушки.
Мать зовет: «Ты не слушай их. Шлюшки».
Ночью душно мне на моей подушке.
Слава богу, теперь вместо бомб – гулянки,
в кружках спирт, на газете консервные банки,
все путем, не случись с «буржуйкой» подлянки…
Шум под утро: по пьянке компания угорела.
Одна к нам шастает то и дело
за лимоном. Шинель на голое тело.
Во дворе гуляки зябко сутулятся,
офицеры в белье, словно мокрые курицы,
Хорошо, что не видно их с улицы.
Сокрушается мама: «Что за дурешки!
Без войны хотели погибнуть, как кошки…
А у той, у одной – шинель да сапожки…»
Послевоенных южных ночей лихорадка.
Жаркой гарью ноздри щекочет сладко.
Полстолетья прошло – угорелая снится солдатка…
СТАРАЯ ПЛАСТИНКА
Компьютер, CD-rom,
дисплейные картинки —
интерактивный мир
из виртуальной мглы…
Стихи, мои стихи,
вчерашние пластинки,
проигрыватели
корундовой иглы…
Старо, я говорю,
смотри в глаза прогрессу,
а что не интернет,
то, как верлибр, старо.
Даешь евроремонт!
Да здравствует процессор!
Кружится впереди
гусиное перо…
ТАРАКАНОВА И ОРЛОВ
Последняя встреча
– Боже мой, на кого променял!
На Катькину дряблую тушу!
Любовь нашу предал и продал меня,
сгубил свою гордую душу!
Неужто, ответь, недостойна Россия
царицы, как я – молодой и красивой?
– Утеха и жар молодого огня, —
имперскому делу помеха,
а в Катьке и ум, и расчет, и броня,
державная тайна успеха.
Царицею быть не смогла б ты и дня!
…Проходят столетья:
– Ты предал меня!
«Ты предал!» —
как колокол – эхо.
– Россию не предал! —
опять говорит
прославленный,
бледный как смерть, фаворит, —
престолу служил и отчизне.
…При жизни остался без жизни…
МОЛДАВСКАЯ ПЕСНЯ
Лес дремучий, лес густой,
ни конца ему, ни края —
в лес вошел я молодой.
Шел за счастьем и судьбой,
с кем столкнулся, разминулся —
не расскажет лес густой.
Шел я с песней удалой,
а под вечер на опушку
вышел я – старик седой…
* * *
Ничего не хочу!
Я открыл эту радость под старость.
Ничего не хочу.
Замечательно, что не хочу,
что по телу течет и течет
золотая усталость,
заливая года,
как оплавленным воском свечу.
Тишина заплела
в убедительном вечном повторе
все, что будет и есть,
с тем, что было когда-то давно…
«Ничего не хочу», —
повторяет усталое море,
убаюкивает
перед завтрашним штормом оно.
НА ПЛЯЖЕ
Из волн выходит легким шагом
а вслед за ней – незримый шторм:
бледнеют море с Карадагом
от гениальных юных форм.
Во дни политики, теорий,
компьютеров, шальных забот
Бог на мгновение у моря
не зря такое создает.
Глаза мужские не тревожат
ее покой. Как за стеной,
она змеей меняет кожу —
купальник мокрый на сухой.
Сияет синь, ее лаская,
а я гляжу, себя казня:
хоть раз бы втюрилась такая
со взгляда первого в меня!
Мгновенно, как при вспышке блица,
всегда влюбиться был готов,
но, чтобы отклика добиться —
так это стоило трудов.
И вот с догадкою простою,
что жизнь напрасно прожита,
стою я перед красотою
на берегу, как сирота.
И солнце, поднимаясь выше,
уже не радует – печет,
а что до всех меня любивших
и любящих – так то не в счет!
* * *
Шептала артисту влюбленно:
– На что твой Отелло похож?
Ты не такой. Дездемону
зачем за горло берешь?
Возьми и поверь Дездемоне.
Не бойся Шекспира. Он мертв.
Спаси ее. Мир потрясенный
у ног твоих будет простерт!..
Вернулся домой смущенно:
– Над нами какой-то рок:
я вновь задушил Дездемону,
прости, я иначе не мог!
БАБОЧКА
В школьной библиотеке весна.
Бабочка на книге у раскрытого окна.
Стихи большого поэта!
Библиотекаршу просил горячо:
– Дайте его еще!
– Это все, – говорит, – больше нету!
Правда, есть в переплетах замочные скважины…
– Дайте. Все, что связано с ним, – это важно!
– Важно-то важно, но правда такая – не в честь…
.......................................................................................
– Боже мой, в этой жизни – поэзия узница!
Зачем вы мне дали такое прочесть?
– А зачем тебе, милый, гусеница,
когда бабочка есть?
ОБРАТНАЯ СИЛА
– Режиссер перепутал. Не так это было,
и Высоцкий не в тот появляется год…
– Но зато у искусства обратная сила —
в сорок первом году Окуджава поет!
– Ну а вещий Олег? Вот спешит он к Дунаю.
Неужели поэта включишь в тот набег?
– Я Россию без Пушкина не представляю —
и Олег без него – не Олег…
* * *
Ах, русская классическая проза! —
больнее не придумала вопроса:
рай невозможен по соседству с адом,
преступно быть счастливым, если рядом…
Потом нас умирать учил тиран
во имя пролетариев всех стран.
* * *
В день осенний у дома Волошина
говорю я не то что положено:
– Я тебя не увижу зимой,
Коктебель, отправляюсь домой.
Жаль, что ты – не моя колыбель;
я прощенья прошу, Коктебель.
Было лето на лето помножено
для меня, а судьбой для Волошина —
круглый год до пурги в декабре,
до последней норы на горе…
БОРИСУ ЧИЧИБАБИНУ
…Есть в Крыму Коктебель,
там была наша жизнь хороша —
Сном развеялся Крым с Коктебелем.
Б. Чичибабин. Кириллу Ковальджи
Говорить по душам все трудней в наши душные дни.
Доверяю стихам, но приходят к поэтам они
С каждым годом все реже и реже.
Пусть ползет полосой за волной серой гальки накат,
Как подаренный грош, за щекой – сердолик и агат
Все еще бережет побережье.
Я охотно отдам за хохлацкий купон по рублю,
Лишь бы встретиться нам – вдалеке я молюсь и молю
О всевышне дарованном часе,
Долгожданном, когда кипарис заволнуется весь,
Тиражируя весть, что Борис Алексеевич здесь,
С Лилей он на заветной террасе.
Те же розы, кусты тамариска и россыпи звезд…
Море, знаешь ли ты, что Россия – за тысячу верст,
Что твой берег – уже зарубежье?
Думал ли Коктебель, дом Волошина и Карадаг,
Что граница, кромсая страну так и сяк,
Побережье на ломти нарежет?
Катастрофа, державный склероз, но не верится мне.
Как и Вы, я прирос к этой вечно несчастной стране.
Не согласен я с горем, хоть режьте.
И пока я живу и дышу – наяву и во сне
Неустанно ищу у расколотой чаши на дне
Я последнюю каплю надежды.
Как нам быть, дорогой, с разделенной и горькой страной?
У нее на большой глубине есть запас золотой,
С оскуденьем нельзя примириться.
А во мгле у поэтов есть свой нерушимый союз,
Потому на земле никаких я границ не боюсь,
Как велят нам бессмертные птицы.
МОСКВА-93
…и Москва стала призрачной,
нереальной и странной,
большевицкой и рыночной,
русской и иностранной,
офисной и палаточной,
нищенской и роскошной,
набожной и припадочной,
выморочной и киношной,
с цоколем без Дзержинского,
с митингами и без оных,
с долларами и джинсами,
в звездах, рекламах, иконах, —
для сыновей и пасынков
стала мудреной и муторной,
но бережет за пазухой
завтрашний день компьютерный.
* * *
Осень свинцовая эта
невыносимого года,
горе с Садовым кольцом —
улица без перехода,
красные знаки запрета,
бред с безысходным концом.
Этим Кольцом неразорванным
бродим в поисках брода
снова по разные стороны
улицы без перехода, —
это московская мука —
щуриться близоруко,
маяться друг без друга,
не разрывая кольцо:
прочность порочного круга,
бешеная центрифуга,
чертово колесо…
CHERCHEZ LA FEMME
Роковые женские судьбы двадцатого века…
Жены, подруги, соратницы…
Александра Федоровна, дети и бывший монарх —
всем погибель в Ипатьевском доме.
Клара Петаччи с любовником дуче —
расстрел и повешенье вниз головой.
Ева Браун выходит за Гитлера,
чтоб назавтра на пару покончить с собой.
Чета Чаушеску – старик и старуха
торопливо расстреляны в день Рождества.
Александра, Клара, Ева, Елена —
власть, любовь и совместная точка в конце.
Воцарились две Нади в Кремле,
одна, еще молодая,
грозному мужу смерть предпочла,
другая при непохороненном муже состарилась,
упал на колени Жаклин окровавленный президент,
Цзян Цин убивает себя – вдова великого кормчего,
Кто еще и когда?
Может, больше никто не успеет
в этом веке – конец ему скоро…
Я гуляю по набережной Коктебеля,
ранний вечер, луна плывет одиноко,
грохотание модного рока, миганье огней —
танцплощадки огромная раковина
совершенно пустая, но вот в середину
выбегает джинсовая девушка,
извивается стеблем, руки воздев,
танцует сама для себя
одинокая под одинокой луной…
Что ее ждет? Что задумали звезды?
И СЕГОДНЯ
Со всех сторон Достоевский
сует мне свои сюжеты…
– Простите, Федор Михайлович,
но Вам потакать не желаю,
не желаю я быть героем
гениальных русских трагедий —
пусть считают меня идиотом!
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Я дверь открыл. Освободил раба.
Но находил другого непременно
То под кроватью, то в шкафу. И стены
Твердили, что не кончится борьба.
Я люк открыл. Обшарил погреба:
Рабы там жмутся, преклонив колена…
Я выгнал их. И, наконец, из плена
Я вывел мысль. Колпак смахнул со лба
И в поле выбежал. Перегородки
Не отстают. Кустарники – решетки,
Заря к тому ж включает красный свет…
Но вам-то что? Я тих и дружелюбен.
А на свободе вор, ублюдок, люмпен —
Все, для кого в душе запрета нет.
УДИВЛЕНИЕ
Это так удивительно, что не только я,
что и без меня, что и после меня,
что и до меня, что всегда и все,
хоть единственный я – это я.
Поцелуй, апельсин, морская волна,
песня, слово, женская грудь,
память, мысль и бессмертный след…
Как же так на земле – без меня?
Я сейчас, я теперь, я вот здесь
или здесь, где со мной переносится ось
мировая, – куда б я ни шел.
Я – как все, и я – не как все.
Смерть бывает со всеми, кроме меня…
Повтори про себя. Раздели это чувство со мной.
* * *
Жизнь вначале – пейзаж
с дальней горной грядой,
все – вдали, впереди,
ничего – за спиной,
ширь зовет, бесконечна, желанна…
А когда наступает
седая пора,
придвигается прошлое,
словно гора,
даль стирается кистью тумана.
Так встречайте меня,
без подробностей дня,
с горной высью переднего плана!
* * *
Что нового в конце тысячелетья?
А ничего. Я также уязвим
По-глупому. В раскинутые сети
Вновь попадаюсь, как тупой налим.
Что век и память? Байты на дискете?
Что сберегаем и зачем храним?
Бег времени больней всего на свете,
Когда ты замкнут в нем и нелюдим.
Прогресс? Но у любого пациента
В «Истории болезни» хеппи-энда
Не существует, как там ни лечи.
Куда мы шли? Куда я шел? А эти
Куда ведут? В дверях тысячелетья
Незапертых – опять ищу ключи…
2000
СВОЁ ЛИЦО
– У Адама ни детства, ни отрочества,
мамы не было, нет и отчества…
– Не в рождении суть, а во взрослости,
где ты в фокусе дан, —
так Христа в совершенном возрасте
в Иордане крестил Иоанн.
Апогей человеческой личности,
дух и плоть
и любви торжество;
остальные года – количество:
«до того» и «после того».
Как все лучшее в доме – для праздника,
так готовится неспроста
для бессмертия:
лик – от праведника,
от возлюбленной – красота.
Бытовая изменчивость облика
лишь для зеркала…
Будешь цвесть
во сверхпамяти и за облаком
в главном облике,
если он есть.
И сотрутся подробности прочие,
чтобы ты не предстал в неглиже…
Образ твой в своем средоточии
вознесен над смертью уже.
* * *
В гаданье видите резон
и ждете от судьбы подачки? —
тогда проваливайтесь в сон
и допивайтесь до горячки, —
скрестите ноги на полу
или садитесь на иглу.
А я люблю, и день мой ярок,
готовлю сам судьбе подарок,
свой знак в грядущее введу,
как в гороскоп – свою звезду.
* * *
Какая-то странная речка:
текла, упорно текла, —
до моря, до цели конечной
шагов двадцати не дошла.
Не так ли с людьми происходит?
Остался последний бросок —
и вдруг ничего не выходит,
уходит удача в песок.
Но нет, – потерпев пораженье,
неявный реванш берет,
подпочвенным продолженьем
просачиваясь вперед.
Угодны судьбе своевольной
не те, так другие пути,
и можно подземно, подпольно
до синего моря дойти.
* * *
Я особо чувствителен к ожиданиям,
к ожидающим, ждущим, надеющимся,
потому то снится мне ангел страдания
над окопами, бомбоубежищами,
Помню я матерей безутешными,
судьбы надвое перерубленными,
крыши брошенными, ночи кромешными,
и возлюбленных
погубленными…
Перемелется все, переплавится…
Но глаза, которые ждут,
все по-прежнему сердце жгут.
С этой слабостью мне не справиться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































