Читать книгу "Мемуары госпожи Ремюза"
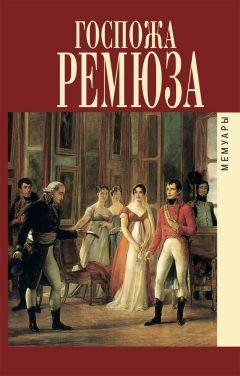
Автор книги: Клара Ремюза
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дед мой 13 марта отправился в Лафит, где семья присоединилась к нему несколько дней спустя. Здесь-то и оставались они все три месяца правления, более короткого, но еще более пагубного, чем прежнее, – которое носило название Ста дней. Здесь-то отец мой начал свою карьеру писателя, не создавая еще ничего оригинального, но переводя Попа, Цицерона и Тацита. Единственными оригинальными произведениями были его песни.
Все они жили там спокойно, дружно, почти счастливые, ожидая конца этой трагедии, завершение которой предвидели; весть о битве при Ватерлоо застала их там. Вместе с известием об отречении Наполеона они узнали, что Ремюза назначен префектом в Верхней Гаронне ордонансом (королевским приказом. – Прим. ред.) от 12 июля 1815 года. Это назначение как нельзя более подходило мужу, возвращая его к деятельности, которую он любил, и не принуждая к придворным торжествам, но гораздо менее нравилось жене, которая жалела о Париже и своих друзьях, а также боялась волнений в Тулузе, ставшей добычей южного роялизма, «белого террора», как тогда говорили. Новый префект тотчас же отправился туда, узнал по приезде об убийстве генерала Рамеля, который, однако, водрузил белое знамя на Капитолии. Так велика несправедливость и жестокость партий, даже торжествующих, особенно торжествующих!
Однако как ни интересен этот эпизод наших гражданских бурь, нет необходимости на нем останавливаться. Здесь речь идет не о префекте, но именно о госпоже Ремюза. Несколько обеспокоенная событиями, а может быть, боясь резкости мнений сына, мало соответствующих официальному положению, госпожа Ремюза позволила ему возвратиться в Париж, что очень ему подходило. Тогда между матерью и сыном и завязалась переписка, которая лучше с ними познакомит и позволит больше узнать относительно личности автора этих мемуаров, чем сами эти мемуары.
Но здесь речь идет только об этом последнем труде, и нет необходимости подробно рассказывать о месяцах, даже о годах, следующих за 1815 годом. Назначенная в кровавые дни администрация департамента была в течение девятнадцати месяцев в очень трудном положении. В то время как в Париже сын, живя среди очень либерального общества, дошел до передового конституционного роялизма, который был уже только терпим по отношению к Бурбонам, отец получил от совершенно другого общества подобное же влияние и благодаря своим предложениям и поступкам, встал в первый ряд чиновников, настроенных наименее роялистично, наиболее либерально. Он был умерен, друг законов, справедлив, не фразер, не аристократ, не ханжа. Город Тулуза был до известной степени противоположностью всему этому, однако Ремюза удалось оставить там по себе добрые воспоминания.
Любопытны эти первые времена конституционной свободы даже в провинции, мало предназначенной к тому, чтобы смело осуществить ее теории. При свете этой свободы освещалось то, что Империя оставила в тени. Все возрождалось: мнения, чувства, недовольства, страсти, наконец, сама жизнь. Правительство Бурбонов было представлено женатым священником Талейраном и цареубийцей, якобинцем Фуше, но этого было еще недостаточно, чтобы противодействовать реакционной партии тех времен, а потому либеральная политика стала торжествовать только с правлением Деказа, Паскье, Моле и Ройе-Коллара и со времени знаменитого ордонанса 5 сентября[9]9
5 сентября 1816 года по настоянию министра полиции графа
Деказа была распущена ультрароялистская палата депутатов.
[Закрыть]. Эта политика естественным образом должна была принести пользу тем, кто ее заранее держался, и во время поражения либеральной партии на выборах в Верхней Гаронне к префекту отнеслись хорошо. Как только министерство утвердилось и Лэне заместил Воблана, дед мой был назначен префектом Лилля, и вот как отец в уже упомянутом письме передает впечатления, какие произвели эти события на взгляды моей бабушки:
«Назначение моего отца в Лилль снова ввело мою мать в среду бурных движений общественного мнения, движений, которые вскоре должны были выразиться так сильно, как этого не случалось, быть может, с 1789 года. Ее ум, ее мысль, все ее чувства и верования должны были двинуться вперед. Империя, которая сначала возбудила в ней интерес и сознательность, как всякое великое событие в нашем мире, позднее дала ей принципы движения к чисто моральной цели, внушая отвращение к тирании. Отсюда – смутное стремление к правильному правительству, основанному на законе, на разуме и национальном духе, отсюда – известное признание форм английской конституции. Ее пребывание в Тулузе и реакция 1815 года дали ей знакомство с реальными условиями жизни, которого никогда не достигнешь в парижских салонах, сознание результатов и даже причин революции, понимание нужд, чувства нации. Она поняла в общей форме, в чем была опора, сила, жизнь, право. Она знала о существовании новой Франции и о том, какова она».
VI
Пребывание в Лилле было прервано несколькими путешествиями в Париж, где бабушка моя нашла сына среди светских удовольствий, которые предшествовали его литературным успехам, начавшимся несколько месяцев спустя. Впрочем, ему приходилось уже писать и сочинять в письмах к матери, посвященных литературе и политике. Мать его имела больше досуга в Лилле, чем в Париже, и, хотя здоровье ее было всегда слабо, у нее снова появилась охота к умственному труду. До сих пор она ничего не писала, кроме своих сожженных мемуаров, и только иногда пробовала набросать короткие новеллы или маленькие статьи. Она начала, на досуге провинциальной жизни, роман в письмах под названием «Испанские письма, или Честолюбец». В то время как бабушка работала над романом с охотой и успехом, в 1818 году вышли в свет «Размышления о французской революции», посмертный труд госпожи де Сталь; он произвел на госпожу Ремюза самое сильное впечатление. Теперь, через шестьдесят лет, плохо отдают себе отчет в том необыкновенном впечатлении, какое мог произвести такой труд – красноречивое рассуждение о принципах революции.
Взгляды автора, в то время очень новые, теперь для нас представляют только прекрасные и благородные общие места, справедливость которых повсюду признана. Но не так было тотчас же после Империи. Все тогда было ново, и дети, смущенные двадцатилетней тиранией, должны были узнать то, что так хорошо знали их отцы в 1789 году. Что особенно поразило мою бабушку, это пылкие страницы, где автор отдается своей несколько демонстративной ненависти к Наполеону. Она сама испытывала похожие чувства, но так и не могла забыть, что думала раньше несколько иначе.
Люди, любящие писать, естественно искушаемы желанием объяснить на бумаге свои поступки и свои чувства. Это способ лучше их понять. Ей захотелось восстановить свои воспоминания, изложить, что представляла из себя Империя, как она любила ее и восхищалась ею, потом осуждала и боялась ее, потом подозревала и ненавидела, и, наконец, покинула.
Мемуары, которые госпожа Ремюза уничтожила в 1815 году, могли служить самым безыскусственным и точным изложением этой смены событий, положений и чувств. Нечего было и думать воспроизвести их, но можно было создать новые, которым верная память и чистая совесть придали бы такую же искренность. Воодушевленная этим проектом, она написала сыну 27 мая 1818 года:
«Вчера я была охвачена новой причудой. Ты узнаешь теперь, что я встаю ежедневно в шесть часов и пишу с этого времени очень аккуратно до девяти часов с половиной. Итак, я сидела за своими трудами, с тетрадями «Честолюбца», разбросанными вокруг меня. Но несколько глав госпожи де Сталь пронизали мой ум. И вдруг я бросаю роман в сторону, беру белую бумагу, я охвачена потребностью говорить о Бонапарте; вот я рассказываю об убийстве герцога Энгиенского, о той ужасной неделе, которую я провела в Мальмезоне. Так как я человек, живущий чувством, через несколько строк мне кажется, будто я опять переживаю это время. Факты и разговоры как бы сами собой встают передо мной; я написала двадцать страниц со вчерашнего дня, и это меня сильно взволновало».
Та же причина, которая пробудила впечатления матери, возбудила литературные вкусы и воззрения сына, и в то время как он печатал в «Архивах» свою первую статью о книге госпожи де Сталь, 27 мая 1818 года он написал своей матери письмо. Письма, как говорят, встретились в пути.
«Эта книга, мама, разбудила во мне очень сильное сожаление, что вы сожгли мемуары, но я сказал себе, что их нужно заменить. Вы обязаны сделать это ради вас, ради нас, ради истины. Перечтите прежние альманахи, «Монитор», страницу за страницей, перечтите и спросите свои прежние письма, написанные друзьям, особенно моему отцу. Старайтесь найти не подробности событий, но главным образом свои впечатления по поводу событий. Возвратитесь к мнениям, которых уж нет, к иллюзиям, которые потеряны, даже к ошибкам. Покажите себя, как многие уважаемые и разумные люди, негодующей и возмущенной ужасами революции, увлеченной естественной, но мало продуманной ненавистью, энтузиазмом, в сущности очень патриотическим, по отношению к одному человеку. Скажите, что мы все в то время сделались как бы чужды политике. Мы нисколько не боялись власти одного, мы шли ей навстречу.
Покажите затем человека того времени, который портился (или обнаруживал себя) по мере того, как росло его могущество. Покажите, по какой печальной необходимости, теряя свои иллюзии на его счет, вы становились все в большую и большую от него зависимость, и как, чем меньше вы ему повиновались сердцем, тем больше надо было повиноваться фактически. Как, наконец, после того как вы верили в справедливость его политики, потому что ошибались относительно его личности, разочаровавшись в его характере, вы начали разочаровываться и в его системе. И нравственное негодование привело вас к тому, что я называю политической ненавистью. Вот что я умоляю вас сделать, мама. Вы услышите мою просьбу, не правда ли? И вы сделаете это?»
Два дня спустя, 30 мая, моя бабушка отвечала сыну:
«Не поражен ли ты тем, как мы понимаем друг друга? Я также читаю эту книгу, я поражена так же, как и ты; я жалею об этих несчастных и начинаю писать, не зная хорошенько, куда это меня ведет, так как, дитя мое, это в самом деле несколько трудная задача – та, которая меня искушает и которую ты мне предписываешь. Я хочу, однако, постараться восстановить известные эпохи, сначала без всякого порядка и очереди, события, как они вспомнятся. Ты можешь довериться мне, говоря по правде.
Вчера я была одна перед моим письменным столом. Искала в своих воспоминаниях первые моменты моего появления вблизи этого несчастного человека. Снова переживала массу вещей, и то, что ты так хорошо называешь моей политической ненавистью, было готово исчезнуть, чтобы уступить место моим прежним иллюзиям».
Несколько дней спустя, 8 июня 1818 года, она настаивает на трудности своей задачи:
«Знаешь ли ты, что я нуждаюсь во всей своей храбрости, чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь? Я немного напоминаю особу, которая провела бы десять лет на каторге и у которой спросили бы дневник с записями об этом времени. Теперь мое воображение тускнеет, когда возвращается к этим воспоминаниям. Я испытываю что-то тяжелое от моих прошлых иллюзий и настоящих чувств. Ты прав, говоря, что у меня прямая душа, но отсюда следует, что я не могу безнаказанно чувствовать, как многие другие, и уверяю тебя, в течение недели я ухожу совершенно удрученная от письменного стола, куда ты и госпожа де Сталь засадили меня. Я не могла бы сказать никому другому, кроме тебя, о моих тайных впечатлениях. Меня бы не поняли и посмеялись бы надо мной».
Наконец, 28 сентября и 8 октября того же года она писала сыну:
«Если бы я была мужчиной, то, вероятно, отдала бы часть своей жизни, чтобы изучать Лигу, но так как я только женщина, я ограничиваюсь тем, что набрасываю замечания о том, кого ты знаешь. Какой человек! Какой человек, сын мой! Он ужасает меня, как только я начинаю писать. Для меня было несчастьем, что я была слишком молода, когда жила подле него. Я недостаточно думала о том, что было вокруг меня, а теперь, когда мы двинулись вперед – и я, и мое время, – мои воспоминания волнуют меня больше, чем это делали события.
Если ты приедешь, то увидишь, как мне кажется, что я не теряла времени в это лето. Я написала уже около пятисот страниц и напишу гораздо больше; работа увеличивается по мере того, как я за нее берусь. Потребуется впоследствии много времени и терпения, чтобы привести все это в порядок, а у меня, быть может, никогда не будет ни того ни другого. Это будет твое дело, когда меня не будет больше на этом свете…»
«Отец твой, – писала она еще, – говорит, что не знает никого, кому бы я могла показать то, что написала. Он думает, что нет никого, у кого был бы больше развит талант быть правдивым, это его выражение. Кроме того, я пишу не для кого-то неизвестного. Когда-нибудь ты найдешь эту рукопись в моем бюро и сделаешь с ней, что захочешь».
«Но знаешь ли ты мысль, которая иногда преследует меня? Я говорю себе: «Если бы когда-нибудь сын мой издал это, что бы обо мне подумали?» Мной овладевает беспокойство, что меня сочтут дурной или по крайней мере недоброжелательной. Я старалась найти случаи хвалить. Но этот человек был таким убийцей добродетели, а мы, мы были так принижены, что очень часто отчаяние охватывает мою душу и у меня готов вырваться крик правды».
Из приведенных отрывков видно, под влиянием каких чувств были задуманы и написаны эти мемуары. Это не было ни литературным препровождением времени, ни развлечением для воображения, ни результатом претензий писателя, ни опытом пристрастной апологии. Но страсть к истине, политическое зрелище, которое было перед глазами автора, влияние сына, с каждым днем все более и более укреплявшегося в либеральных взглядах, которые должны были составить очарование и гордость его жизни, дали ей мужество работать над мемуарами более двух лет. Она поняла благородную политику, которая ставит права человека выше прав государства.
Но и это не все. Как бывает с людьми, сильно преданными умственной работе, все оживлялось и освещалось в ее глазах, и никогда она не вела более деятельной жизни. Среди страданий, причиняемых слабым здоровьем, она постоянно ездила из Лилля в Париж, играла роль Эльмиры в «Тартюфе», в замке Шамплатре у графа Моле, занималась работой о женщинах XVII века, которая составила «Опыты о воспитании женщин», давала указания Дюпюитрену для восхваления Корвисара, напечатала даже новеллу.
Несмотря на счастье, какое давали ей спокойная жизнь и деятельный ум, административные успехи мужа и литературные успехи сына, здоровье ее было сильно затронуто сначала болезнью глаз, которая, не угрожая жизни, стала тяжелой и стесняющей, потом общим раздражением, которое отразилось особенно на слизистых оболочках желудка. После нескольких приступов и улучшений сын привез ее в Париж 28 ноября 1821 года очень расстроенную, очень больную, в состоянии, которое беспокоило тех, кто любил ее, но которое, казалось, не представляло в глазах врачей близкой опасности. Один только Бруссе мрачно смотрел на будущее и поразил моего отца той силой проникновения, которой он был обязан своим открытиям и своим ошибкам. Однако первое время в Париже было употреблено ею на работы по литературе и истории, на политические разговоры, которые собирали вокруг нее большое количество государственных людей. Бабушка могла еще интересоваться падением министерства Деказа и предвидеть, что поражение Виллеля, то есть ультрароялистов, реакционеров, как сказали бы теперь, сделало бы невозможным для ее мужа сохранение префектуры в Лилле. В самом деле, он был отозван 9 января 1822 года. Но, не дожив до этого дня, она умерла внезапно в ночь на 16 декабря 1821 года, сорока одного года.
Сын ее сохранил на всю жизнь глубокую скорбь о ее утрате, а друзья – воспоминание о женщине выдающейся и очень доброй. Никого из них нет теперь в живых, и на наших глазах исчезли последние: Паскье, Моле, Гизо, Леклерк. Присоединяясь к желанию, к воле моего отца, я приношу ей теперь дань наибольшего уважения изданием этих неоконченных мемуаров, которые, за исключением нескольких глав, она не смогла ни просмотреть, ни исправить. Труд этот должен был быть разделен на пять частей, соответствующих пяти эпохам. Она закончила только три из них, которые посвящены периоду от 1802-го до начала 1808 года, то есть со времени ее прибытия ко двору до начала Испанской войны. Части, которых недостает, были бы посвящены времени, которое протекло между этой войной и разводом (1808–1809), и, наконец, пяти последним годам, закончившимся падением императора.
Было бы наивностью не предвидеть, что подобная публикация может навлечь на автора и издателя инсинуации, неблагожелательство или даже политические резкости. Вместо того чтобы интересоваться воззрениями трех поколений, сравнением, которое позволит заметить, какая разница в эпохах, – обратят внимание на видимые противоречия. Удивятся, как можно было быть камергером или придворной дамой – и так мало раболепными, быть либеральными – и так мало возмущенными 18-м брюмера, столь патриотичными – и столь мало бонапартистами, так покоренными гением – и так строго относящимися к его ошибкам, быть столь ясно видящими по отношению к большинству членов императорской фамилии – и столь снисходительными или даже слепыми по отношению к другим, которые, однако, оставили не менее пагубный след в нашей национальной истории. Но трудно будет не отдать автору должной справедливости в его искренности, честности и уме. Невозможно будет, читая эти мемуары, не сделаться более строгим по отношению к абсолютной власти, не перестать быть ослепленным ее софизмами и внешним благополучием.
Поль Ремюза
Вступительные характеристики
Начиная свои мемуары, я считаю нелишним предпослать им некоторые замечания относительно характера императора и отдельных членов его семьи. Мне кажется, что эти замечания помогут мне в той трудной задаче, которую я себе поставила, помогут лучше разобраться во множестве самых разнообразных впечатлений, полученных мной на протяжении двенадцати лет.
Начну с самого Бонапарта. Не всегда я смотрела на него так, как смотрю теперь: мои взгляды изменились вместе с ним. Но я так далека от каких бы то ни было личных обвинений, что мне кажется невозможным отступать от того, чего требует истина.
Наполеон Бонапарт
Бонапарт был маленького роста, непропорционально сложен, так как слишком длинная верхняя часть тела укорачивала рост. Волосы его были редкими, каштанового цвета, глаза – серо-голубыми; цвет лица отдавал желтым, когда Наполеон был очень худ, а с течением времени сделался матово-белым, без всякой окраски. Линия лба и носа, разрез глаз – все это было прекрасно и напоминало античные медали. Рот его, несколько сжатый, становился приятным, когда он улыбался; зубы составляли правильный ряд; немного короткий подбородок и квадратная челюсть придавали тяжеловатость нижней части лица; ноги и руки его были красивы, и я обращаю на это внимание потому, что он сам придавал этому большое значение.
У него была манера держаться всегда несколько устремленным вперед. Глаза, обыкновенно тусклые, придавали лицу его в час покоя меланхолическое, задумчивое выражение; когда он вспыхивал гневом, взгляд его быстро становился суровым и угрожающим. Улыбка необыкновенно шла ему: она молодила и как будто обезоруживала все его существо. Трудно было не поддаться ее очарованию, так она преображала и красила его лицо.
Костюм его всегда был очень прост: обыкновенно Наполеон носил мундир одного из своих гвардейских полков. Соблюдал чистоту, но больше ради системы, чем по личному вкусу; часто принимал ванну, иногда даже ночью, считая это полезным для здоровья. Что касается всего остального, то быстрота, с которой он все совершал, не давала ему возможности много заботиться о костюме; поэтому в дни торжеств и парадов его лакеи должны были сговариваться, чтобы уловить момент и успеть надеть на него какую-нибудь принадлежность костюма. Он не умел носить никаких украшений: малейшее стеснение всегда казалось ему невыносимым. Он срывал и уничтожал все, что причиняло ему хотя бы любое неудобство, а несчастный лакей, причинивший ему эту мимолетную неприятность, порой получал слишком явное и стойкое доказательство его гнева.
Я уже говорила, что было какое-то необыкновенное очарование в улыбке Наполеона, но в течение всего того времени, когда я видела его, он очень редко улыбался. Основным тоном всего его существа была постоянная серьезность, но не та, которая вытекает из благородства и достоинства привычек, а та, которая создается глубоким размышлением.
В молодости он был мечтателем, позднее становится грустным, еще позднее все это переходит в почти постоянное дурное настроение. Когда я познакомилась с ним, он очень любил все то, что располагает к мечтательности: Оссиана, сумерки, меланхолическую музыку. Я слышала, как иногда он восхищался шумом ветра, как с энтузиазмом говорил о рокоте моря, порой впадал в искушение верить в ночные привидения; наконец, у него имелась известная склонность к суеверию. Иногда, покинув свой кабинет, он входил вечером в салон госпожи Бонапарт, обволакивал свечи белым газом, предписывал нам всем глубокое молчание, – и ему нравилось рассказывать или слушать истории о привидениях. Иногда он слушал музыку – тихие, нежные мелодии, исполняемые итальянскими певцами под аккомпанемент немногих тихо звучащих инструментов.
Тогда он впадал в мечтательное настроение, которое все уважали, не смея сделать движение или сойти с места. Придя в себя после этого состояния, доставляющего ему, по-видимому, какое-то облегчение, он становился веселее и общительнее и любил тогда рассказывать о тех впечатлениях, которые только что пережил. Бонапарт так объяснял влияние, какое оказывала на него музыка, особенно Паизиелло: «Она монотонна, а только те впечатления, которые повторяются, могут овладевать нами». Геометрический склад ума всегда приводил его к анализу всех своих чувств. Бонапарт был человеком, особенно много задумывающимся над тем «почему», которое управляет человеческими поступками.
Вечно настороже, даже в мельчайших событиях своей жизни, открывая всегда самые тайные мотивы для каждого движения, он никогда не понимал и не признавал той естественной беспечности, которая иной раз заставляет действовать без всякого плана и цели. Поэтому, судя о других по себе, он часто ошибался, и его заключения и поступки, за ними следовавшие, нередко доказывали, как он заблуждался.
Бонапарту недоставало воспитания и внешнего лоска; казалось, он был рожден или для жизни в палатке, где все безразлично, или на троне, где все дозволено. Он не умел ни войти, ни выйти из комнаты, не знал, как надо кланяться, вставать или садиться; все его жесты были резки и порывисты, такой же была манера говорить. В его устах даже итальянский язык терял свое изящество. На каком бы он ни говорил языке, последний всегда казался не родным ему; оставалось впечатление, будто он делает усилие, чтобы выразить свою мысль. Притом ему было невыносимо следовать какому бы то ни было правилу; всякая свобода нравилась ему как победа, и никогда ничего не уступал он даже грамматике.
Бонапарт рассказывал, что в юности любил романы, так же, как и точные науки. Быть может, ум его освежался от этого смешения. К несчастью, он попал, по-видимому, на не самые лучшие образцы этого сорта книг, но сохранил такое воспоминание об удовольствии, полученном от них, что, женившись на госпоже Богарне, дал ей читать «Ипполита, графа Дугласа» и «Современниц»[10]10
«Современницы» – роман, или, вернее, серия маленьких романов или портретов, написанных Ретифом де ла Бретонном. «Граф Дуглас» – роман мадам Д'Онуа.
[Закрыть], «чтобы она составила себе понятие о чувствах и обычаях общества».
Пытаясь начертать образ Бонапарта, надо было бы, следуя столь любимым им приемам анализа, разделить существо на три совершенно различные части: душу, сердце и ум, которые действительно почти никогда у него не сливались.
Хотя он был, безусловно, человеком выдающимся благодаря некоторым чертам своего интеллекта, но трудно представить себе что-нибудь более низменное, чем его душа: никакого великодушия, ни тени истинного величия. Я никогда не видела, чтобы он восхищался благородным поступком, чтобы он даже понял его. Он всегда недоверчиво относился к проявлениям добрых чувств. Не придавал никакой цены искренности и не боялся признавать превосходство человека в зависимости от того, насколько искусно умеет он пользоваться ложью. По этому поводу Бонапарт любил вспоминать, как один из дядей еще в детстве предсказал ему, что он будет когда-нибудь править миром, потому что имеет привычку вечно лгать. «Меттерних, – говаривал он, – может стать государственным человеком: он очень искусно лжет».
Для того чтобы править людьми, Бонапарт всегда пользовался теми средствами, которые принижали их больше всего. Он боялся каких бы то ни было привязанностей, стремился отдалить каждого, дарил свои склонности, возбуждая тревогу, думая, что лучший способ привязать к себе людей – скомпрометировать их, часто даже погубить в общественном мнении.
Он прощал добродетель только тогда, когда мог сделать ее смешной.
Нельзя сказать, чтобы Бонапарт истинно любил славу: он, не колеблясь, предпочитал ей успех. Действительно смелый в удаче, доводя ее до крайних пределов, каких мог достигнуть, он бывал робок и смущен, когда над головой его сгущались тучи. Всякое смелое великодушие было совершенно чуждо ему, и по этому поводу нельзя изобразить его без прикрас лучше, чем сделал это он сам в одном признании. Оно сохранилось в рассказе, который я никогда не забуду.
Однажды – дело было после поражения под Лейпцигом, когда, возвратясь в Париж, он был занят объединением остатков своей армии для защиты границ, – Бонапарт рассказывал Талейрану о неудачной войне с Испанией и о затруднениях, в которые вовлекла его эта война. Он любил говорить о своем положении, но не с той благородной откровенностью, которая не боится признаться в ошибке, а с сознанием своего превосходства, которое не допускает затушевывания. Именно в это свидание, среди его излияний, Талейран внезапно сказал:
– Кстати, вы советуетесь со мной так, как будто бы мы не были в ссоре.
Бонапарт ответил:
– На все свое время. Оставим теперь прошедшее и будущее и посмотрим ваше мнение относительно текущего момента.
– Хорошо, – продолжал Талейран, – вам остается одно: надо признать, что вы ошиблись, и сказать это как можно благороднее. Заявите, что вы король волей народной, избранный нациями, и вашей целью никогда не было идти против их желания; скажите, что когда вы начали Испанскую войну, то надеялись только освободить народ от ига ненавистного министра, поощряемого слабостью его монарха. Но, присмотревшись поближе, вы видите, что испанцы, сознавая недостатки короля, привязаны к династии, и вы вернете им династию, чтобы не говорили, что вы противитесь воле народа. После этой прокламации освободите Фердинанда[11]11
Фердинанд VII (1784–1833) – сын Карла IV; конфликтовал с отцом и имел репутацию вождя национальной партии, оппонирующей Наполеону.
[Закрыть] и уведите войска. Подобное признание с такой высоты, притом в минуту, когда иностранцы еще колеблются на нашей границе, может только оказать вам честь, и вы еще слишком сильны, чтобы это сочли низостью.
– Низостью? – возразил Бонапарт. – Это все равно; знайте, что я не задумался бы совершить ее, если бы она была мне полезна. Знаете, в сущности, нет ничего благородного или низкого в этом мире. В моей натуре есть все то, что может повести к упрочению власти и к тому, чтобы обманывать тех, кто думает, что знает меня. Откровенно говоря, я низок, совершенно низок; даю вам слово, что у меня не возникнет ни малейшего отвращения совершить то, что называется в свете бесчестным поступком. Мои тайные наклонности – в сущности, природные, но противоречащие показному величию, которым я принужден себя декорировать, – дают мне бесконечные ресурсы, чтобы обманывать надежды всего мира. Поэтому дело только в том, чтобы разобрать, согласуется ли то, что вы мне советуете, с моей настоящей политикой, и поискать, – добавил он с сатанинской, по словам Талейрана, улыбкой, – нет ли у вас каких-нибудь скрытых интересов вовлечь меня в этот поступок.
Если бы я могла продолжать эту характеристику вне обычных пределов, то прибавила бы сюда еще ряд рассказов, которые не смогу поместить в другом месте и которые подтвердили бы то, что я стараюсь доказать. Приведу еще только один, который кажется мне здесь вполне уместным.
Бонапарт готовился к отплытию в Египет. Он посетил Талейрана, который был в то время министром иностранных дел в правительстве Директории. «Я был тогда болен и лежал в постели, – говорил Талейран. – Бонапарт сел около меня, поверил мне мечты своего юного воображения и заинтересовал живостью своего ума, а также всеми препятствиями, которые он должен был встретить со стороны своих тайных врагов, о которых я знал. Он рассказал мне о своих затруднениях из-за недостатка денег и сказал, что не знает, как достать их. «Послушайте, – сказал я ему, – откройте мой письменный стол, вы найдете там 100 тысяч франков, которые принадлежат мне; в данный момент они – ваши, вы вернете мне их по возвращении». Бонапарт бросился мне на шею, и мне стало как-то приятно от его радости.
Сделавшись консулом, он вернул мне деньги, которые я одолжил ему. А потом однажды спросил: «Какой интерес мог быть у вас, чтобы одолжить мне эти деньги? Сотни раз задавал я себе этот вопрос и не мог хорошо понять, какова была ваша цель». – «Дело в том, – отвечал я ему, – что у меня не было никакой цели. Я был болен, мог никогда вас больше не увидеть. Вы были молоды, вы произвели на меня сильное и глубокое впечатление, меня влекло к тому, чтобы оказать вам эту услугу без всякой задней мысли». – «В таком случае, – продолжал Бонапарт, – если у вас действительно не было никакого предвидения, вы сыграли роль простака»».
Следуя порядку, который указала раньше, я должна говорить теперь о сердце Бонапарта. Но если можно представить себе, что существо, во всем нам подобное, может быть лишено того органа, который дает нам потребность любить и быть любимым, я сказала бы, что в момент появления на свет Бонапарта сердце его было забыто или, может быть, ему удалось совершенно обуздать его. Он всегда слишком много заботился о своей славе, чтобы отдаться какому бы то ни было нежному чувству. Он почти не признавал никаких уз крови, никаких естественных прав. Я не знаю, не был ли он лишен даже чувства отца, по крайней мере оно не играло, судя по всему, главной роли в его отношении к сыну.
Однажды во время завтрака, к которому был допущен Тальма, что случалось довольно часто, привели маленького Наполеона.
Император берет его к себе на колени и, очень далекий от какой бы то ни было ласки, забавляется тем, что бьет его, – правда, довольно легко. «Тальма, – говорит он, – скажите, что это я делаю?» Тальма, естественно, затрудняется с ответом. «Вы не видели? – продолжает император. – Я секу короля».









































