Читать книгу "Мемуары госпожи Ремюза"
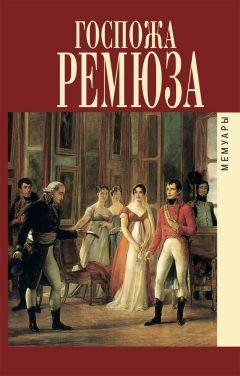
Автор книги: Клара Ремюза
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Десятого августа я почувствовал, что, если бы меня призвали, я защищал бы короля[35]35
10 августа 1792 года Людовик XVI был окончательно свергнут и заключен под стражу.
[Закрыть]; я восставал против тех, кто позволял народу основать Республику; я видел, как люди в куртках нападали на людей в мундирах, и это меня шокировало. Позднее я изучил военное искусство – отправился в Тулон; мое имя становилось известным. По возвращении я вел праздную жизнь. Не знаю, какое тайное внушение предупреждало меня о том, что надо пользоваться моментом.
Однажды вечером я был на спектакле; это было 12-го вандемьера [3 октября 1795 года]. И слышу разговоры о том, что на следующий день ожидают «du train», смену состава, – вы знаете, что это обычное выражение парижан, которые привыкли равнодушно видеть разнообразные смены правительства, пока они не мешают ни их делам, ни их удовольствиям, ни даже их обедам. После террора были довольны всем, что давало возможность жить.
В моем присутствии говорили, что собрание объявило свои заседания непрерывными, я побежал туда, но увидел только смятение и колебание. Вдруг из глубины залы раздался голос, сказавший: «Если кто-нибудь знает адрес генерала Бонапарта, то ему просят передать, что его ожидают в комитете собрания». Я всегда любил придавать значение случаю, который вмешивается в известные события; этот последний решил дело: я отправился в комитет.
Я встретил там некоторых депутатов, совершенно перепуганных, и между прочими – Камбасереса. Он ожидал на следующий день нападения и не знал, на что решиться. У меня спросили совета; моим ответом была просьба дать мне пушки. Это предложение их ужаснуло. Вся ночь прошла в нерешимости. Утром вести были очень неблагоприятными. Тогда мне поручили все дело, а затем начали рассуждать о том, имеют ли право отвечать на силу силой. «Думаете ли вы, – отвечал им я, – что народ даст вам позволение стрелять в него? Я скомпрометирован, так как вы меня назначили; теперь справедливо, чтобы вы предоставили мне свободу действий». С этими словами я покинул этих адвокатов, которые тонули в собственном красноречии. Я двинул войска и поставил две пушки на улице Сен-Рок; эффект был ужасен: буржуазная армия и заговорщики были сметены в одну минуту.
Но я пролил кровь парижан! Какое святотатство! Надо было сгладить впечатление. Между тем с каждым днем я чувствовал себя все более и более призванным к чему-то и попросил командование Итальянской армией. Все было неустроенно в этой армии – и вещи, и люди. Только юность способна к терпению, потому что у нее еще все впереди. Я отправился в Италию с солдатами жалкими, но полными воодушевления. Я велел везти в середине войска эскортированные фургоны – хотя и пустые, но которые называл «сокровищем армии». Я велел раздавать рекрутам башмаки, – никто не пожелал их носить. Я обещал своим солдатам, что за Альпами нас ожидают счастье и слава, я сдержал слово, – и с этих пор армия шла за мной на край света.
Я провел прекрасную кампанию – и стал личностью для Европы. С одной стороны, при помощи военных приказов я поддерживал революционную систему; с другой – я втайне щадил эмигрантов и позволял им питать некоторые надежды. Подобным способом очень легко злоупотреблять, потому что он исходит не от того, что существует, но от того, что желательно. Я получал великолепные предложения на случай, если захочу последовать примеру генерала Монка. Претендент [будущий Людовик XVIII] даже написал мне письмо своим неуверенным и цветистым слогом. Я сумел лучше победить папу, избегая появляться в Риме, чем если бы сжег его столицу.
Наконец я сделался видным и опасным человеком, а Директория, которой я внушал беспокойство, не могла, однако, предъявить мне никакого внятного обвинения. Мне ставили в упрек, что я способствовал перевороту 18-го фрюктидора [4 сентября 1797 года]; это было то же, что упрекать меня в поддержке революции. Надо было воспользоваться ею, этой революцией, и воспользоваться кровью, которую она пролила. Что?! Отдаться, без всяких условий, принцам из дома Бурбонов, которые хвастались бы перед нами нашими же несчастиями, начавшимися после их отъезда, и предписали бы нам молчание, так как мы показали, что нуждались в их возвращении! Переменить наши победоносные знамена на это белое знамя, которое не побоялось смешаться с неприятельскими штандартами! А мне, наконец, мне удовлетвориться несколькими миллионами и каким-либо герцогством! Конечно, роль Монка не так трудна и доставила бы мне меньше хлопот, чем египетская кампания или 18-го брюмера; но приобретают ли какой-нибудь опыт правители которые никогда не видели поля битвы?.. К чему другому привело англичан возвращение Карла II, если не к низложению Иакова[36]36
Иаков II (1633–1701) – брат Карла II, был низложен в 1689 году в результате Славной революции.
[Закрыть]?
Ясно, что я мог бы, если бы это было нужно, низложить во второй раз Бурбонов, но лучший совет, который им можно было дать, – поскорее отделаться от меня. Возвратившись во Францию, я встретил общественное мнение более смягченным, чем когда бы то ни было. В Париже – а Париж это и есть Франция, – никогда не заинтересуются вещами, если не интересуются лицами. Обычаи древней монархии приучили вас все олицетворять. Это плохой способ для народа, который серьезно желал бы свободы; но вы ничего не можете желать серьезно, кроме, быть может, равенства, и притом и от него охотно бы отказались, если бы каждый мог льстить себя надеждой стать первым. Быть равным настолько, насколько все будут ниже, – вот секрет всего вашего тщеславия; поэтому надо давать всем надежду на возвышение.
Большое неудобство для директоров заключалось в том, что никто не заботился о них и начинали слишком заботиться обо мне. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы не счастливая идея отправиться в Египет. Когда я сел на корабль, то не знал хорошенько, не навсегда ли прощаюсь с Францией; но я не сомневался в том, что она снова призовет меня. Искушение победы на Востоке отвлекло меня от мысли о Европе больше, чем я мог предполагать. Мое воображение и на этот раз примешалось к практике, но, кажется, затем умерло в Сен-Жан д’Акр. Что бы там ни было, я никогда больше не дам ему воли.
В Египте я был освобожден от тормозов стесняющей меня цивилизации; я мечтал обо всем на свете и видел способы выполнить все, о чем мечтал. Я создавал религию, уже видел себя по пути в Азию, едущим на слоне с тюрбаном на голове, держа в руке новый Коран, который сочиняю по своему желанию. Я соединил бы в своих начинаниях опыты двух миров, попирая право всех историй, нападая на английское могущество в Индии и возобновляя этой победой отношения со старой Европой.
Время, проведенное в Египте, было лучшим в моей жизни, потому что оно было самым идеальным. Но судьба решила иначе. Я получил письма из Франции; я видел, что нельзя терять ни минуты, и вернулся к реальному общественному положению, вернулся в Париж, в Париж, где самые важные общественные дела решают в антракте оперы.
Директория ужаснулась при моем возвращении; я контролировал себя: это одна из эпох моей жизни, когда я был особенно ловок. Я видел аббата Сийеса и обещал ему продвижение его многословной конституции. Я принимал вождей якобинцев, агентов Бурбонов; не отказывал никому в советах, но давал их только в интересах своих планов. Я скрывался от народа, так как знал, что, когда наступит время, любопытство видеть меня увлечет их по моим стопам. Каждый был более или менее связан с моими интересами, и, когда я сделался главой государства, во Франции не было ни одной партии, которая не возлагала бы каких-нибудь надежд на мой успех».
Глава IV
1803–1804 годы
Продолжение бесед с Первым консулом в Булони – Чтение трагедии «Филипп-Август» – Мои новые впечатления – Возвращение в Париж – Ревность госпожи Бонапарт – Празднества зимы 1804 года – Фонтан – Футе – Савари – Пишегрю – Арест генерала Моро
В другой раз вечером, в то время, как мы были в Булони, Бонапарт завел разговор о литературе. Поэт Лемерсье, которого он любил, поручил мне привезти консулу трагедию «Филипп-Август», которую поэт только что закончил и в которой кое-что касалось личности самого Бонапарта. Первый консул хотел читать ее вслух; мы были только вдвоем. Было как-то неприятно видеть человека, который всегда спешит, даже когда ему нечего делать, – в борьбе с необходимостью произносить слова подряд, не прерываясь, принужденного читать александрийские стихи, размера которых он не знал и которые читал так плохо, что, казалось, сам не понимал того, что прочитывает. Притом, как только он открывал книгу, ему сразу хотелось высказать суждение.
Я попросила у него рукопись и стала читать сама; тогда он начал говорить, потом, в свою очередь, выхватил книгу, зачеркнул целые тирады, сделал несколько замечаний на полях, стал осуждать план и характеры. Он не рисковал ошибиться, так как пьеса была плоха[37]37
Эта пьеса никогда не была ни сыграна, ни даже напечатана (П.Р.).
[Закрыть]. Мне показалось особенно странным, что после этого чтения Бонапарт показал мне, что не желает, чтобы автор подумал, будто все эти замечания и поправки были сделаны властной рукой, и приказал мне принять их на себя. Можно себе представить, как сильно я защищалась. Мне стоило большого труда отвратить его от этой фантазии и заставить понять, что если немного странно, что он вымарал и почти полностью изменил рукопись автора, то было бы совершенно неприлично, если бы подобной свободой злоупотребила я.
– Прекрасно, – сказал он, – но в этом, как и в других случаях, я признаюсь, что не очень-то люблю это неопределенное слово «приличия», которое вы выставляете по всякому поводу. Это выдумка глупцов, чтобы несколько приблизиться к людям умным, нечто вроде общественной затычки, которая стесняет сильного и служит только посредственности. Может быть, эти приличия для вас и удобны, для тех, кому нечего делать в этой жизни; но вы прекрасно чувствуете, что в моей жизни, например, представится случай, когда я вынужден буду их попирать.
– Но если применять их в жизни, – возразила я ему, – не явятся ли они до некоторой степени тем, чем определенные правила являются для драматических произведений?.. Они придают произведениям стройность и правильность и являются стеснением для гения только тогда, когда он хотел бы отдаться заблуждениям, осуждаемым хорошим вкусом!
– О! Хороший вкус – вот еще одно из классических выражений, которых я не признаю[38]38
Талейран говорил однажды императору: «Хороший вкус – ваш личный враг. Если бы вы могли избавиться от него пушечными выстрелами, его давно не существовало бы».
[Закрыть]. Быть может, это моя вина, но есть известные правила, которых я не чувствую. Например, то, что называют «стилем», плохим или хорошим, нисколько меня не трогает. Я чувствителен только к силе мысли. Сначала я любил Оссиана, но по той же причине, по которой люблю слушать рокот ветра или морских волн. В Египте меня хотели заставить читать «Илиаду» – мне было скучно. Что касается французских поэтов, то я признаю только Корнеля. Он понял политику и, если бы имел больше опытности в делах, был бы государственным человеком. Мне кажется, я могу оценить его лучше, чем кто-либо, потому что, судя о нем, исключаю все драматические чувства. Например, недавно только я понял развязку «Цинны». Сначала я видел в ней только способ создать патетический такт; и притом милосердие, собственно говоря, такая ничтожная, маленькая добродетель, если она не опирается на политику, что милосердие Августа, сделавшегося вдруг благодушным правителем, не казалось мне достойным концом этой прекрасной трагедии. Но однажды Монвель, играя в моем присутствии, открыл мне тайну этой великой концепции. Он произнес слова: «Будем друзьями, Цинна!» – таким искусным и хитрым тоном, что я прекрасно понял, что этот поступок был только лицемерием тирана, и признал как расчет то, что казалось мне наивным как чувство. Нужно всегда произносить эти стихи так, чтобы из всех слушающих обманутым был только Цинна.
Что касается Расина, он мне нравится в «Ифигении»: эта пьеса во все продолжение действия заставляет вас дышать поэтическим воздухом Греции. В «Британике» он был ограничен Тацитом, против которого у меня есть предубеждение, потому что он недостаточно объясняет то, что выдвигает. Трагедии Вольтера страстны, но не особенно проникают в психологию человека. Например, его Магомет не пророк, не араб. Это обманщик, который кажется воспитанным в Политехнической школе, потому что проявляет свое могущество так, как я мог бы это сделать в век, подобный нынешнему. Убийство отца сыном – бесполезное преступление. Великие люди никогда не бывают жестоки без необходимости[39]39
В трагедии «Фанатизм, или Пророк Магомет» сын шейха Мекки, Сеид, убивает своего отца, подчиняясь уговорам Магомета.
[Закрыть].
Что касается комедии, то для меня это то же, что интересоваться сплетнями в ваших салонах; я признаю ваше удивление перед Мольером, но не разделяю его; он поставил действующих лиц своих комедий в такие рамки, в которых я никогда бы не решился видеть их действующими.
Нетрудно заключить на основании этих разнообразных мнений, что Бонапарт любил рассматривать человеческую природу только тогда, когда она находилась в борьбе с великими жизненными событиями, и что он мало заботился о человеке вне поля действия.
В таких разговорах с Первым консулом протекало время в Булони, и вскоре после этого путешествия я испытала первое недоверие ко двору, при котором должна была жить. Военные, жившие в нашем доме, иногда удивлялись, как может их господин проводить долгие часы с женщиной и беседовать о предметах, всегда довольно серьезных. Они вывели заключение, которое компрометировало мое положение, совершенно простое и совершенно мирное. Я осмеливаюсь сказать: моя душевная чистота, чувства, на всю жизнь привязавшие меня к моему мужу, не позволяли мне понять подозрения, которые делались на мой счет в передней консула, в то время как я слушала его в салоне. Когда он возвратился в Париж, его адъютанты забавлялись пересказом наших длинных бесед с глазу на глаз. Госпожа Бонапарт испугалась, наслушавшись этих рассказов, и, когда после месячного пребывания в Понт-де-Брике мой муж почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы перенести путешествие, и мы возвратились в Париж, я нашла мою ревнивую покровительницу несколько охладевшей.
Я же вернулась воодушевленная удвоенной благодарностью по отношению к Первому консулу. Он так хорошо меня принял, проявил так много внимания к тому, чтобы сохранить моего мужа; наконец, его заботы, которые трогали мою тревожную и смущенную душу, развлечение, которое он мне доставил в этом уединении, и маленькое удовлетворение моего тщеславия, которому льстило удовольствие, по-видимому, доставляемое моим присутствием, – все это подогревало мои чувства, и в первые дни по приезде я повторяла с живостью такой благодарности, какая бывает в 20 лет, что его доброта ко мне была неизмерима. Одна из моих подруг, которая любила меня, посоветовала мне умерить выражения и обратить внимание на впечатление, какое они вызывают. Помню до сих пор, что ее слова произвели на меня впечатление холодного и острого лезвия, которое мне вдруг вонзили в сердце. В первый раз я видела, что обо мне судят не так, как я того заслуживаю; моя молодость, мои чувства протестовали против таких обвинений; нужно достигнуть долгой, но печальной опытности, чтобы суметь спокойно переносить несправедливость общественного суда, хотя, быть может, стоит пожалеть о временах, когда он поражал так сильно, но не так остро.
Между тем то, что мне говорили, объяснило перемену госпожи Бонапарт по отношению ко мне. Однажды, будучи пораженной больше обыкновенного, я не могла удержаться, чтобы не сказать ей со слезами на глазах: «Неужели вы меня подозреваете?» Так как она была добра и подвержена впечатлению минуты, то не обратила внимания на мои слезы, но поцеловала меня и отнеслась ко мне так же, как прежде. Но госпожа Бонапарт не совсем поняла меня; в ее душе не было того, что могло бы понять справедливое негодование моей души; ее не смущало то, что мои отношения с ее мужем могли быть такими, какими ей старались их представить, ей достаточно было для успокоения решить, что, во всяком случае, эти отношения могли быть мимолетны, так как ничто в моем поведении в ее глазах не отличалось от прежней сдержанности. Наконец, чтобы оправдаться в моих глазах, она сказала мне, что семейство Бонапарта во время моего отсутствия первое распространило эти оскорбительные слухи. «Вы не видите, – заметила я ей, – справедливо это или нет, но здесь думают, что нежная привязанность к вам делает меня догадливой по отношению к тому, что совершается вокруг вас, а мои советы – очень слабая помощь, однако они могут добавить к вашей предосторожности и мою. Политическая зависть, мне кажется, с недоверием относится ко всему, и я думаю, что, как ни ничтожна моя особа, нас хотели бы поссорить». Госпожа Бонапарт признала справедливость этого размышления, но даже не подумала, как долго я могла огорчаться тем, что не ей первой оно пришло в голову.
Она призналась мне, что делала своему мужу упреки по отношению ко мне и что его, по-видимому, забавляло ее беспокойство на мой счет. Все эти маленькие открытия испугали меня, а затем меня смутило чувство, с которым я к ним отнеслась. Я начала чувствовать, как колеблется под моими ногами почва, по которой я до сих пор ходила с доверчивостью неопытности. Я почувствовала, что познала беспокойство, которое не покинет меня, по-видимому, никогда.
Уезжая из Булони, Первый консул велел записать в военном приказе, что доволен армией, а 12 ноября 1803 года мы прочитали в «Мониторе» следующие слова:
«Сочли предзнаменованием то, что, копая землю для устройства лагеря Первого консула, нашли военный топор, который, по-видимому, принадлежал римскому войску, завоевавшему Англию. В Амблетезе, устанавливая палатку Первого консула, нашли медаль Вильгельма Завоевателя. Нужно признать, что эти обстоятельства по меньшей мере странны и покажутся еще более необыкновенными, если припомнить, что, посетив развалины Пелузиума в Египте, генерал Бонапарт нашел там камею Юлия Цезаря».
Сравнение выбрали не особенно удачно, так как, несмотря на камею Юлия Цезаря, Бонапарт был вынужден покинуть Египет, но эти маленькие сближения, продиктованные изобретательной лестью Маре, бесконечно нравились его господину, который, впрочем, думал, что они производят некоторый эффект и среди нас.
Ничего не забыли в эту эпоху для того, чтобы все газеты подогревали воображение относительно высадки. Я не могу сказать, верил ли действительно Бонапарт, что она возможна. По крайней мере, он делал вид, что верит в это, тем более что расходы на сооружение плоскодонных кораблей были очень значительны. Взаимные оскорбления между «Монитором» и английскими газетами продолжались так же, как и вызовы. «Говорят, что французы обратили Ганновер в пустыню и собираются его покинуть», – вот что печатал «Таймс», и тотчас же заметка в «Мониторе» отвечала: «Как только вы покинете Мальту».
Пастырские послания епископов призывали нацию вооружиться для справедливой войны. «Выбирайте людей с сердцем, – говорил епископ Арраса, – и идите сражаться с амаликитянами[40]40
Амаликитяне – арабский народ, весьма могущественный в период между Исходом израильтян из Египта и правлением царя Саула (ок. 1020 г. до н. э.). Согласно Библии, один из основных и постоянных врагов израильтян.
[Закрыть]». «Подчиниться голосу народа, – сказал Боссюэ, – значит подчиниться голосу самого Бога, который установил власть».
Эта цитата из Боссюэ напоминает мне анекдот, который очень хорошо рассказывал старый епископ Эвре, Бурлье. Это было в эпоху собора, созванного в Париже, чтобы победить епископов и противодействовать решениям папы. «Иногда, – говорил мне этот епископ, – император созывал нас и начинал теологические беседы. Он обращался к самым упрямым среди нас: «Господа епископы, моя религия – это религия Боссюэ, он мой отец церкви и защищал наши свободы; я хочу сохранить его дело и поддержать ваше собственное достоинство, слышите ли вы, господа?»
И говоря таким образом, бледный от гнева, он хватался за эфес шпаги; он заставлял меня трепетать при виде горячности, с которой он был готов взяться за нашу защиту, и эта странная смесь из имени Боссюэ, слова «свобода» и угрожающего жеста вызвала бы у меня охоту улыбнуться, если бы я не был, в сущности, очень огорчен церковными распрями, которые уже тогда предвидел».
Я возвращаюсь к зиме 1804 года. Эта зима, как и предшествовавшая, прошла в празднествах и балах для двора и города, но в то же время продолжали проводить новые законы, которые были представлены на сессию Законодательного корпуса. В этом году госпожа Баччиокки, которая имела очень явную склонность к Фонтану, так часто говорила о нем своему брату, что эти разговоры, вкупе с мнением, которое он имел об этом академике, склонили его назначить Фонтана председателем Законодательного корпуса. Этот выбор показался некоторым лицам странным, но, в сущности, представляя, что Бонапарт хотел сделать из Законодательного корпуса, ему и не нужно было назначать президентом никого иного, кроме литератора. Фонтан демонстрировал благородное и изящное искусство, когда нужно было обращаться к императору с речью в самых трудных обстоятельствах. В его характере мало силы, но талант придает ему эту силу, когда он должен говорить публично; тонкий вкус ему внушает тогда настоящий подъем. Может быть, это и было недостатком, так как ничто так не опасно для правителей, как видеть, что талант облекает их злоупотребление властью цветами красноречия, и в особенности это опасно для Франции, где царствует такой культ формы. Как это часто случалось с парижанами, в той тайной комедии, которую правительство разыгрывало перед ними, они добродушно становились жертвами, и только потому, что актеры отдавали должное тонкости их вкуса, требовавшего, чтобы каждый играл возможно лучше роль, которая ему была поручена!
В течение января «Монитор» поместил заметку из английских газет, в которой говорилось о некоторых разногласиях между Баварией и Австрией и о возможности континентальной войны. Такие замечания бросались мимоходом, время от времени, словно чтобы предупредить нас о том, что может произойти. Так бывает в оперной декорации, а еще вернее, на небе, когда облака скапливаются ниже вершины горы и рассеиваются на минуту, чтобы открыть то, что совершается за ними. Таким же образом все более или менее важные обсуждения, которые происходили в Европе, на минуту показывались нам, чтобы мы не были слишком изумлены, когда они вызовут какой-нибудь разрыв. Но затем тучи смыкались снова, и мы оставались во тьме до тех пор, пока не разразится гроза.
Я касаюсь эпохи очень важной, но которую тяжело описывать. Вскоре я буду говорить о заговоре Жоржа Кадудаля и о преступлении, которое было им вызвано. Приведу здесь относительно генерала Моро только то, что слышала, и не буду ничего утверждать. Мне кажется необходимым предпослать этому рассказу краткий обзор состояния, в котором мы тогда находились.
Известная часть людей, которые довольно близко стояли у дел, начинала говорить о необходимости для Франции наследственной правительственной власти. Некоторые придворные политики, добросовестные революционеры, люди, которые считали, что покой Франции зависит от жизни одного человека, сходились на неустойчивости Консульства. Мало-помалу идеи приблизились к монархии, и это направление имело бы свои преимущества, если бы могли согласиться на монархию, ограниченную законами. Революции имеют то важное неудобство, что разделяют общественное мнение на бесконечные оттенки, которые изменяются в результате столкновений, испытываемых каждым в различных обстоятельствах. И это всегда благоприятствует начинаниям, на которые покупается деспотизм, идущий вслед за ними. Чтобы сдержать власть Наполеона, надо было решиться произнести слово «свобода»; но, поскольку за несколько лет перед этим оно было начертано во Франции везде и всюду только для того, чтобы служить эгидой самому кровавому рабству, никто не решался преодолеть роковое впечатление, хотя и малопродуманное, какое оно внушало.
Однако роялисты беспокоились и видели, что с каждым днем Бонапарт все более и более удаляется от того пути, на котором они его долго ждали. Якобинцы, оппозиции которых Первый консул боялся сильнее, глухо волновались. Они находили, что правительство старается дать гарантии их противникам. Конкордат, авансы, которые делали по отношению к старому дворянству, уничтожение революционного равенства, – все это было завоеванием их. Счастлива, сто раз счастлива была бы Франция, если бы Бонапарт совершил это завоевание только применительно к партиям! Но для этого надо быть воодушевленным исключительно любовью к справедливости; нужно в особенности слушать лишь голос великодушного ума.
Когда правитель, какой бы титул он ни носил, входит в сношения с той или иной из крайних партий, порожденных гражданскими смутами, можно всегда держать пари, что у него имеются намерения, враждебные правам граждан, которые доверились ему. Бонапарт, желая укрепить свой деспотический план, был вынужден вступить в сношения с этими опасными якобинцами и, к несчастью, принадлежал при этом к числу людей, которые видят достаточные гарантии только в преступлении. Их можно успокоить, только беря на себя некоторые из их беззаконий. Этот расчет сыграл большую роль в вынесении приговора герцогу Энгиенскому, и я убеждена, что все, что совершалось в эту эпоху, происходило не от какого-либо жестокого чувства, не от слепой мести, а было только результатом совершенно макиавеллистической политики, которая желала расчистить себе дорогу любой ценой. Не для удовлетворения ненасытного тщеславия Бонапарт стремился переменить свой титул консула на титул императора. Не нужно думать, что его всегда слепо увлекали страсти; он знал искусство подчинять их анализу своих расчетов, а если в дальнейшем сильнее отдавался им, то это потому, что успех и лесть мало-помалу опьянили его. Эта комедия Республики и равенства, которую приходилось играть в эпоху Консульства, надоела ему, и могла, в сущности, обмануть только тех, кто желал быть обманутым. Она напоминала притворство времен Древнего Рима, когда императоры периодически заставляли Сенат переизбирать себя. Я встречала людей, которые, украшая себя, как тогой, известной любовью к свободе и не переставая, однако, постоянно ухаживать за Бонапартом, Первым консулом, говорили затем, что лишили его своего уважения, как только он принял титул императора. Я никогда не могла хорошенько понять их мотивов. Каким образом власть, которой он пользовался почти со времени своего вступления в правительство, не открыла им глаза? Нельзя ли сказать, напротив, что была известная добросовестность в том, чтобы принять титул, соответствующий власти, которая фактически существовала?
Как бы то ни было, в тот момент, о котором я говорю, Первому консулу необходимо было упрочить свою власть какой-нибудь новой мерой. Англичане, которым угрожали, чинили всякого рода препятствия проектам, направленным против них, возобновлялись сношения с шуанами, и роялисты должны были видеть в консульском правительстве только переход от Директории к восстановлению королевской власти. Но один человек мог все изменить; естественно было заключить, что надо отделаться от этого человека.
Я слышала от Бонапарта летом 1804 года, что на этот раз события вынудили его и что его план состоит в основании Империи, но только через два года. Он поручил полицию министру юстиции; это была здравая и нравственная идея, но ей противоречило намерение, чтобы магистратура применяла эту полицию так же, как в то время, когда она была учреждением революционным. Как я уже говорила, первые замыслы Бонапарта часто были хороши и велики. Создать и утвердить их значило применять его власть, но подчиняться им впоследствии становилось для него же отречением. Он не мог переносить господства даже своих собственных учреждений. Таким образом, стесненный медленными и урегулированными судебными процедурами, а также слабым и крайне посредственным умом своего верховного судьи, он вверил себя тысяче и одной полиции и мало-помалу снова стал доверять Фуше, который в полной мере обладал способностью сделать себя необходимым. Фуше, одаренный обширным, тонким и проницательным умом, разбогатевший якобинец, в конце концов начавший испытывать отвращение к некоторым принципам своей партии, но сохраняющий с ней связь, чтобы иметь опору в случае беспорядков, нисколько не отступил перед идеей облечь Бонапарта монархической властью. Прирожденная гибкость заставляла его всегда принимать те формы правления, в которых имелась возможность сыграть роль ему самому. Его привычки были более революционны, чем его принципы; я думаю, что он не вынес бы только такого положения вещей, которое привело бы его к уже совершенному ничтожеству. Надо всегда помнить эти черты Фуше и всегда несколько опасаться, когда приходится иметь с ним дело; нужно признать, что ему необходимы времена смут, чтобы обладать всей силой своей власти, потому что в самом деле, так как это человек, лишенный страстей и ненависти, в такие времена он превосходит большинство людей, его окружающих, более или менее ослепленных страхом и желанием мести.
Фуше отрицал, что посоветовал убить герцога Энгиенского. Если не существует полной уверенности, я никогда не возлагаю тяжесть обвинения в преступлении на того, кто это прямо отрицает. Впрочем, Фуше, который обладал способностью предвидения, легко мог предполагать, что это преступление может дать партии, которую Бонапарт хотел привлечь, только очень мимолетную гарантию. Он слишком хорошо знал консула, чтобы бояться, что тот хотел бы восстановить короля на троне, который мог бы занять сам, а потому легко понять, как на основании своих данных Фуше признал, что это убийство было ошибкой.
Талейран менее, чем Фуше, нуждался в поисках подхода, чтобы посоветовать Бонапарту облечь себя монархической властью: она должна была создать Первому консулу удобное положение во всех отношениях. Враги Талейрана и даже сам Бонапарт обвинили его в том, что он подавал голос за убийство несчастного герцога; но Бонапарт и его враги сами заслуживают подозрения по этому пункту. Всем известный характер Талейрана не допускает подобной жестокости. Он рассказывал мне несколько раз, что Бонапарт сообщил ему, так же, как и двум консулам, об аресте герцога Энгиенского и о своем неизменном решении; он описывал, как все трое видели, что всякие слова были бы излишни, и поэтому все они хранили молчание. Это, конечно, уже более чем достаточная слабость, но очень обычная для Талейрана, который видел положение дел и пренебрегал излишними разговорами, потому что они могут удовлетворить только совесть.
Оппозиция, мужественное сопротивление могут подействовать на человека, каков бы он ни был. Жестокий властелин, кровожадный по характеру, может иногда пожертвовать своей склонностью силе убеждения, которую ему противопоставляют; но Бонапарт не был жесток ни по природе, ни по системе: он желал того, что казалось ему самым быстрым и самым верным; он сам сказал тогда, что ему надо покончить с якобинцами и роялистами. Неосторожность этих последних доставила ему эту роковую удачу, он схватил ее на лету, и то, что я расскажу несколько дальше, докажет, что он покрыл себя этой знаменитой и невинной кровью с полным спокойствием расчета, или, вернее, софизма.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































