Читать книгу "Мемуары госпожи Ремюза"
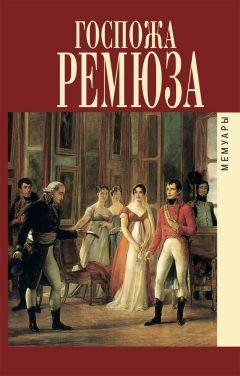
Автор книги: Клара Ремюза
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава III
1803 год
Продолжение путешествия в Бельгию – Взгляды Первого консула на благодарность, славу и французов – Пребывание в Генте, Малине, Брюсселе – Духовенство – Рокелор – Возвращение в Сен-Клу – Приготовления к высадке в Англии – Замужество госпожи Леклерк – Путешествие Первого консула в Булонь – Болезнь Ремюза – Я еду к нему – Беседа с Первым консулом
Как только Бонапарт появлялся в каком-нибудь городе, префект дворца должен был тотчас же собрать представителей власти для представления Первому консулу. Префект, мэр, епископ, председатель суда приветствовали его, потом произносили небольшую речь, обращаясь к госпоже Бонапарт. В зависимости от того, был ли он более или менее терпелив, Первый консул выслушивал эти речи до конца или прерывал их, чтобы задать различным лицам вопросы относительно их обязанностей или страны, в которой они исполняли их. Редко расспрашивал он с видимым интересом, чаще – тоном человека, который хочет доказать, что знает предмет, и хочет видеть, сумеют ли ему ответить.
В этих речах говорилось о Республике, но если дать себе труд перечесть их, то станет ясно, что с такими же речами можно было обращаться и к государю. В некоторых городах Фландрии мэры довели свою решимость до требований, чтобы консул завершил счастье всего мира, заменив свой титул, слишком непрочный, другим, который лучше бы соответствовал его высокому назначению. Я присутствовала тогда, когда это случилось в первый раз, и следила за Бонапартом. Когда эти слова были произнесены, он с некоторым трудом сдержал улыбку, затем, сохраняя самообладание, прервал оратора и отвечал с выражением притворного гнева, что узурпация власти, которая уничтожила бы существование Республики, была бы недостойна его; подобно Цезарю, он отверг корону, хотя, быть может, не был недоволен, что ее начинали предлагать. И, в сущности, эти добрые жители провинции не были слишком неправы.
Блеск, окружающий нас, вся пышность этого двора, военного и вместе с тем блестящего, церемониал, строго требуемый повсюду, повелительный тон господина, подчинение всех и, наконец, эта супруга первого магистрата, которой Республика ничем не была обязана и по отношению к которой требовалось выражение почтения, – все это могло обозначать только шествие короля.
После аудиенции Первый консул обыкновенно садился на лошадь и показывался народу, который следовал за ним с криками; он посещал общественные памятники, мануфактуры, всегда немного бегом, так как не мог умерить быстроту своих движений. Затем Бонапарт давал обед, присутствовал на празднике, который был ему приготовлен, и это было самой скучной частью его профессии, «так как, – добавлял он меланхолическим тоном, – я не создан для удовольствия».
Наконец он покидал город, получив несколько прошений, ответив на некоторые жалобы, распределив помощь в виде денег и подарков. Во время таких поездок, убедившись в отсутствии некоторых общественных учреждений, необходимых городу, консул привык требовать, чтобы они учреждались после его посещения. И за эту щедрость он уносил с собой благословения жителей. Но вскоре происходило следующее. «Согласно милости, которую вам оказал Первый консул (позднее император), – писал министр внутренних дел, – вы обязаны, граждане, построить такое-то или такое-то здание, позаботившись принять расходы на счет вашей городской общины». Таким образом, города оказывались вдруг вынужденными изменить порядок распределения своих фондов, и часто в то время, когда этих фондов не хватало на покрытие самых необходимых нужд. Но префект тщательно заботился о том, чтобы приказания были исполнены: таким образом можно было доказать, что во Франции повсюду, из конца в конец, все улучшалось, все процветало, и изобилие таково, что можно повсеместно начинать новые предприятия, как бы они ни были тягостны.
В Аррасе, Лилле, Дюнкерке нас ожидали такие же встречи, но мне показалось, что энтузиазм несколько уменьшился, когда мы покинули старую Францию. В Генте, особенно, мы встретили некоторую холодность. Тщетно власти старались возбудить жителей, – они выразили любопытство, но не старание угодить. У консула появилось легкое недовольство, и ему не хотелось оставаться надолго; однако вскоре, одумавшись, он сказал своей жене: «Этот народ набожен и находится под влиянием священников; завтра нужно будет долго пробыть в церкви, привлечь духовенство некоторыми милостями, и мы овладеем страной». В самом деле, он с видом глубокого проникновения поприсутствовал на длинной мессе, побеседовал с епископом, которого совершенно очаровал, и мало-помалу добился на улицах приветственных криков, каких желал.
Именно в Генте он нашел дочерей герцога Виллекье, одного из прежних четырех вельмож города, и вернул им прекрасное имение Виллекье со значительными доходами. Я имела счастье содействовать этому возвращению, стараясь ускорить его, чем только могла; милые молодые особы никогда этого не забывали.
В тот вечер, когда это совершилось, я говорила Бонапарту об их благодарности. «Ах, – сказал он мне, – благодарность!.. Это только поэтическое выражение, лишенное смысла в революционные эпохи, и то, что я сделал, не помешает вашим друзьям очень обрадоваться, если какой-нибудь королевский посланный во время этого путешествия убьет меня». И так как я выразила удивление, он продолжал: «Вы молоды, вы не знаете, что такое политическая ненависть. Видите ли, это нечто вроде сложных очков, сквозь которые можно видеть отдельные лица, взгляды, чувства, но только при помощи стекол своей страсти. Отсюда следует, что ничто ни хорошо, ни плохо само по себе, а только в зависимости от той точки зрения, с которой мы смотрим. В сущности, эта манера видеть довольно удобна, и мы ею пользуемся, потому что у нас тоже есть свои очки, и мы рассматриваем вещи если не сквозь наши страсти, то по крайней мере сквозь наши интересы».
«Но, – сказала я ему в свою очередь, – с подобной системой какое место отводите вы одобрению, которое вам льстит? Для какой категории людей тратите вы вашу жизнь на великие предприятия и часто опасные попытки?» – «О, надо быть человеком, повинующимся своей судьбе. Кто чувствует, что она зовет его, не может ей противиться. Кроме того, человеческая гордость создает для себя публику, какую пожелает, в том идеальном мире, который называется потомством. Пусть человек представит себе, что через сто лет прекрасные стихи напомнят какие-нибудь великие дела, а какая-нибудь картина сохранит об этом воспоминание, и т. п.; тогда воображение разыгрывается, поле битвы больше не представляет опасности, напрасно гремят пушки, – их звук, кажется, только переносит имя храбреца через тысячу лет нашим отдаленным потомкам».
«Никогда не пойму, – продолжала я, – как можно искать славы, если с внутренним пренебрежением относишься к людям своего времени». Тут Бонапарт живо перебил меня: «Я не презираю людей, – это слово, которое никогда не нужно произносить; и, в частности, я уважаю французов». Я улыбнулась при этом резком заявлении, и, как бы догадываясь о причине моей улыбки, он также улыбнулся и, приблизившись ко мне и дернув меня за ухо, что было, как я уже говорила, его обычным жестом, повторил мне: «Слышите ли, сударыня? Никогда не нужно говорить, что я презираю французов».
Из Гента мы отправились в Антверпен, где получили удовольствие от совершенно особенной церемонии. Во время пребывания в городе королей и принцев жители Антверпена имеют обыкновение прогуливать по улицам великана. Пришлось согласиться на эту фантазию народа, хотя мы не были ни королями, ни принцами. Затея способствовала доброму расположению Бонапарта по отношению к этому славному городу, и Первый консул много занимался вопросом строительства городского порта, начав важную работу, которая затем была полностью выполнена.
Переезжая из Антверпена в Брюссель, мы остановились на несколько часов в Малине у нового архиепископа Рокелора. Он был епископом Санлиса при Людовике XVI и большим другом моего двоюродного дедушки, графа Вержена. Я часто видела его в детстве и была чрезвычайно рада снова встретить. Бонапарт был очень ласков с ним. В это время он везде подчеркивал, что нужно заботиться о духовенстве и привлекать его на свою сторону. Консул знал, до какой степени религия поддерживает королевскую власть, и предвидел возможность с помощью духовенства распространить в народе катехизис, в котором вечное проклятие угрожало бы тем, кто не будет любить императора или не будет повиноваться ему.
В первый раз со времени Революции духовенство видело, что правительство интересуется его судьбой и предоставляет ему места и положение. Духовенство показало себя благодарным и сделалось полезным союзником Бонапарта до того момента, когда он захотел противопоставить деспотизм совести и попробовал заставить священников колебаться между ним и своими обязанностями. Но пока еще огромный успех принесло ему начинание, превозносимое с энтузиазмом всеми религиозными устами: «Он восстановил религию»[33]33
Бонапарт, зная, что в Бельгии будет иметь дело с религиозным народом, взял с собой в путешествие кардинала Капрара, который был ему чрезвычайно полезен.
[Закрыть].
Наш въезд в Брюссель был великолепен; многочисленные, прекрасно экипированные отряды ожидали Первого консула у ворот; он сел на лошадь; для госпожи Бонапарт была приготовлена великолепная карета; город был декорирован, стреляли из пушек, звонили во все колокола; духовенство в торжественном облачении расположилось на ступенях храма; масса народа, множество иностранцев, восхитительная погода! Я была в восторге.
Все время, которое мы провели в Брюсселе, было ознаменовано блестящими празднествами. Министры Франции, консул Лебрен, иностранные посланники, которые должны были разрешить с нами некоторые дела, – все явились сюда. В Брюсселе я слышала, как Талейран ловко и лестно для Бонапарта ответил на его слишком внезапный вопрос. Однажды вечером Первый консул спросил Талейрана, каким образом он смог составить себе громадное состояние, да еще так быстро. «Ничего не может быть проще, – отвечал Талейран, – я купил ренты 17-го брюмера и продал их 19-го».
Однажды в воскресенье нужно было идти в брюссельский собор на большую церемонию. С утра Ремюза отправился в церковь, чтобы следить за проведением этой церемонии. Он имел секретное поручение не противиться никаким выражениям отличия, которые придумает духовенство по этому поводу. Однако когда решили встречать Первого консула с балдахином и крестом у главных ворот и вопрос был в том, разделит ли эту честь его жена, Бонапарт не решился поставить ее в такое положение и велел отвести ей место на трибуне вместе со вторым консулом.
В полдень, как было назначено, духовенство выходит из алтаря и становится за пределами портала. Оно ожидает появления властелина, который не показывается. Удивляются, беспокоятся, как вдруг, обернувшись, видят, что он уже прошел в церковь и уселся на троне, который ему приготовили. Священники, удивленные и смущенные, возвращаются в церковь, чтобы начать службу. Дело в том, что Бонапарт узнал, как во время подобной же церемонии Карл V предпочел войти в церковь св. через маленькую боковую дверь, которая с тех пор называлась его именем, и, по-видимому, Первому консулу пришла фантазия воспользоваться подобным же способом, может быть, в надежде, что с этих пор ее будут называть дверью Карла V и Бонапарта.
Однажды утром я видела консула – или, лучше сказать в этом случае, генерала, – делающего смотр многочисленным и великолепным войскам, которые были призваны в Брюссель. Ничего нельзя представить себе более опьяняющего, чем встреча, которую оказывали Бонапарту войска в эту эпоху. Но нужно также было видеть, как он говорил с солдатами, как он их расспрашивал, одного за другим, об их кампании, об их ранах, как он особенно хорошо относился к тем, кто был с ним в Египте. Я слышала от госпожи Бонапарт, что ее супруг долго сохранял привычку, ложась в постель по вечерам, изучать кадровые списки войск. Он так и засыпал над названиями корпусов и перечнем лиц, входивших в состав его собственного корпуса. Обыкновенно он сохранял их в уголке своей памяти, и это чудесно служило ему в тех случаях, когда нужно было узнать солдата и доставить ему удовольствие быть выдвинутым его генералом.
Бонапарт держался с военными добродушного тона, который их очаровывал, всем им говорил «ты» и напоминал о тех военных подвигах, которые они совершили вместе.
Позднее, когда его армия сделалась столь многочисленной, а битвы – столь смертоносными, он уже презирал этот способ очаровывать. Притом смерть унесла столько воспоминаний, что через несколько лет стало слишком трудно отыскать сотоварищей его первых подвигов. Когда Бонапарт обращался с речью к солдатам, призывая их на битву, он не мог уже обращаться к ним как к поколению, непосредственно связанному с предыдущим, которому прежняя, исчезнувшая, армия завещала свою славу. Но эта новая манера возбуждать их храбрость еще долго удавалась ему по отношению к нации, которая верила, что исполняет свое назначение, ежегодно умирая за него.
Я говорила, что Бонапарт очень любил вспоминать свою египетскую кампанию, и действительно, он всего охотнее воодушевлялся, говоря о ней. Он взял с собой в это путешествие Монжа, ученого, которого сделал сенатором и которого особенно любил, просто потому, что тот был в числе членов Института, которые сопровождали его в Египет. Часто Бонапарт вспоминал с ними об этой экспедиции, «этой стране поэзии, – как говорил он, – которую попирали Цезарь и Помпей». Бонапарт с энтузиазмом возвращался к тому времени, когда он показался перед изумленными жителями Востока как новый пророк. Эта победа над умами – пожалуй, самая полная из всех, – казалась ему самой желанной. «Во Франции, – говорил он, – мы всего должны добиваться при помощи доказательства, в Египте, Монж, мы не нуждались в нашей математике».
В Брюсселе я начала немного привыкать к манерам Талейрана. Презрительное выражение его лица и склонность к насмешкам не слишком мне импонировали. Однако, так как праздность придворной жизни делает иногда день сточасовым, оказалось, что мы провели многие из них вместе в одном салоне, ожидая, когда Первому консулу вздумается появиться или уйти. В один из таких моментов скуки я расслышала, как Талейран жалуется, что его семья не пошла навстречу проектам, которые он для нее составил. Его брат, Аршамбо де Перигор, был изгнан. Он был обвинен в том, что позволил себе насмешливую манеру говорить, довольно обычную в этой семье, но он применил ее к лицам, слишком высокопоставленным; притом знали, что он отказался выдать за Евгения Богарне свою дочь и предпочел отдать ее замуж за графа Жюста де Ноайля. Талейран, который желал этой свадьбы так же, как и госпожа Бонапарт, порицал поведение брата, и я хорошо понимала, что с точки зрения личной политики он был заинтересован в подобном союзе.
Когда я начала беседовать с Талейраном, меня прежде всего поразило то, что он оказался лишен каких бы то ни было иллюзий или энтузиазма относительно совершавшегося вокруг нас. Весь двор испытывал этот энтузиазм в большей или меньшей степени. Полное подчинение военных легко могло принять оттенок преданности, и такая преданность действительно существовала у некоторых из них. Министры подчеркивали или испытывали глубокое восхищение; Маре по всякому поводу демонстрировал культ Бонапарта; Бертье спокойно верил в реальность его дружбы; казалось, что каждый более или менее испытывает какие-то чувства. Ремюза старался любить занятие, которому отдался, и уважать того, кто ему это занятие предписывал. Что касается меня, я не упускала случая волноваться и обманываться.
Спокойствие, безразличие Талейрана меня смущало. «Боже мой! – решилась я ему однажды сказать. – Как можно жить и действовать, не получая никакого впечатления ни от того, что происходит, ни от своих поступков?» – «О, насколько вы женщина и как вы молоды!» – отвечал он и начинал насмехаться надо мной, как и над всеми остальными. Его насмешки оскорбляли меня однако они же заставляли меня улыбаться. Я сознавала, что, как бы против своей воли, испытываю удовольствие от его остроумных насмешек: моему самолюбию льстило, что я могла понимать его ум, благодаря этому меня меньше возмущала сухость, которую я находила в его сердце. Притом я его еще не знала, и только гораздо позднее, освободившись от ощущения неловкости, в которую он ставил всегда тех, кто приближался к нему в первый раз, я могла наблюдать странное смешение, которое представлял его характер.
После Брюсселя мы посетили Льеж и Маастрихт и возвратились в старую Францию через Мельер и Седан. Госпожа Бонапарт была в этом путешествии очаровательна и оставила о своей доброте и грации воспоминание, которое пятнадцать лет спустя я нашла неизгладившимся.
Мы возвратились в Париж с радостью; я снова находилась в кругу своей семьи и, свободная от придворной жизни, с наслаждением отдавалась ей. Мы оба, Ремюза и я, были утомлены праздной, но беспокойной пышностью, в которой провели шесть недель. Для нас ничто не могло сравниться с тихими прелестями тесно сплоченной семейной жизни, в окружении нежных привязанностей и самых естественных чувств.
Когда Первый консул приехал в Сен-Клу, его и госпожу Бонапарт приветствовали депутации различных учреждений, судов и т. п.; дипломатический корпус также нанес ему визит. Спустя некоторое время он постарался придать большее великолепие ордену Почетного легиона и назначил его канцлером графа Ласепеда.
После падения Бонапарта либеральные писатели, и в числе их госпожа де Сталь, предали это учреждение своего рода анафеме, напоминая одну английскую карикатуру, которая представляла Бонапарта вырезающим кресты из красного колпака. Однако если бы он не злоупотреблял этим учреждением (равно как и всеми остальными), можно было бы только приветствовать изобретение награды, которая побуждала ко всякого рода заслугам, не становясь для государства слишком тяжелым бременем. Сколько подвигов на поле битвы заставил совершить этот кусочек ленты! И если бы он давался только за заслуги, если бы из него не сделали отличия, вручаемого часто по капризу, мне кажется, это была бы благородная идея – уравнивать все услуги, оказанные родине, какого бы рода они ни были, и награждать их все одинаковым способом.
Когда речь идет о нововведениях Бонапарта, надо остерегаться осуждать их без рассмотрения. Большинство из них имеет полезную цель и могло бы быть обращено на благо нации; но его неумеренная любовь к власти портила их затем по его капризу. Возмущаясь всякими препятствиями, он не выносил также и те, которые происходили от его собственных начинаний, и дискредитировал их, принимая решения внезапные и произвольные.
Создав в течение этого года различные представительства, он дал Сенату канцлера, казначея и преторов. Канцлером был назначен Лаплас, которого Бонапарт уважал как ученого и который нравился ему потому, что умел хорошо льстить. Двумя преторами были генералы Лефевр и Серюрье, а де Фарт был казначеем.
Республиканский год закончился, как обыкновенно, в середине сентября, а годовщина Республики была ознаменована большими празднествами, проводимыми с королевской пышностью во дворце Тюильри. В то же время узнали, что ганноверцы, побежденные генералом Мортье, устроили в день рождения Первого консула празднование. Таким образом, мало-помалу, сначала во главе всего, а затем и один, Бонапарт приучал Европу видеть Францию только в его лице, представляя ее вместо всех остальных.
Так как он сознавал, что встретит противодействие со стороны представителей старшего поколения, то рано и довольно ловко начал привлекать молодежь, которой открыл все двери для движения вперед. Он устроил кандидатов в различные министерства, дал ход всевозможным честолюбиям как в военной, так и в гражданской карьере. Бонапарт часто говорил, что предпочитает, чтобы народом правили молодые, и до известной степени находил для этого возможности.
Первый консул обсуждал в этом году и учреждение суда присяжных. Я слышала, как говорили, что Бонапарт не имеет к нему никакого расположения; но его Государственный совет показал себя твердым по этому пункту, и, несмотря на желание управлять в дальнейшем гораздо более самостоятельно, без помощи собраний, которых он опасался, Первый консул был вынужден сделать некоторые уступки самым выдающимся членам Совета.
Во всех крупных городах Франции учредили лицеи, и изучение древних языков, уничтоженное во время революции, снова сделалось обязательным в системе народного образования.
Между тем большие приготовления шли во флотилии плоскодонных кораблей, которая должна была служить для экспедиции в Англию. Со дня на день увеличивались шансы, в случае тихой погоды, отправить ее к берегам Англии. Говорили, что консул сам будет командовать экспедицией, и это предприятие, казалось, не превышало возможностей ни его смелости, ни его удачи. Наши газеты изображали Англию взволнованной и обеспокоенной, и, в сущности, английское правительство не было чуждо известных опасений по этому поводу. «Монитор» всегда вел ожесточенную войну против свободных английских газет, и брошенные перчатки поднимались с обеих сторон. Во Франции применили закон о рекрутском наборе, и многочисленные солдаты уже собирались под знамена. Спрашивали о причинах такого вооружения, обсуждали замечания, подобные нижеследующему, как бы случайно разбросанные по страницам «Монитора»: «Английские журналисты подозревают, что большие приготовления к войне, о которых Первый консул издал распоряжения в Италии, предназначены для Египта».
Никакого отчета не было дано французской нации. Но французы испытывали по отношению к Бонапарту доверие, подобное тому, какое внушает магия легковерному уму; и, так как успех его предприятий был неоспорим в глазах народа, естественно увлеченного удачей, Бонапарту нетрудно было получить молчаливое согласие на все свои действия. С этого времени небольшое число догадливых людей начало замечать, что он не будет для нас полезным человеком, но, так как страх перед революционным правительством все-таки провозглашал его нужным человеком, опасались, протестуя против него, облегчить дела партии, которую, казалось, он один мог сдерживать.
А Бонапарт, всегда энергичный и деятельный, стремился не оставлять умы в покое, который ведет к размышлению, и распространять во все стороны беспокойство, которое должно было служить ему. Было напечатано письмо графа д’Артуа, извлеченное из «Морнинг Кроникл», в котором английскому королю предлагались услуги эмигрантов в случае вылазки; носились слухи о некоторых попытках заговоров в восточных департаментах; с тех пор как война в Вандее сменилась бесславными беспорядками, которые наводили шуаны, общество привыкло к идее, что любое движение, которое возникнет в стране, не поведет ни к чему другому, кроме грабежа и пожара. Наконец, истинную возможность покоя видели только в сохранении установленного правительства; и теперь некоторые друзья свободы оплакивали ее потерю, несмотря на либеральные учреждения (испорченные на их глазах потому, что были задуманы абсолютной властью), и делали заявления, подобные следующим: «После стольких бурь, среди борьбы стольких партий только сила может дать нам свободу, и, поскольку именно сила стремится сейчас поддержать принципы порядка и морали, мы не должны думать, что отклоняемся от истинного пути, так как в конце концов создатель исчезнет, но созданное им останется у нас».
А «создатель», в то время, когда волновались по поводу его распоряжений, постоянно пребывал в состоянии полного спокойствия. В Сен-Клу он снова возвратился к жизни размеренной, и мы проводили наши дни так, как я их уже описывала. Все его братья были заняты: Жозеф – в лагере в Булони, Луи – в Государственном совете, Жером, самый молодой, – в Америке, куда он был послан и где был очень хорошо принят[34]34
Люсьен к этому времени уже женился на госпоже Жубертон и поссорился с братом.
[Закрыть]. Сестры, начав пользоваться большим состоянием семьи, украшали дома, которые им подарил Первый консул, и старались перещеголять одна другую роскошью обстановки. Евгений Богарне погрузился в исполнение своих военных обязанностей; его сестра жила тихо и довольно печально.
Молодая госпожа Леклерк отдавалась новой страсти, которую она внушила принцу Боргезе (недавно приехавшему во Францию из Рима) и которую она разделяла. Этот принц просил ее руки у Бонапарта, который, по причине, мне неизвестной, сначала противился этому предложению. Быть может, его тщеславие не позволяло ему казаться польщенным какими бы то ни было связями, и он не желал показать вида, что с радостью принимает первое же предложение. Но когда связь этих двух лиц сделалась известной, он наконец согласился ее легализировать браком, который и совершился в Мортефонтене, во время пребывания суда в Булони.
Бонапарт поехал осматривать лагерь и флотилию 3 ноября 1803 года; это путешествие было чисто военным. Он велел сопровождать себя только генералам своей гвардии, адъютантам и Ремюза.
Прибыв в Понт-де-Брик, маленькое селение на расстоянии одного лье от Булони, где Бонапарт велел организовать свою главную квартиру, мой муж опасно заболел. Как только я об этом узнала, поспешила к нему и прибыла в этот Понт-де-Брик в середине ночи. Отдавшись всецело своему беспокойству, я думала только о состоянии, в котором найду своего дорогого больного, но, когда вышла из экипажа, была смущена, очутившись одна среди лагеря и не зная, что подумает консул о моем прибытии. Однако меня успокоили: слуги, которые встали, чтобы встретить меня, рассказали, что мое прибытие предвидели и оставили мне еще два дня тому назад маленькую комнату. Я провела в ней остаток ночи, ожидая утра, чтобы показаться на глаза своему мужу, не нарушая его покой. Я нашла его очень подавленным, но он проявил такую радость, видя меня у своей постели, что я поздравила себя с тем, что поехала, не испросив разрешения.
Проснувшись, Бонапарт позвал меня к себе; я была взволнована и немного смущена; он это заметил, как только я вошла в комнату. Тогда он поцеловал меня, усаживая, и успокоил меня первыми же словами: «Я ждал вас. Ваше присутствие вылечит вашего мужа». При этих словах я расплакалась. Он был, по-видимому, тронут и постарался меня успокоить, предписав приходить к нему каждый день обедать и завтракать, для того чтобы, как он сказал, смеясь, «понаблюдать за женщиной ваших лет, очутившейся таким образом среди стольких военных».
Затем Бонапарт спросил, в каком состоянии я оставила его жену. Незадолго до его отъезда несколько новых тайных визитов мадемуазель Жорж вызвали столкновение в семье. «Она волнуется, – прибавил он, – гораздо больше, чем следует. Жозефина всегда боится, как бы я серьезно не влюбился, – значит, она не знает, что любовь существует не для меня. Так как, в самом деле, что такое любовь? Страсть, которая оставляет весь мир в стороне, чтобы видеть, признавать только любимый предмет. А я, конечно, совсем не склонен отдаваться такой исключительности. Что же ей до тех развлечений, в которых нисколько не участвует мое чувство? Вот, – продолжал он, глядя на меня несколько строго, – в чем должны убеждать ее друзья, а особенно пусть они не надеются увеличить свое влияние на нее, увеличивая ее беспокойство». В этих последних словах заметен был оттенок недоверия и строгости, которых я не заслуживала, и мне кажется, он это знал тогда очень хорошо, но ни в коем случае не хотел отступить от своей излюбленной системы, которая заключалась в том, чтобы держать умы в состоянии беспокойства.
После моего приезда Бонапарт пробыл в Понт-де-Брик около десяти дней. Муж мой был болен серьезно, но доктора не беспокоились. За исключением четверти часа, занятой завтраком с консулом, я проводила все время в комнате моего больного. Бонапарт ежедневно посещал лагерь, осматривал войска, флотилию, присутствовал на небольших сражениях или, вернее, при обмене выстрелами между нами и англичанами, которые беспрерывно курсировали перед портом и старались помешать рабочим.
В шесть часов Бонапарт возвращался и тогда звал меня к себе. Иногда он приглашал к обеду некоторых военных, живущих в его доме, морского министра или директоров путей сообщения, которые его сопровождали. Иногда мы обедали тет-а-тет, и тогда он говорил о самых разнообразных вещах. Он рассказывал о своем собственном характере, изображал себя всегда несколько меланхолическим, вне всякого сравнения со своими товарищами. Моя память очень точно хранит воспоминание обо всем, что он рассказывал во время этих бесед. Вот о чем приблизительно шла речь:
«Я был воспитан, – говорил он, – в военной школе, но обнаруживал расположение только к точным наукам. Все говорили обо мне: «Этот ребенок способен только к геометрии». Я жил в отдалении от моих товарищей. Избрав уголок, я усаживался, чтобы помечтать, так как всегда был склонен к мечтательности. Когда товарищи хотели завладеть этим уголком, я защищал его всеми силами. У меня тогда уже было инстинктивное сознание, что моя воля должна господствовать над волей других и что то, что мне нравится, должно принадлежать мне. Меня недолюбливали в школе; для того чтобы заставить любить себя, нужно время, но даже когда мне нечего было делать, мне всегда смутно казалось, что я ничего не теряю.
Когда я поступил на службу, то скучал в своих гарнизонах и принялся читать романы: это чтение меня живо интересовало. Я пробовал даже писать романы; это занятие порождало неопределенные мечты, и они смешивались с точными знаниями, которые я приобрел; порой я развлекался мечтами, чтобы сравнивать затем эти мечты с точностью моих рассуждений. Я отдавался мыслью идеальному миру и старался определить, чем он отличался от мира реального.
Я всегда любил анализ: если бы я был серьезно влюблен, то разложил бы свою любовь на составные части. Зачем и почему – полезные вопросы, которые всегда надо задавать себе.
Я меньше изучал историю, чем завоевывал ее. Это значит, что я выбирал и запоминал из нее только то, что могло дать лишнюю идею, пренебрегая ненужным и пользуясь известными результатами, которые мне нравились. Я не много понимал в революции, однако она могла принести мне пользу. Равенство, которое привело к моему возвышению, увлекало меня. Двадцатого июня 1792 года я был в Париже, видел, как чернь шла против Тюильри. Я никогда не любил народных движений и был возмущен грубым поведением этих несчастных; я находил, что вожди, поднявшие их, поступили неосторожно, и говорил себе: «Выгоды от этой революции получат не они». Но когда мне сказали, что Людовик надел на голову красный колпак, я пришел к заключению, что он перестал царствовать, так как в политике нельзя подняться после унижения.









































