Текст книги "Мемуары госпожи Ремюза"
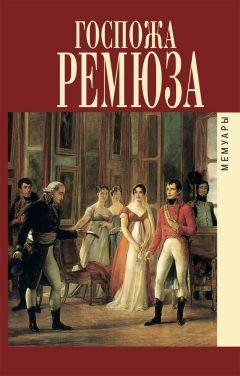
Автор книги: Клара Ремюза
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Через несколько дней после возвращения короля герцог Ровиго явился ко мне как-то утром[41]41
Герцог Ровиго знал, до какой степени мы, мой муж: и я, были связаны с Талейраном, и желал в тот момент, чтобы, если это возможно, я была ему полезной.
[Закрыть]; он старался оправдаться по поводу обвинений, которые тяготели над ним. Вот что он рассказал мне о смерти герцога Энгиенского: «Император и я, – говорил он мне, – были обмануты. Один из второстепенных агентов Жоржа был подкуплен моей полицией; он рассказал нам, что в ту ночь, когда заговорщики собрались, им объявили о тайном приезде одного важного руководителя, которого нельзя еще назвать, и что в самом деле несколько ночей после этого среди них появлялась личность, по отношению к которой все остальные оказывали знаки большого уважения. Наш шпион описывал его так, что можно было принять этого человека за принца дома Бурбонов. В то же самое время герцог Энгиенский поселился в Эттенгейме, чтобы ожидать здесь успешного осуществления заговора. Агенты писали, что иногда герцог исчезал на несколько дней; мы заключили, что это делалось для того, чтобы появляться в Париже; его арест был решен. Когда шпиона свели на очной ставке с арестованными преступниками, он узнал Пишегрю в указанном важном лице, и, когда я сообщил об этом Бонапарту, он закричал, топнув ногой: «Ах, несчастный, что же он меня заставил сделать?!»»
Но вернемся к событиям. Пишегрю возвратился во Францию 15 января 1804 года и с 25 января скрывался в Париже. Генерал Моро донес правительству, что Пишегрю поддерживает сношения с домом Бурбонов. Моро считался человеком с республиканскими взглядами; быть может, затем он поменял их на идеи конституционной монархии. Я не знаю, будет ли его семья защищать его теперь так же горячо, как тогда, от обвинения в том, что он подал руку роялистам в их проектах; не знаю также, следует ли вполне доверять признаниям, сделанным в правление Людовика XVIII. Но поведение Моро в 1813 году и уважение, оказываемое нашими принцами его памяти, могли бы заставить поверить, что у них с давних пор были некоторые основания рассчитывать на него. В эпоху, о которой я говорю, Моро был сильно раздражен против Бонапарта. Не сомневались в том, что он тайно виделся с Пишегрю, по крайней мере он хранил молчание относительно заговора; некоторые роялисты, арестованные тогда, обвиняли его только в том, что он проявил благоразумие, ожидая успеха, чтобы действовать открыто. Моро, как говорили, был вне сражений человеком слабым и посредственным; думаю, что его репутация не вполне ему соответствовала. «Существуют люди, – замечал Бонапарт, – которые не умеют носить свою славу; роль Монка великолепно шла Моро; на его месте я бы действовал так же, но более искусно».
В конце концов, я привожу свои сомнения не для того, чтобы оправдывать Бонапарта. Каков бы ни был характер Моро, его слава действительно существовала, ее следовало уважать и надо было извинить старого товарища по оружию, недовольного и раздраженного; доброе согласие могло бы быть результатом политического расчета Бонапарта, какой он видел в Августе Корнеля, и это было самым лучшим из того, что можно было сделать. Но Бонапарт, не сомневаюсь, был убежден в «моральной измене» Моро. Он думал, что этого достаточно для законов и правосудия; его уверили, что улики найдутся, чтобы узаконить обвинение. Он считал, что обязан это сделать.
Уже несколько дней говорили о заговоре. Семнадцатого февраля утром я пришла в Тюильри. Консул был в комнате своей жены; обо мне доложили; меня позвали. Госпожа Бонапарт показалась мне смущенной, глаза ее были красны. Бонапарт сидел около камина и держал на коленях маленького Наполеона. В его взгляде была серьезность, но ни тени жестокости. Он машинально играл с ребенком.
– Знаете ли вы, что я только что сделал? – сказал он мне и в ответ на мой отрицательный жест добавил: – Я издал распоряжение арестовать Моро.
Я, вероятно, сделала какое-нибудь движение.
– А, вот вы удивлены! Это наделает много шума, не правда ли? Скажут, что я ревную к Моро, что это месть, и тысячу тому подобных пустяков. Я – и ревновать к Моро! О Боже мой! Он обязан мне большей частью своей славы; ведь я оставил ему прекрасную армию и сохранил в Италии только рекрутов; я желал поддерживать с ним только добрые отношения. Конечно, я его не боялся: во-первых, я никого не боюсь, а Моро – меньше, чем кого бы то ни было. Двадцать раз я мешал ему скомпрометировать себя; я предупредил его, что нас поссорят. Он это чувствовал, как и я, но он слаб и честолюбив, женщины управляют им, партии влияют на него.
Говоря так, Бонапарт встал, подойдя к жене, взял ее за подбородок и сказал, приподняв ее голову:
– Ни у кого нет такой доброй жены, как у меня! Ты плачешь, Жозефина? Почему? Ты боишься?
– Нет, но мне неприятно, что об этом будут говорить.
– Что же тут можно сделать… – Затем, повернувшись ко мне, Бонапарт прибавил: – У меня есть никакой ненависти, никакого желания мести. Я много думал, прежде чем арестовать Моро; я мог бы закрыть глаза, дать ему время бежать, но тогда сказали бы, что я не решился отдать его под суд. У меня достаточно доказательств для его осуждения. Он виноват, я составляю правительство; все это должно пройти просто.
Я не знаю, влияет ли на меня до сих пор сила воспоминаний, но признаюсь, что даже сегодня мне трудно поверить, что Бонапарт, говоря так, не был искренен. Я видела, что он делает успехи в искусстве обманывать, но в то время в его голосе еще был оттенок правдивости, которого позднее я в нем не находила. Быть может, это происходило и потому, что тогда я верила в него.
Бонапарт вышел из комнаты. Госпожа Бонапарт рассказала мне, что он почти всю ночь провел на ногах, обсуждая, надо ли арестовать Моро, взвешивая все за и против, без тени раздражения; на рассвете он позвал генерала Бертье и после долгого разговора решился послать в Гросбуа, куда удалился Моро.
Это событие наделало много шума; о нем говорили различно. В Трибунате брат генерала Моро, трибун, выступил с горячностью и произвел некоторое впечатление. Три государственных учреждения избрали депутацию, чтобы выразить сочувствие консулу по поводу опасности, которой он подвергался. В то же время в Париже часть буржуазии, адвокаты, литераторы – все, кто мог представлять либеральную часть нации, – горячились из-за Моро. Нетрудно было заметить известную оппозицию в интересе, который проявился по отношению к генералу; решили появиться громадной толпой в суде; раздавались даже некоторые угрозы на случай, если его осудят.
Полиция Бонапарта предупредила его, что Моро могут даже выпустить из тюрьмы. Бонапарт начал раздражаться, и я уже не видела у него прежнего спокойствия в отношении к этому делу. Его зять Мюрат, в то время губернатор Парижа, ненавидел Моро и старался ежедневно возбуждать Бонапарта гнусными донесениями; он сговаривался с префектом полиции Дюбуа и преследовал консула устрашающими доносами; к несчастью, к этому присоединились события: ежедневно находили новые разветвления заговора, а парижское общество упрямилось, не признавая его. Это была маленькая война мнений между Бонапартом и парижанами.
Двадцать девятого февраля открыли местопребывание Пишегрю, он был арестован, хотя отчаянно защищался. Это событие ослабило недоверие, но к Моро по-прежнему относились с интересом. Его жена придавала своему горю некоторую театральность, и это производило впечатление. Между тем Бонапарт, не зная судебных процедур, находил их гораздо более медленными, чем он полагал раньше. В первое время главный судья слишком легкомысленно обещал сделать процедуру короткой и ясной, а между тем могли доказать только тот факт, что Моро поддерживал тайные сношения с Пишегрю, что тот ему все доверил, но Моро ничего положительного не обещал. Этого было недостаточно, чтобы повлечь за собой осуждение, которое начинало становиться необходимым; наконец, несмотря на громкое имя, которое связано со всей этой историей, именно Жорж Кадудаль навсегда сохранил в мнениях и спорах положение настоящего главы заговора.
Невозможно представить себе волнение, которое царило во дворце консула; расспрашивали всех; расспрашивали о малейших разговорах. Однажды Савари отвел в сторону Ремюза, говоря ему:
– Вы были магистратом, вы знаете законы; думаете ли вы, что сведения, которые мы имеем, достаточны для судей?
– Никогда не осуждали человека, – отвечал мой муж, – только потому, что он не выдал проектов, о которых знал. Конечно, это политическая вина по отношению к правительству, но это еще не преступление, которое должно повлечь за собой смертную казнь; а если это ваш единственный аргумент, вы дадите Моро только очевидность, печальную для вас же.
– В таком случае главный судья сделал большую глупость. Лучше бы он воспользовался Военной комиссией.
С того дня, как арестовали Пишегрю, парижские заставы были закрыты для розысков Жоржа. Сильно огорчались, что он так ловко ускользнул от преследования. Фуше постоянно насмехался над неловкостью полиции и закладывал по этому случаю основы своего нового влияния; его насмешки возбуждали Бонапарта, уже недовольного, и когда он действительно подвергался большой опасности и видел, что парижане не доверяют истинности известных событий, то чувствовал, как его увлекает желание мести. «Видите ли, – говорил он, – могут ли французы быть управляемы законами и умеренными учреждениями? Я уничтожил революционное, но полезное министерство, и тотчас же составились заговоры. Я пренебрег своими личными впечатлениями и предоставил независимой от меня власти наказание человека, который желал моей гибели, а теперь, не зная моего желания, насмехаются над моей умеренностью, извращают мотивы моих поступков. А! Я покажу, как ошибаться в моих побуждениях! Я верну себе все свои права и покажу, что я один создан для того, чтобы управлять, решать и наказывать!»
Гнев Бонапарта рос тем сильнее, что он все больше чувствовал себя в ложном положении. Он надеялся подчинить себе общественное мнение, а оно от него ускользало.
Что может показаться странным тем, кто не знает, до какой степени форменная одежда убивает в людях, которые ее носят, привычку думать, – это то, что армия не подала повода ни к малейшему беспокойству. Военные делают все по приказу и воздерживаются от впечатлений, которые им не приказаны. Только незначительная часть офицеров вспомнила, что они служили и побеждали под командой Моро, а буржуазия была более взволнована, чем всякий другой класс нации.
Полиньяки, де Ривьер[42]42
Герцоги Полиньяки (Арман и Жюль) и маркиз де Ривьер состояли адъютантами графа д’Артуа и входили в число заговорщиков.
[Закрыть] и некоторые другие были один за другим арестованы. Тогда начали немного больше верить в реальность заговора и понимать, что это все-таки заговор роялистов. Однако республиканская партия продолжала отстаивать Моро. Дворянство было испугано и держалось очень сдержанно, порицая неосторожность Полиньяков, которые заявляли потом, что не нашли того рвения, на которое рассчитывали. Ошибка, слишком обычная для роялистов, заключается в том, что они верят в существование желаемого и действуют на основании своих иллюзий. Это свойственно людям, которые руководствуются своими страстями или своим тщеславием.
Что касается меня, я сильно страдала. В Тюильри я видела Первого консула мрачным и молчаливым, его жену – часто заплаканной, его семью – взволнованной; сестра Бонапарта нервировала его резкими словами; в обществе бушевали тысяча различных мнений, недоверие, подозрения, коварная радость одних, сожаление от неудачи предприятия других, пристрастные суждения. Я была расстроена, огорчена тем, что слышала, и тем, что чувствовала; я замкнулась в своей семье, с мужем и матерью; мы все трое расспрашивали друг друга обо всем, что слышали, и о том, что совершалось в нас самих. Ремюза, с легкостью его прямого ума, огорчался из-за совершаемых кругом ошибок, и так как судил он беспристрастно, то начинал предчувствовать развитие характера, который молчаливо изучал.
Его опасения причиняли мне боль. Я уже чувствовала себя несчастной от подозрений, которые подымались во мне! Увы! Недалек был момент, когда мой ум должен был проясниться еще более роковым образом!
Глава V
1804 год
Арест Жоржа Кадудаля – Миссия Коленкура в Эттингейме – Арест герцога Энгиенского – Мое беспокойство и настойчивые просьбы, обращенные к госпоже Бонапарт – Вечер в Мальмезоне – Смерть герцога Энгиенского – Замечательные слова Первого консула
После нескольких арестов, о которых я говорила, в «Мониторе» поместили статьи из «Морнинг Кроникл», в которых говорилось о близкой смерти Бонапарта и реставрации Людовика XVIII. Якобы лица, только приехавшие в Лондон, утверждали, что на этом событии там спекулировали на бирже, и называли Жоржа, Пишегрю и Моро. В том же «Мониторе» напечатали письмо одного англичанина к Бонапарту, которого называли «Господин консул». В этом письме ему посылали для его личной пользы памфлет, в котором рассказывалось, что нельзя применить к таким личностям, как Кромвель и Бонапарт, слово «умертвить», потому что убить и умертвить – не одно и тоже и нет никакого греха в том, чтобы убить опасное животное или тирана. «Убить – не значит умертвить, – говорилось в памфлете, – это огромная разница».
Между тем в Париже получали со всей Франции обращения от городов и армий и послания епископов с приветствиями Первому консулу и поздравлениями Франции с тем, что она счастливо избежала опасности. В «Мониторе» тщательно печатали и эти статьи.
Жорж Кадудаль был арестован в марте, на площади Одеона. Он ехал в кабриолете и, увидев, что его преследуют, поспешно погнал свою лошадь. Один офицер полиции храбро появился перед лошадью, но был тотчас же убит Жоржем выстрелом из пистолета. Но вскоре Кадудаль был окружен народом, кабриолет остановили и пассажира схватили. У него нашли от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков в билетах, вся сумма была отдана вдове человека, которого он убил. В газетах поместили заметку с его признанием в том, что он явился во Францию, только чтобы умертвить Бонапарта. Однако я припоминаю, что рассказывали в то время: Жорж, показавший во время всей процедуры необычайную твердость и большую преданность дому Бурбонов, всегда отрицал план убийства, но признавал, что его проект состоял в нападении на экипаж консула и похищении его, без причинения какого бы то ни было вреда.
В это время серьезно заболел английский король; наше правительство рассчитывало на его смерть, ожидая выхода Питта из министерства.
Двадцать пятого марта в «Мониторе» появилась следующая заметка: «Принц Конде издал циркуляр, чтобы призвать эмигрантов и собрать их на Рейне. Один из принцев дома Бурбонов находится на границе».
Далее напечатали тайную корреспонденцию, перехваченную у человека по имени Дрэк, английского посланника в Баварии; благодаря ей становилось ясно, что английское правительство не пренебрегало никакими средствами для возбуждения смуты во Франции. Талейран получил приказание послать копии этой корреспонденции всем членам дипломатического корпуса, выразившим свое негодование в письмах.
Приближалась Святая неделя. В Вербное воскресенье, 18 марта, начиналась неделя моего дежурства у госпожи Бонапарт. Рано утром я отправилась в Тюильри, чтобы присутствовать на обедне, которая совершалась с большой торжественностью. После обедни госпожа Бонапарт находилась в салонах среди многочисленного двора и оставалась там некоторое время, разговаривая то с одними, то с другими.
Затем, возвратившись к себе, она объявила, что мы проведем эту неделю в Мальмезоне.
– Я в восторге от этого, – прибавила она, – Париж в настоящее время меня пугает.
Несколько часов спустя мы отправились. Бонапарт ехал в своем собственном экипаже, госпожа Бонапарт – в своем, только со мной. Дорогой я заметила, что она была молчалива и очень печальна, и выразила свое беспокойство по этому поводу. Она, казалось, колебалась, но затем сказала:
– Я доверю вам большую тайну. Сегодня утром Бонапарт сообщил мне, что послал на наши границы Коленкура, чтобы схватить герцога Энгиенского. Его привезут сюда.
– Ах! Боже мой! – вскричала я. – Что же хотят с ним сделать?
– Мне кажется, его будут судить.
Эти слова повергли меня в самый сильный ужас, какой я когда-либо испытала в жизни. Он был так силен, что госпожа Бонапарт подумала, что я падаю в обморок, и закрыла окна.
– Я сделала все, что могла, – продолжала она, – чтобы получить от него обещание, что этот принц не погибнет, но я очень боюсь, что его судьба решена.
– Как?! Вы думаете, что Бонапарт приговорит его к смерти?
– Я боюсь этого.
При этих словах я не могла удержаться от слез и, волнуясь, поспешила представить всю пагубность подобного события: это пролитие королевской крови, которое удовлетворит только партию якобинцев; особенный интерес, который вызовет этот принц; громкое имя Конде; всеобщий ужас, горячую ненависть, которую все это вызовет, и тому подобное. Я касалась всех вопросов, о которых госпожа Бонапарт думала только отчасти. Идея убийства – вот что ее особенно поразило. Я достигла того, что действительно ее напугала, и она обещала испробовать все, чтобы заставить Бонапарта изменить это роковое решение.
Мы обе приехали в Мальмезон совершенно подавленные. Я спряталась в своей комнате, где продолжала горько плакать. Душа моя была потрясена. Я любила Бонапарта и восхищалась им, мне казалось, что он призван непобедимой силой к самому высокому назначению; я предоставляла моему юному воображению увлекаться им; но вдруг покрывало над моими глазами разорвалось, и, судя по тому, что я испытывала в тот момент, я слишком хорошо понимала, какие последствия вызовет это событие.
В Мальмезоне не было никого, кому я могла бы совершенно открыться. Мой муж не был дежурным и остался в Париже. Мне надо было себя сдерживать и появляться со спокойным лицом, так как госпожа Бонапарт решительно запретила мне выдавать то, что она мне рассказала.
Спустившись в салон около шести часов, я нашла там Первого консула, который играл в шахматы. Он показался мне веселым и спокойным; мне тяжело было смотреть на его спокойное лицо. В течение двух часов, пока я думала о нем, мой ум был до такой степени потрясен, что я никак не могла вернуться к обычным впечатлениям, которые мне внушало его присутствие, – мне казалось, что я должна найти его изменившимся. Несколько военных обедали с ним; за все это время не произошло ничего важного. После обеда он удалился в кабинет, чтобы работать со своей полицией; вечером, когда я расставалась с госпожой Бонапарт, она еще раз обещала мне возобновить уговоры.
На другое утро я явилась к ней, как только это оказалось возможным. Она была совершенно обескуражена. Бонапарт отказал ей по всем пунктам: женщины должны быть чужды подобного рода делам; его политика требовала этого государственного переворота; он достигнет после этого права быть милосердным в дальнейшем; ему надо выбрать между этим решительным действием или длинным рядом заговоров, которые придется ежедневно наказывать. Безнаказанность поощрила бы партии, ему пришлось бы их преследовать, изгонять и осуждать их без конца, вернуться к тому, что он сделал по отношению к эмигрантам, отдаться в руки якобинцев. Роялисты уже несколько раз компрометировали его по отношению к революционерам. Этот поступок оправдывал его перед всеми. Притом герцог Энгиенский, кроме всего прочего, участвовал в заговоре Жоржа, внес смятение во Францию, служил мести англичан, а его военная репутация могла в будущем взволновать армию. Когда он будет мертв, наши солдаты совершенно порвут с Бурбонами. В политике смерть, которая даст покой, не преступление; притом распоряжения отданы, теперь нельзя отступать.
Во время этого разговора госпожа Бонапарт сказала своему мужу, что он усилит ужас этого поступка выбором Коленкура, родители которого некогда были очень привязаны к дому Конде. «Я этого не знал, – отвечал Бонапарт, – и какое это имеет значение? Если Коленкур скомпрометирован, в этом нет большой беды, он будет мне служить еще лучше. Оппозиционная партия со временем простит его дворянство». Он добавил в конце, что Коленкур знал только об одной части его плана и думал, что герцог Энгиенский останется здесь в тюрьме.
Мужество покинуло меня при этих словах; я хорошо относилась к Коленкуру и ужасно страдала от всего того, что узнала. Я считала, что он должен был отказаться от миссии, которую на него возлагали. Весь день прошел очень печально; я вспоминаю, что госпожа Бонапарт, которая очень любила деревья и цветы, утром велела перенести кипарис в ту часть своего сада, которая была заново распланирована. Она сама бросила несколько лопаток земли на дерево, чтобы иметь возможность сказать, что посадила это дерево своими руками. «Боже мой, – сказала я, глядя ей в глаза, – это именно то дерево, которое вполне подходит к такому дню»[43]43
Кипарис всегда служил эмблемой печали у древних греков и римлян: кипарисовые ветви клались в гробницы, ими в знак траура украшались дома, на могилах сажались кипарисовые деревца.
[Закрыть]. С тех пор, когда я проходила мимо этого кипариса, у меня всегда сжималось сердце.
Мое глубокое страдание смутило госпожу Бонапарт. Легкомысленная и изменчивая, притом вполне доверявшая планам Бонапарта, она особенно боялась печальных и продолжительных впечатлений; конечно, она способна была испытывать даже довольно сильные чувства, но они бывали необыкновенно мимолетны. Убежденная в том, что смерть герцога Энгиенского решена, она не хотела предаваться бесполезным сожалениям. Но я мешала ей в этом. Я употребляла большую часть дня на то, чтобы ее постоянно тревожить; госпожа Бонапарт слушала меня необыкновенно кротко, но безнадежно: она знала Бонапарта лучше, чем я. Я плакала, заклинала ее не отказываться и наконец, так как имела на нее некоторое влияние, достигла того, что она решилась сделать последнюю попытку.
«Назовите меня, – говорила я, – Первому консулу, я очень мало значу, но он сможет судить по впечатлению, какое испытываю я, о том, какое произведет он; так как я действительно более привязана к нему, чем многие другие, то не желаю ничего лучшего, чем найти для него оправдание, но не могу найти ни единого для того, что он хочет сделать».
Мы мало видели Бонапарта в этот второй день; а верховный судья, префект полиции, Мюрат появлялись и имели долгие аудиенции; я видела, что у них были зловещие лица. Я провела на ногах часть ночи. Когда я засыпала, мне снились ужасные сны. Вдруг меня охватывало желание броситься к ногам Бонапарта, чтобы просить пожалеть свою славу, так как тогда мне казалось, что она чиста, и я искренно плакала над ней. Эта ночь никогда не изгладится из моей памяти.
Во вторник утром госпожа Бонапарт сказала мне:
– Все напрасно, герцог Энгиенский приезжает сегодня вечером. Его повезут в Венсенн и будут судить сегодня ночью. Все поручено Мюрату. Он ужасен в этой истории. Это он толкает Бонапарта; он повторяет, что милосердие консула примут за слабость, а якобинцы будут в бешенстве. Существует партия, которая считает неправильным, что на прежнюю славу Моро не обратили внимания, и она непременно спросит, почему же больше щадят Бурбона; наконец, Бонапарт запретил мне обсуждать это. Он говорил мне о вас, – добавила она затем, – я призналась ему, что вам рассказала; он был поражен вашей печалью. Старайтесь сдерживаться.
Кровь бросилась мне в голову.
– А! Пусть он думает обо мне что хочет! Это меня мало трогает, уверяю вас; если он спросит, почему я плачу, я отвечу, что оплакиваю его самого! – И говоря так, я действительно заплакала.
Госпожа Бонапарт ужасалась, видя меня в таком состоянии; сильные душевные потрясения были ей до известной степени чужды. Когда она старалась успокоить меня, я могла ответить только словами:
– Ах! Вы меня не понимаете!
Она уверяла меня, что после этого события Бонапарт будет таким же, как прежде. Увы, не будущее меня беспокоило; я не сомневалась в его власти над самим собой и над другими, но чувствовала нечто вроде внутреннего раздвоения, совершенно личного.
Наконец, в час обеда, надо было спуститься вниз и придать своему лицу выражение, соответствующее обстоятельствам. Но мое лицо было слишком выразительно. Бонапарт еще играл в шахматы, – он пристрастился к этой игре. Как только консул увидел меня, то подозвал к себе, прося дать ему совет, но я не могла произнести и нескольких слов. Он говорил с мягкостью и интересом, которые окончательно смутили меня.
Когда обед был подан, он посадил меня возле себя и стал расспрашивать о множестве вещей, относящихся к моей семье. Казалось, он старался вскружить мне голову и помешать мне думать. Из Парижа привезли маленького Наполеона. Его дядя, казалось, забавлялся тем, что ребенок трогал все блюда и переворачивал все вокруг себя. После обеда он посадил малыша на землю, играя с ним, и подчеркивал веселость, которая казалась мне неискренней.
Госпожа Бонапарт, которая боялась, чтобы муж не был раздражен тем, что она рассказала ему обо мне, смотрела на меня, ласково улыбаясь, как будто желая мне сказать: «Вы видите, что он не так зол и мы можем успокоиться». Что касается меня, я не понимала, что со мной, в иные моменты казалось, что я вижу дурной сон; по-видимому, у меня был испуганный вид, так как вдруг Бонапарт, посмотрев на меня в упор, спросил:
– Почему вы не нарумянились? Вы слишком бледны.
Я отвечала ему, что забыла румяна.
– Как?! – возразил он. – Женщина, которая забывает румяна! – И, расхохотавшись, воскликнул: – С тобой этого никогда не случается, Жозефина! У женщин есть две вещи, которые им приносят пользу: румяна и слезы.
Эти слова расстроили меня окончательно.
Генерал Бонапарт не имел достаточно изящества в своей веселости и держался манер, которые напоминали гарнизонные привычки. Он еще довольно долго шутил со своей женой – больше свободно, чем прилично. Потом позвал меня к столу, чтобы сыграть партию в шахматы. Он играл не особенно хорошо, не желая подчиняться определенным ходам. Я предоставляла ему делать все, что ему нравилось; все хранили молчание; тогда он принялся напевать сквозь зубы. Потом ему вдруг пришли на память стихи. Он произнес вполголоса: «Будем друзьями, Цинна», – а затем стихи Гусмана из «Альзиры»: «Как различны боги, которым мы служим: твои повелевают убийство и месть, а мой Бог, когда твоя рука готова меня убить, повелевает пожалеть тебя и простить».
Я не могла удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть на него; он улыбнулся и продолжал. В самом деле, я подумала в тот момент, что он обманул свою жену и всех других и готовит великую сцену милосердия. Эта наивная мысль успокоила меня; мое воображение было еще очень юно, и притом во мне жила такая потребность надеяться!
– Вы любите стихи? – спросил меня Бонапарт.
Мне очень хотелось ответить: «В особенности когда они воплощаются в жизнь». Но я никогда бы не решилась.
Мы продолжали нашу партию, и я все более и более доверялась его веселости. Мы еще играли, когда раздался стук подъезжающего экипажа, – доложили о генерале Гюлле-не; Первый консул резко отодвинул стол, поднялся и, войдя в галерею по соседству с салоном, провел всю остальную часть вечера с Мюратом, Гюлленом и Савари. Он больше не показывался, однако я возвратилась к себе более спокойная, чем прежде. Я не могла поверить, чтобы Бонапарта не тронула мысль, что у него в руках такая жертва. Мне хотелось, чтобы принц попросил Бонапарта о встрече; и действительно, он это сделал, повторяя: «Если Первый консул согласится увидеть меня, то поступит со мной справедливо: он поймет, что я исполнял свой долг». Быть может, говорила я себе, он сам поедет в Венсенн и проявит милосердие. Иначе зачем же припоминать стихи Гусмана?
Ночь, эта ужасная ночь, наконец прошла. Рано утром я сошла в салон и встретила там Савари, одного, бледного и, должна отдать ему справедливость, с расстроенным лицом. Его губы дрожали во время разговора со мной, хотя он обращался ко мне с ничего не значащими словами. Я не расспрашивала его. Вопросы всегда излишни по отношению к подобным лицам. Они говорят, когда их спрашивают, только то, что хотят сказать, и никогда не отвечают на вопросы.
Госпожа Бонапарт вышла в салон; она грустно посмотрела на меня и спросила Савари:
– Что же, это совершилось?
– Да, – отвечал тот, – он умер сегодня утром; я принужден признать это, умер мужественно.
Я была совершенно убита.
Госпожа Бонапарт спросила о подробностях, – они уже стали известны. Принца отвели в ров замка; когда ему предложили платок, он с достоинством оттолкнул его и обратился к жандармам. «Вы – французы, – сказал он им, – вы окажете мне, по крайней мере, услугу не промахнуться». Герцог передал кольцо, прядь волос и письмо госпоже де Роган[44]44
Шарлотта Луиза де Роган (1767–1841) – жена герцога Энгиенского, с которой он обвенчался за месяц до смерти.
[Закрыть]; Савари показал все это госпоже Бонапарт. Письмо не было запечатано, оно было коротким и трогательным. Не знаю, были ли исполнены последние желания несчастного принца.
– После его смерти, – продолжал Савари, – жандармам разрешили взять его одежду, часы и деньги, которые были при нем, – ни один не пожелал до них дотронуться. Пусть говорят что угодно, но нельзя приравнивать гибель таких людей к гибели многих других, и я чувствую, что мне трудно вернуться к обычному хладнокровию.
Затем появились Евгений Богарне, слишком еще юный для воспоминаний (он видел в герцоге Энгиенском только заговорщика против жизни своего господина), и генералы (имен их я не назову), которые восхищались этим поступком; а госпожа Бонапарт, всегда несколько испуганная, когда говорили громко и резко, как будто извинялась за свою печаль, повторяя неуместную фразу: «Я женщина, и, признаюсь, то, что происходит, вызывает у меня желание плакать».
В течение утра появилась толпа народа, консулы, министры, Луи Бонапарт и его жена: первый – замкнувшийся в молчании, которое казалось неодобрительным, госпожа Луи – перепуганная, не смеющая чувствовать и как бы спрашивающая, что должна думать. Женщины более всех были подчинены магическому могуществу выражения Бонапарта «моя политика». Этими словами он подавлял мысли, чувства, даже впечатления, и, когда он их произносил, никто, в особенности ни одна женщина, не решался спрашивать о том, что это выражение значит.
Утром явился мой муж; его присутствие облегчило ужасный гнет, который душил меня. Ремюза был подавлен и огорчен так же, как я. Как я ему благодарна за то, что он не дал мне совета сохранять внешнее спокойствие! Мы понимали друг друга во всех наших страданиях. Он рассказал мне, что в Париже все возмущены и вожди якобинской партии говорят: «Теперь он из наших». Ремюза добавил слова, которые я часто потом вспоминала: «Консул теперь на дороге, где ему придется, чтобы изгладить это воспоминание, оставить в стороне полезное и ошеломлять нас необыкновенным». Он также сказал госпоже Бонапарт: «Вам остается дать Первому консулу важный совет: ему следует, не теряя ни минуты, успокоить общественное мнение, которое быстро изменяется в Париже. Нужно, по крайней мере, чтобы он доказал, что это не является следствием жестокого характера, постепенно раскрывающегося, но только расчета, о справедливости которого я не могу судить, но который должен сделать его крайне осторожным».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































