Читать книгу "Мемуары госпожи Ремюза"
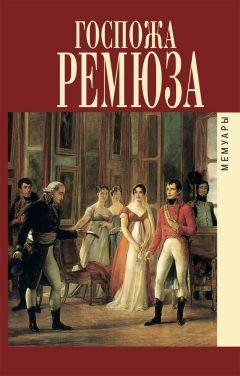
Автор книги: Клара Ремюза
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Книга первая
Глава I
1802–1803 годы
Семейные подробности – Мой первый вечер в Сен-Клу – Генерал Моро – Ремюза назначен префектом дворца, я становлюсь придворной дамой – Привычки Первого консула и госпожи Бонапарт – Талейран – Семья Первого консула – Госпожа Жорж и госпожа Дюшенуа – Ревность госпожи Бонапарт
Несмотря на то, что я начинаю этот рассказ в 1818 году, я не буду искать извинений для мотивов, которые привели моего мужа к Бонапарту, нет, я просто их объясню. В политике оправдания ничего не стоят. Некоторые лица, возвратившиеся только три года назад или начавшие принимать участие в политике только с этих пор, разразились чем-то вроде анафемы по отношению к тем из наших сограждан, кто в течение всех последних двадцати лет не держались вдали от событий. Когда им говорят, что не судят о том, были ли они правы или виноваты в своем продолжительном сне, и когда их просят оставаться беспристрастными в подобном же вопросе, они отвергают это соглашение со всей силой преимуществ, какие дает им их настоящее положение; они порицают без всякого великодушия, так как теперь нет никакого риска в том, чтобы толковать об обязанностях и долге.
Однако кто может в эпоху революции похвалиться тем, что всегда шел правильным путем? Кто из нас не должен отнести на долю обстоятельств часть своих поступков?
Кто, наконец, решится бросить первый камень, не боясь, что он упадет обратно на голову того, кто его бросил? Все люди в стране более или менее затронуты ударами, которыми они поражают друг друга, а им бы следовало лучше щадить друг друга, так как они, в сущности, солидарнее, чем им это кажется; и когда один француз без милосердия преследует другого, пусть он остерегается, – почти всегда он дает этим в руки иностранца оружие против обоих.
К тому же в эпоху переворотов немалым злом является горькая критика, одушевленная партийным духом, которая вызывает неизбежное недоверие, а может быть, и презрение к тому, что называется общественным мнением. Столкновения страстей позволяют тогда каждому пренебрегать им. Между тем люди по большей части до такой степени мало живут внутренней жизнью, что у них очень редки случаи обращения к своей совести. В спокойные эпохи для обыкновенных и повседневных поступков совесть довольно удачно заменяется общественным мнением; но каков же способ подчиняться ему, когда оно постоянно способно осудить тебя на смерть? Самый правильный способ – считаться только с совестью, которой нельзя никогда безнаказанно пренебрегать. Совесть моя и моего мужа ни в чем не упрекает нас.
Полная потеря состояния, опыт, сам ход событий, умеренное и законное желание благосостояния привели Ремюза к тому, что в 1802 году он искал какого бы то ни было места. В то время наслаждаться отдыхом, какой доставил Франции Бонапарт, ввериться надеждам, какие позволял он питать, – значило, конечно, ошибаться, но ошибаться вместе со всеми. Верность предвидения – удел очень немногих. А если бы Бонапарт, после своей вторичной женитьбы, сохранил мир и употребил часть армии для защиты границ, кто осмелился бы сомневаться в прочности его могущества и в силе его прав? Бонапарт правил Францией по ее собственному согласию. Это факт, который могут отрицать в наши дни только слепая ненависть и наивная гордость. Он правил для нашего несчастья, но и для нашей славы. Соединение этих двух слов более естественно в известном состоянии общества, чем это думают, по крайней мере, когда речь идет о военной славе.
Когда он достиг консульства, все вздохнули свободно. Сначала он овладел доверием; мало-помалу явились причины для беспокойства, но люди были уже связаны. Наконец, он заставил содрогаться великодушных людей, которые в него верили, и мало-помалу довел истинных граждан до того, что они желали его падения, даже с риском ущерба лично для себя. Вот наша история, моя и господина Ремюза; и в ней нет ничего унизительного.
Никто никогда не узнает, как я страдала в последние годы тирании Бонапарта. Нет никакой возможности изобразить, с каким беспристрастным доверием я желала возвращения короля, который, в моем воображении, должен был вернуть нам покой и свободу. Я предчувствовала все мои личные невзгоды, Ремюза предвидел это еще лучше, чем я; нашими желаниями мы разрушали будущее наших детей, но это будущее, которому надо было принести в жертву благороднейшие чувства, не вызывало у нас жалоб: страдания Франции в то время слишком громко говорили за себя, – позор тем, кто их не слышал!
Как бы там ни было, мы служили Бонапарту, мы даже любили его и восхищались им, из гордости или из ослепления, – мне не трудно признаться в этом. Мне кажется, что никогда не тяжело признаться в истинном чувстве. Я не стыжусь своих тогдашних взглядов, которые противопоставляют взглядам другого времени. Мой ум не таков, чтобы никогда не ошибаться, я знаю: то, что я чувствовала, я чувствовала всегда искренно; этого мне достаточно перед Богом, перед моим сыном, перед друзьями, перед самой собой.
Однако теперь я ставлю себе довольно трудную задачу, потому что должна вернуться после множества сильных и живых впечатлений к той эпохе, когда я их получила; эти впечатления, подобно памятникам, которые находят в полях разбитыми и разрушенными пожаром, не имеют уже ни базы, ни общей связи. В самом деле, что можно представить себе более опустошенного, чем живое воображение в столкновениях с глубокими волнениями, ставшими вдруг совершенно чуждыми? Конечно, было бы благоразумней и особенно удобней присутствовать при событиях только с холодным любопытством; кто не волнуется, тот всегда готов ко всяким переменам. Но никто по собственной воле не может уклониться от страданий. Всякий волен отвернуться, но нельзя не отметить, что взгляд оказался затронут тем, на что пришлось обратить его вследствие стольких непредвиденных обстоятельств.
То, что я наблюдала в течение двадцати лет, убедило меня в одном: из всех человеческих слабостей эгоизм руководит поведением с наибольшим благоразумием. Он нисколько не поражает общество, способное примиряться с тем, что ровно и тускло; он всегда предвидит несогласованность поступков; он довольно легко может прикрываться внешней разумностью для тех, кто видит, как он действует. Однако какое благородное сердце согласилось бы купить свой покой такой ценой? Нет-нет, лучше рисковать быть сильно затронутым, даже потрясенным во всем своем существе. Нужно примириться со случайными суждениями, которые произносятся людьми мимоходом. Какое утешение в словах, которые нужно стараться повторять себе беспрестанно: «Если меня ввели в заблуждение увлекательные ошибки, по крайней мере мной не руководили мои собственные интересы, и если я желал счастья, то только такого, какое не стоило бы ни одного вздоха моей родине».
Начиная эти мемуары, я опишу, насколько возможно коротко, все то, что касалось нас лично до нашего появления при дворе Первого консула. Впоследствии, может быть, мне придется вернуться подробнее к моим впечатлениям. Нельзя ожидать от женщины рассказа о политической жизни Бонапарта. Если он казался таинственным для всех, кто его окружал, таинственным до такой степени, что часто в самых интимных покоях дворца не знали того, о чем узнавали, возвратясь в Париж, то тем более я, столь молодая в течение первых лет жизни в Сен-Клу, могла понять только разрозненные факты – через долгие промежутки времени. Я расскажу по крайней мере о том, что видела, или, как мне казалось, видела, и не моя вина, если эти рассказы будут не всегда так же верны, как искренни.
Мне было двадцать два года, когда я была назначена придворной дамой госпожи Бонапарт. Выйдя замуж шестнадцати лет, я была счастлива до той поры благодаря спокойной жизни, полной привязанностей. Ужасы революции, смерть моего отца под ударами революционной секиры 1794 года, потеря нашего состояния, склонности моей матери, выдающейся женщины, – все это держало меня вдали от света, который я мало знала и в котором нисколько не нуждалась. Вырванная вдруг из этого мирного одиночества, чтобы быть выброшенной на самую странную арену, и не пройдя школы общества, я была сильно поражена таким резким переходом; на моем характере навсегда отразилось впечатление, какое я получила от этого. Близ горячо любимых мужа и матери я привыкла вполне отдаваться порывам сердца, а позднее, вблизи Бонапарта, я приучилась интересоваться только тем, что меня сильно затрагивало. Вся моя жизнь была и останется навсегда чуждой праздности высшего света.
Мать моя воспитывала меня очень заботливо; образование завершил мой муж, культурный и просвещенный человек, который был старше меня на шестнадцать лет. Я была по натуре серьезна, что всегда соединяется у женщин с некоторой склонностью немного увлекаться. Вместе с тем в первое время моей жизни около госпожи Бонапарт и ее супруга я была одушевлена чувством благодарности. Судя по тому, что о них теперь известно и что я раньше писала об их самой интимной стороне, это значило быть готовой ко многим разочарованиям, и, действительно, их было немало.
Я уже говорила о том, каковы были наши отношения с госпожой Бонапарт во время египетской экспедиции. С этих пор мы ее потеряли из виду до того момента, когда моя мать, желавшая выдать замуж мою сестру за одного из наших родственников, возвратившегося тайно и еще считавшегося в списке эмигрантов, обратилась к ней, чтобы добиться от нее возвращения. Дело было вскоре улажено. Госпожа Бонапарт старалась умелой благожелательностью приблизить к своему супругу лиц известного класса, которые были еще настороже по отношению к нему. Она пригласила мою мать и Ремюза прийти однажды вечером к ней, чтобы лично поблагодарить Первого консула. Было немыслимо и думать об отказе.
Итак, однажды вечером мы отправились в Тюильри; это было немногим позже дня, когда Бонапарту показалось необходимым водвориться там [19 февраля 1800 года], того дня, когда, как я это позднее узнала от его жены, он со смехом сказал ей, ложась спать: «Ну, маленькая креолка, иди ложись в постель твоих господ».
Мы нашли Наполеона в большой гостиной в нижнем этаже, – он сидел на диване; около него я увидела генерала Моро, с которым он, по-видимому, вел серьезный разговор. И тот и другой в то время старались жить дружно. Приводили даже очень любезные слова, сказанные Бонапартом в том благожелательном тоне, который был ему мало свойствен. Он заказал пару роскошных пистолетов, на которых золотом были выгравированы все битвы Моро. «Простите, – сказал Бонапарт, подавая их ему, – если они недостаточно украшены: названия ваших побед заняли все свободное место».
В этой гостиной находились министры, генералы, женщины, почти все молодые и красивые: госпожа Луи Бонапарт, госпожа Мюрат, которая только что вышла замуж и показалась мне очаровательной, госпожа Маре[20]20
Мари-Мадлен Маре (урожд. Лежеас), жена Юга Бернара Маре, герцога де Бассано.
[Закрыть], в то время необыкновенно прекрасная, – она как раз наносила свой свадебный визит. Госпожа Бонапарт держалась среди этого кружка с очаровательной грацией, она была изысканно одета, во вкусе, который приближался к античному. Это была мода того времени, когда художники имели довольно большое влияние на обычаи общества.
Первый консул встал, чтобы принять наши приветствия, и после нескольких неопределенных слов снова сел, чтобы больше не заниматься дамами, которые находились в салоне. Признаюсь, что в этот раз я была менее занята им, чем роскошью и необыкновенным изяществом, которые сразу же бросились мне в глаза.
С этих пор мы имели обыкновение время от времени появляться в Тюильри. Мало-помалу нам внушили идею, что Ремюза может получить какое-нибудь место, которое помогло бы нам вернуть кое-что из утраченного имущества. Ремюза, бывший до революции магистратом, хотел снова получить видное положение. Боязнь огорчить меня, разлучив с матерью и отдалив от Парижа, привела к тому, что он попросил место в Государственном совете, избегая префектур. Но тогда мы не знали хорошо всего того, что составляет правительство.
Мать моя не раз говорила о нашем положении госпоже Бонапарт. Госпожа Бонапарт мало-помалу начала питать ко мне симпатию, у моего мужа она находила приятные манеры и вдруг возымела идею приблизить нас к себе. Почти в то же время моя сестра, которая не вышла замуж за того родственника, о котором я говорила, обвенчалась с Нансути, бригадным генералом, племянником госпожи Монтессон, очень уважаемым в армии и в обществе. Эта свадьба сблизила нас с консульским правительством, а месяц спустя госпожа Бонапарт предупредила мою мать, что надеется на скорое назначение Ремюза префектом дворца. Я обойду молчанием разнообразные волнения, какие вызвало в моей семье это известие. Лично я была очень испугана. Ремюза скорее примирился, чем обрадовался, и, как человек вполне добросовестный, сейчас же после своего назначения занялся всеми мельчайшими деталями своей новой службы.
Немного времени спустя я получила следующее письмо от Дюрока, гофмаршала двора:
«Милостивая государыня.
Первый консул избрал вас для представительства во дворце при госпоже Бонапарт.
Личное знакомство с вашим характером и принципами дает ему уверенность в том, что вы исполните это с обычной вежливостью, которой отличаются французские дамы, и достоинством, которое подобает правительству. Я счастлив, что мне поручено передать вам это выражение его уважения и доверия.
Примите уверения в совершенном почтении».
Таким образом мы оказались при этом странном дворе. Хотя Бонапарт всякий раз обнаруживал гнев, когда осмеливались не верить искренности его слов, которые тогда были вполне республиканскими, однако каждый день он придумывал какие-нибудь новости, которые вскоре придали месту, где он жил, большое сходство с дворцом государя. Личный вкус склонял его к некоторого рода представительству, лишь бы оно не стесняло его привычек, но окружающих он давил игом церемониала. Впрочем, Бонапарт был убежден, что французов можно победить внешним блеском. Очень просто одетый, он требовал от военных большой роскоши в обмундировании. Он уже создал определенное расстояние между собой и двумя другими консулами. В правительственных актах, употребляя выражение «по приговору консулов» и т. п., он помещал только свою подпись; он один содержал двор в Тюильри или в Сен-Клу, принимал послов с церемониями, принятыми у королей, показывался на публике только в сопровождении многочисленной охраны, позволяя при этом своим коллегам иметь только двух гренадеров перед экипажами; и, наконец, Бонапарт начал создавать своей жене положение в государстве.
В первые минуты мы очутились в довольно затруднительной ситуации. Генералы и адъютанты, которые окружали Бонапарта, гордились своей военной славой и правами, которые она давала. Они готовы были поверить, что все отличия должны принадлежать исключительно им.
Между тем консул, ценивший всякого рода победы и имевший тайный план приблизить к себе все классы общества, мало-помалу раздражал этих военных, привлекая к себе милостями представителей других профессий. Притом Ремюза, как человек умный, замечательно образованный, чудесно слушающий и умеющий прекрасно отвечать, превосходящий своих коллег умением вести разговор, был быстро выдвинут своим господином, умеющим открыть в каждом то, что ему было полезно. Бонапарт был не прочь, чтобы за него знали то, чего он сам не знал. Он нашел у моего мужа знание известных обычаев, которые хотел бы восстановить, верный такт при различных обстоятельствах, привычки хорошего общества. Бонапарт быстро излагал ему свои проекты, Ремюза тотчас же его понимал и так же быстро ему служил. Эта необычная манера нравиться ему сначала вызвала некоторое неудовольствие у военных, они предчувствовали, что не будут больше единственными, кого выделяют, и что от них потребуют, чтобы они отказались от грубой внешности, приобретенной на поле битвы; наше присутствие беспокоило их.
Со своей стороны, несмотря на молодость, я была развитее их жен. Большинство моих подруг, мало знающих общество, робких и молчаливых, в присутствии Первого консула испытывали только скуку и страх. Что касается меня, то, как я уже говорила, будучи оживленной и впечатлительной, легко возбуждаемой новыми идеями, склонной к умственным удовольствиям, я вскоре понравилась моему новому властелину, поскольку стала находить удовольствие слушать его.
Притом госпожа Бонапарт любила меня как женщину, ею избранную; ей льстило, что она достигла по отношению к моей матери, которую уважала, преимущества привязать к себе особу из видной семьи. Она выражала мне доверие. Я была нежно привязана к ней. Вскоре госпожа Бонапарт начала поверять мне свои личные тайны, которые я хранила в полном секрете. Хотя я могла быть по возрасту ее дочерью, я часто была в состоянии дать ей добрый совет, так как привычки уединенной и нравственной жизни рано дают знакомство с ее серьезной стороной.
Мы с мужем тотчас же оказались на виду, и это надо было заставить простить нам. До известной степени мы достигли этого, сохраняя простоту, держась в границах вежливости и избегая всего того, что могло бы заставить думать, будто мы хотим создать из доброго к нам отношения возможность влияния.
Ремюза жил среди этого ощетинившегося двора с простотой и добродушием. Что же касается меня, то я была достаточно счастлива, чтобы отнестись к себе справедливо и не выражать претензий, которые особенно задевают женщин. Большинство моих подруг были красивее меня, некоторые – очень красивы; они были окружены большой роскошью. Мое лицо, которое только молодость делала приятным, обычная простота моего костюма предупредили их о том, что они имеют надо мной преимущество во многих отношениях. Вскоре между нами как будто установилось нечто вроде безмолвного соглашения: они будут очаровывать взоры Первого консула, когда мы окажемся в его присутствии, а я постараюсь нравиться его уму, поскольку у меня самой его хватит. И я уже говорила, что в этом отношении дело было только в том, чтобы уметь его слушать.
Молодая женщина двадцати двух лет не может быть особенно проникнута политическими идеями. В то время у меня не было ни малейшего партийного духа. Я не рассуждала о том, имеет ли Бонапарт больше или меньше прав на власть, когда повсюду говорили, что он достойно ее применяет. Ремюза, вверяясь ему почти со всей Францией, отдавался надеждам, которые тогда возможно было питать. Каждый, кто чувствовал негодование и отвращение к ужасам революции, охотно верил, что правительство предохранит нас от реакции якобинцев, и приветствовал его установление как новую эру для родины. Те применения свободы, к которым прибегали неоднократно, внушили по отношению к ней нечто похожее на отвращение, естественное, но малообоснованное, так как, говоря по правде, свобода всегда исчезала, как только злоупотребляли ее именем, чтобы только разнообразить способы тирании. Но, в общем, во Франции желали только покоя и возможности свободно упражнять ум, развивать некоторые частные добродетели и поправить мало-помалу перенесенные потери состояний.
Я не могу без стеснения сердца подумать об иллюзиях, которые тогда переживала. Я сожалею о них, как сожалеют о светлых грезах жизненной весны, той поры, когда, по выражению самого Бонапарта, на все предметы смотришь сквозь золотистую дымку, которая и делает их блестящими и легкими. Мало-помалу, говорил он, эта дымка сгущается до того, что становится почти совсем черной. Увы! Он сам не замедлил сделать кровавой ту вуаль, сквозь которую Франция любила смотреть на него.
Итак, осенью 1802 года я появилась в Сен-Клу, где находился тогда Первый консул. Все мы, четыре дамы[21]21
Госпожа де Талуэ, де Люрсе, де Лористон и я.
[Закрыть], поочередно проводили одну неделю близ госпожи Бонапарт. Так же организована была и служба префектов дворца, генералов гвардии, лейтенантов. Гофмаршал двора Дюрок жил в Сен-Клу; он содержал дворец в необыкновенном порядке; мы обедали у него. Консул обедал один со своей женой; два раза в неделю он приглашал членов правительства; раз в месяц в Тюильри происходили званые обеды на сто персон, которые давали в зале Дианы; после них принимали всех, кто занимал место сколько-нибудь выдающееся в военной или гражданской службе, а также выдающихся иностранцев.
В течение зимы 1803 года мы были в мирных отношениях с Англией, и это привлекло в Париж большое количество англичан. Так как их нечасто там видели, они возбуждали всеобщее любопытство.
На этих блестящих собраниях демонстрировалась необыкновенная роскошь. Первый консул любил, чтобы дамы были хорошо одеты, и из расчета или из личного вкуса побуждал к этому свою жену и сестер. Госпожа Бонапарт, госпожа Баччиокки[22]22
Элиза Бонапарт (1777–1820) – в замужестве Баччиокки, великая герцогиня Тосканская, княгиня Луккская и Пьомбинская, старшая из сестер Наполеона.
[Закрыть] и госпожа Мюрат (госпожа Леклерк жила в это время в Сан-Доминго[23]23
Полина Бонапарт (1780–1825) – средняя и самая любимая сестра Наполеона. В Сан-Доминго ее мужа, генерала Леклерка, отправили в 1802 году на подавление Гаитянской революции.
[Закрыть]) были ослепительны. Различные униформы давались различным полкам, мундиры были богаты; и вся эта пышность, последовавшая за временами, когда выставление напоказ отвратительной грязи соединялось с аффектацией гражданской добродетели, эта пышность казалась еще одной гарантией против возвращения пагубного режима, о котором не забыли.
Мне кажется, что костюм Первого консула в ту эпоху достоин описания. В обыкновенные дни он носил один из мундиров своей гвардии; но для него и для обоих его коллег было установлено, что во время больших церемоний они все трое надевают красные костюмы, вышитые золотом, зимой из бархата, летом из легких тканей. Оба консула, Камбасерес и Лебрен, пожилые, в париках, со строгими манерами, носили эти блестящие одежды с кружевами и шпагами, как прежде носили обыкновенные костюмы. Бонапарт, которого этот наряд стеснял, старался как можно чаще избегать его. Волосы у него были остриженные, короткие, прямые и довольно плохо причесанные. При этом костюме, красном с золотом, он сохранял черный галстук, кружевное жабо на рубашке, иногда белый жилет, вышитый серебром, чаще форменный жилет, форменную шпагу, а также панталоны, шелковые чулки и сапоги. Этот костюм и его маленький рост придавали ему очень странный вид, над которым, однако, никто не осмеливался смеяться. Когда Бонапарт стал императором, ему сделали костюм для церемоний, с маленькой мантией и шляпой с перьями, который ему шел чрезвычайно. Император присоединил к нему великолепную цепь ордена Почетного легиона, усыпанную бриллиантами, а в обыкновенные дни продолжал носить только серебряный крест.
Я вспоминаю, что накануне его коронования новые маршалы, которых он назначил за несколько месяцев до этого, явились к нему на прием, одетые в прекрасные костюмы. Эти костюмы, выставленные напоказ, в противоположность простому мундиру, который был на Наполеоне, заставили его улыбнуться. Я находилась в нескольких шагах от него, и он, так как видел, что я тоже улыбаюсь, сказал: «Право быть просто одетым не принадлежит всем». Несколько минут спустя маршалы армии заспорили об установлении старшинства и попросили императора определить порядок их рангов в церемонии. В сущности, их претензии опирались на довольно громкие титулы, так как каждый из них перечислял свои победы. Бонапарт слушал их, и его забавляло встречать мои взгляды. «Мне кажется, – сказала я ему, – что вы сегодня как будто топнули ногой на Францию, говоря: «Пусть все тщеславия выйдут из-под земли!» – «Это правда, – отвечал он, – но дело в том, что очень удобно управлять французами посредством тщеславия»»[24]24
Отец мой, родившийся в 1797 году, был совсем ребенком в эпоху, описываемую в этих мемуарах. Он сохранил, однако, очень точное воспоминание об одном визите, который его мать заставила его сделать во дворец, и вот как он о нем рассказывал: «По воскресеньям меня водили иногда в Тюильри, чтобы я мог видеть из окна в комнате прислуги смотр войска. Большая гравюра Изабе дает точное представление о том, что было особенно любопытного в этом зрелище. Однажды после парада мать моя пришла за мной (кажется, она провожала госпожу Бонапарт до дверей Тюильри) и взошла со мной на лестницу, наполненную военными, которых я рассматривал не спуская глаз. Один из них заговорил с ней. «Кто это такой?» – спросил я, когда он прошел. Это был Луи Бонапарт. Потом я увидел молодого человека в очень известной форме флигельмана (флангового солдата). Что касается этого, то мне не нужно было спрашивать его имя: дети того времени различали значки чинов и корпусов армии, а кто не знал, что Евгений Богарне был полковником флигельманов?
Наконец мы дошли до салона госпожи Бонапарт. Там находились только она, одна или две дамы и мой отец в красном костюме, вышитом серебром. Меня поцеловали, вероятно, нашли, что я вырос, и больше мной не занимались. Вскоре вошел офицер из консульской гвардии. Он был маленького роста, худ, держался плохо, или, по крайней мере, небрежно (не стесняясь). Я был достаточно приучен к этикету, чтобы найти, что он много двигается и поступает бесцеремонно. Между прочим я был поражен, видя, что он уселся на ручку кресла и оттуда, издали, говорил с моей матерью. Мы были как раз напротив него, и я заметил его исхудалое лицо, почти истощенное, с оттенком желтоватым и бурым. Вдруг он взял меня за оба уха и потянул довольно сильно. Он сделал мне больно, и, если бы это было не во дворце, я закричал бы. Потом, обращаясь к моему отцу, он спросил: «Учит ли он математику?» Вскоре меня увели. «Кто же этот военный?» – спросил я свою мать. – «Это Первый консул!»»
Таков дебют моего отца в жизни придворного. Впрочем, он видел императора еще только один раз при подобных же обстоятельствах, будучи ребенком (П.Р.).
[Закрыть].
Но вернемся назад. В первые месяцы моего пребывания частью в Сен-Клу, частью в Париже, в течение всей зимы, жизнь казалась мне довольно приятной. Дни проходили в правильном порядке. Утром, около восьми часов, Бонапарт покидал постель жены, чтобы пройти в свой кабинет; в Париже он возвращался к ней, чтобы позавтракать; в Сен-Клу он завтракал один и часто на террасе, которая примыкала к этому кабинету. Во время этого завтрака он принимал артистов, актеров комедии; тогда Первый консул разговаривал охотно и добродушно. Потом он до шести часов занимался общественными делами. Госпожа Бонапарт оставалась у себя, принимая в течение всего утра бесконечное количество визитеров, особенно женщин: тех, мужья которых были связаны с правительством, или тех, которые называли себя дамами старого порядка, не хотели поддерживать отношения (или делали вид, что не хотят) с Первым консулом, но добивались от его жены возвращения или восстановления прав. Госпожа Бонапарт всех принимала с очаровательной любезностью; она все обещала и отпускала всех удовлетворенными. Поданные петиции время от времени терялись, но ей подавали другие, и она, казалось, никогда не уставала всех выслушивать.
В шесть часов в Париже обедали; в Сен-Клу совершали прогулку: консул – в коляске со своей женой, мы – в других экипажах. Братья Бонапарта, Евгений Богарне, его сестры могли появиться во время обеда. Иногда приезжала госпожа Луи Бонапарт, но она никогда не ночевала в Сен-Клу. Ревность мужа и его необыкновенное недоверие делали ее робкой и довольно печальной уже в то время. Раза два в неделю присылали маленького Наполеона, того, который умер позднее в Голландии[25]25
Речь идет о маленьком Наполеоне Шарле Бонапарте (1802–1807) – старшем сыне Гортензии Богарне и Луи Наполеона; это был любимец Наполеона, который не раз выражал желание усыновить ребенка, много играл с ним и был к нему искренне привязан.
[Закрыть]. Бонапарт, казалось, любил этого ребенка и связывал с ним надежды на будущее. Может быть, только из-за этого он и отличал его. Талейран рассказывал мне, что, когда известие о его смерти пришло в Берлин, Бонапарт был так мало тронут, что готов был показаться публично, но Талейран поспешил сказать ему: «Вы забываете, что в вашей семье случилось несчастье и вы должны иметь несколько печальный вид». – «Я не нахожу удовольствия в том, чтобы думать о мертвых», – отвечал ему Бонапарт[26]26
Вот письма, которые писал император по поводу смерти этого ребенка в мае 1807 года. Он был в Финке штейне и писал императрице Жозефине: «Я понимаю все горе, какое должна тебе причинить смерть бедного Наполеона; ты можешь понять мое огорчение. Я хотел бы быть около тебя, чтобы ты была сдержанна и благоразумна в своем горе. Ты счастлива тем, что никогда не теряла детей; но это одно из условий и одно из страданий, связанных с нашими человеческими несчастиями. Как бы я хотел узнать, что ты была благоразумна и что ты хорошо себя чувствуешь! Хотела ли бы ты усилить мое огорчение? До свидания, друг мой».
Несколько дней спустя, 20 мая, он писал голландской королеве: «Дочь моя, все, что я узнаю из Гааги, заставляет меня думать, что вы неблагоразумны. Как ни законно ваше горе, оно должно иметь пределы. Не губите вашего здоровья, развлекайтесь и знайте, что жизнь усеяна такими подводными камнями и может быть причиной таких страданий, что смерть еще не самое большое из них».
В тот же день он писал Фуше: «Потеря маленького Наполеона для меня очень чувствительна. Я бы хотел, чтобы его отец и мать получили от природы столько же мужества, как и я, чтобы уметь переносить все страдания в жизни. Но они моложе меня и менее могли размышлять о непрочности всего в здешнем мире».
[Закрыть].
Было бы любопытно сопоставить эти слова с прекрасной речью Фонтана[27]27
Луи Марселей де Фонтан (1757–1821) – французский поэт и политический деятель.
[Закрыть], которому было поручено говорить над прусскими знаменами, торжественно принесенными в Дом Инвалидов. Он так хорошо, так красноречиво напомнил о величественной скорби победителя, который забывает блеск своих побед, проливая слезы о смерти ребенка!
После обеда консула нас предупреждали, что мы можем подняться наверх. В зависимости от того, был ли он в хорошем или дурном настроении, разговор затягивался, продолжался более или менее долго. Затем консул исчезал, и обыкновенно его больше не видели. Он возвращался к работе, давал несколько частных аудиенций, принимая некоторых министров, и обыкновенно рано ложился спать. Госпожа Бонапарт играла, чтобы закончить вечер. Между десятью и одиннадцатью часами ей говорили: «Мадам, Первый консул в постели», – и тогда она нас покидала.
У нее и повсюду вокруг них царило полное молчание по поводу политических дел. Дюрок, Маре, тогда государственный секретарь, частные секретари были совершенно непроницаемы. Большинство военных, как мне кажется, чтобы избежать разговоров, воздерживались даже от того, чтобы думать; в общем, в привычках этой жизни не на что было тратить ум.
Так как я прибыла ко двору, будучи совершенно незнакомой с большими и маленькими страхами, которые Бонапарт внушал тем, кто давно его знал, то не испытывала перед ним такого стеснения, как другие. Мне не казалось нужным подчиняться системе односложных фраз, которая была принята всеми в доме религиозно, если можно так выразиться, а может быть, в достаточной мере осторожно. Однако это повело к тому, что я приобрела смешной вид, о котором сначала не подозревала, но который надо было под конец уже скрывать. Дальше будет видно, что это не так легко было сделать.
Однажды вечером, когда Бонапарт говорил о таланте Порталиса-отца, работавшего тогда над Гражданским кодексом, Ремюза сказал, что Порталиса особенно развило изучение Монтескье, которого он читал и изучал как катехизис. Первый консул, обращаясь к одной из моих подруг, заметил, смеясь: «Держу пари, что вы даже не знаете, кто такой Монтескье!» – «Простите, – отвечала она, – кто не читал «Le Temple de Grade»…»[28]28
«Le Temple de Gnide» («Книдский храм») – одно из малоизвестных сочинений Монтескье, стилизованная поэма в прозе.
[Закрыть] – При этих словах Бонапарт громко расхохотался, и я не могла удержаться от улыбки. Он взглянул на меня и спросил: «А вы, сударыня?» Я отвечала, естественно, что не знаю ничего о «Temple de Gnide», что читала «Рассуждение» о римлянах, но думаю, что ни тот ни другой труд не были катехизисом, о котором говорил Ремюза. «Черт побери! – сказал мне Бонапарт. – Да вы ученая!» Этот эпитет сконфузил меня, и я почувствовала, что рискую сохранить его за собой.
Минуту спустя госпожа Бонапарт заговорила о какой-то трагедии, которую тогда давали. Первый консул припомнил по этому поводу современных авторов и заговорил о Дюси, которого недолюбливал. Сначала Бонапарт огорчался, что наши поэты-трагики так посредственны, а потом прибавил, что больше всего на свете желал бы вознаградить автора прекрасной трагедии. Я решилась сказать, что Дюси испортил «Отелло» Шекспира[29]29
Дюси задался мыслью ввести Шекспира на французскую сцену и с этой целью переделал «Гамлета», «Отелло», «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», руководствуясь переводами Лапласа и Летурнера (сам он не знал английского языка).
[Закрыть]. Это длинное английское имя в моих устах произвело известный эффект на нашу галерею из эполет, молчаливую и внимательную. Бонапарту не очень нравилось, когда хвалили что-нибудь, принадлежащее англичанам. Мы немного поговорили: со своей стороны, я держалась в разговоре направления вполне обычного, но я назвала Шекспира, я возражала консулу, я хвалила английского автора, – какая дерзость! Какое чудо учености! И я была вынуждена несколько дней после этого молчать или вести ничего не значащие разговоры, чтобы исправить впечатление от превосходства, которое, между тем, так скоро причинит мне затруднение.
Когда я покидала дворец и возвращалась к своей матери, то довольно часто встречала там немало милых женщин и выдающихся людей, которые вели очень интересные разговоры, и я улыбалась про себя, сравнивая эти отношения с теми, которые были при дворе.
Но эта привычка к почти полному молчанию предостерегала нас, по крайней мере в ту эпоху, от того, что называют в свете сплетнями. Женщины совершенно не были кокетливы, мужчины были постоянно заняты исполнением своих обязанностей, а я обманывалась относительно нравственных привычек Бонапарта, которые я у него предполагала. Казалось, он очень любит свою жену; казалось, она его удовлетворяла. Однако вскоре я заметила в ней беспокойство, которое меня удивило. Она была очень склонна к ревности. Мне думается, что не любовь была тут главной причиной. Для нее была большим несчастьем невозможность дать своему супругу детей; иногда он выражал по этому поводу сожаление, и тогда она дрожала за свое будущее. Семья консула, всегда возбужденная против Богарне, подчеркивала это обстоятельство. Все это вызывало мимолетные бури. Иногда я заставала госпожу Бонапарт в слезах, и тогда она изливала горькие жалобы на своих деверей, на госпожу Мюрат и Мюрата, которые старались упрочить свое влияние, возбуждая у консула мимолетные фантазии. Я уговаривала госпожу Бонапарт оставаться спокойной и благоразумной.









































