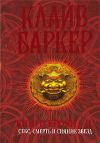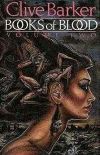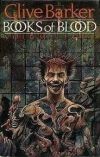Текст книги "Книги крови. Запретное"

Автор книги: Клайв Баркер
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– А сами вы как думаете?
– Ну, если так… Я думаю, что они теряют голову.
– То есть?
– Мозговая перегрузка какого-то рода. У них мозги просто-напросто сдают. Видите ли, этот препарат не выводится из организма, а подпитывает сам себя. Чем больше они распаляются, тем больше препарата производит мозг, а чем больше он его производит, тем больше они распаляются. Такой порочный круг. Все жарче и жарче, яростней и яростней. Наконец организм больше не может вынести этого, и – оп! Я стою по колено в дохлых мартышках. – В холодном сухом голосе вновь послышалась улыбка. – Остальные не позволяют себе расстраиваться по этому поводу. Сейчас у них в моде некрофилия.
Карнеги глотнул остывшего шоколаду. На поверхности жидкости собралась маслянистая кожица, которая треснула, когда он качнул чашку.
– Так это просто дело времени? – спросил он.
– Что наш парень свалится? Да, думаю, что так.
– Ладно. Спасибо за сведения. Держите меня и дальше в курсе.
– Не хотите спуститься и поглядеть на останки?
– Обойдусь без обезьяньих трупов, благодарю вас.
Йоханссон рассмеялся. Карнеги положил трубку.
Когда он вновь повернулся к окну, на город уже спустилась ночь.
В лаборатории Йоханссон подошел к двери, чтобы повернуть выключатель – пока он говорил с Карнеги, последний дневной свет угас и стало совсем темно. Он увидел занесенную для удара руку лишь на секунду раньше, чем она опустилась, удар пришелся на основание шеи. Один из позвонков треснул, ноги подкосились. Он упал, так и не дотянувшись до выключателя. К тому времени, когда он ударился о пол, разница между ночью и днем была чисто академической.
Веллес не потрудился остановиться и проверить, был ли этот удар смертельным, – для этого у него было слишком мало времени. Он перешагнул через тело и поспешил к столу, за которым работал Йоханссон. Там в кругу света от лампы, точно в финальной сцене какой-то обезьяньей трагедии, лежала мертвая мартышка. Она была безумно истощена – опухшее лицо, оскаленный рот, глаза, закатившиеся от смертной тревоги. Шерсть обезьяны была выдернута пучками во время многочисленных половых актов, распростертое тельце – все в синяках. У Веллеса ушло секунд тридцать, чтобы определить причину смерти этого животного и двух других, которые лежали на соседнем лабораторном столе.
– Любовь убивает, – прошептал он философски и начал методичную деятельность по уничтожению всех материалов проекта «Слепой мальчик».
«Я умираю, – подумал Джером. – Я умираю от патологического счастья». Мысль понравилась ему. Это была единственная осмысленная фраза, возникшая у него в мозгу. Со времени столкновения с Исайей и последующего побега из полиции он с трудом мог восстановить дальнейшие события. Те часы, когда он просидел в укрытии, залечивая свою рану и чувствуя, как жар растет в нем и высвобождается, слились в один сплошной сон в летнюю ночь, от которого, он знал, его пробудит лишь одна смерть. Жар полностью пожрал его, выел все внутренности. И если его вскроют после смерти, то что найдут? Лишь пепел и золу.
Однако его одноглазый приятель все еще требовал большего, и он направился назад, в лабораторию – куда еще мог вернуться агонизирующий безумец, если не туда, где его впервые захлестнуло жаром? Мошонка по-прежнему пылала огнем, и каждая трещина в стене настойчиво предлагала ему себя.
Ночь была тихой и теплой: ночь для серенад и страсти. В сомнительной интимности парковки за несколько кварталов от цели его путешествия он увидел двоих, занимающихся любовью на заднем сиденье машины, чьи дверцы были распахнуты, чтобы любовники могли устроиться поудобнее. Джером остановился, чтобы понаблюдать действо, как всегда возбуждаясь при виде сплетенных тел и от звука – такого громкого – двух сердец, бьющихся в одном убыстряющемся ритме. Он наблюдал, и желание все сильнее охватывало его.
Женщина заметила его первой и призвала своего партнера прогнать это создание, которое наблюдало за ними с таким детским удовольствием. Мужчина приподнялся над ней, чтобы взглянуть на Джерома. «Горю ли я? – подумал Джером. – Мои волосы наверняка пылают… А может, иллюзия обретает плоть».
Если судить по их лицам, то можно было ответить отрицательно. Они не были ни удивлены, ни напуганы – лишь раздражены.
– Я горю, – объяснил он им.
Мужчина поднялся на ноги и направился к Джерому, чтобы плюнуть в него. Он почти ожидал, что слюна зашипит, как на горячей сковородке, но вместо этого она была прохладной, точно освежающий душ.
– Иди к черту, – сказала женщина, – оставь нас в покое.
Джером покачал головой. Мужчина предупредил его, что, если он не уберется, ему свернут шею. Но Джерома это нисколько не испугало: ни удары, ни слова ничего не значили перед требовательным зовом пола.
Их сердца, подумал он, когда подошел к ним ближе, больше не бились в унисон.
Карнеги разглядывал карту, которая уже на пять лет устарела, пытаясь определить по ней место нападения, о котором ему доложили только что. Ни одна из жертв не получила серьезных повреждений. На парковочную стоянку прибыла целая группа весельчаков, и они спугнули Джерома (а это, без сомнения, был он). Теперь весь район оцепили, большинство полицейских были вооружены, и все улицы неподалеку от места нападения вот-вот будут перекрыты. В отличие от перенаселенного Сохо в этом районе беглецу будет трудно найти себе укрытие.
Карнеги отметил булавкой с флажком место нападения и понял, что оно неподалеку от лаборатории. Наверняка это не было случайностью. Парень возвращался на место первого преступления. Раненый и, без сомнения, на грани срыва – любовники описали его как человека скорее полумертвого, – Джером будет легкой добычей для полиции, прежде чем доберется туда. Но всегда существовал определенный риск, что он ускользнет из сетей и все же проберется в лабораторию. Там до сих пор работал Йоханссон, а охрана была незначительна.
Карнеги подошел к телефону и начал дозваниваться до Йоханссона. Телефон на другом конце провода звонил и звонил, но трубку никто не брал. Он уже ушел, подумал Карнеги, подтвердил все свои предположения и пошел отдыхать – уже ночь, а свой отдых он заработал. Но, когда он уже собрался положить трубку, кто-то поднял ее в лаборатории.
– Йоханссон?
Никто не ответил.
– Йоханссон? Это Карнеги. – Опять молчание. – Ответь мне, черт возьми. Кто это?
В лаборатории трубку не положили на рычаг, а просто бросили на стол. Карнеги слышал лишь голоса обезьянок, пронзительные и визгливые.
– Йоханссон? – повторял Карнеги. – Это ты? Йоханссон?
Отвечали лишь обезьяны.
Веллес устроил в двух раковинах костры из материалов по проекту «Слепой мальчик» и запалил их. Они радостно вспыхнули. Дым, жар, копоть заполнили большое помещение, сгустились в воздухе. Когда огонь как следует разгорелся, он засунул туда все пленки, которые смог отыскать. Некоторые ленты, он отметил, исчезли, однако все, что предполагаемый вор мог на них увидеть, – это несколько путаных сцен превращения подопытного, а суть дела останется неясна. Теперь, когда все дневники и формулы были сожжены, осталось только смыть в раковину остатки препарата и уничтожить животных.
Он приготовил серию шприцев, наполненных смертельной дозой яда, и методично принялся за дело. Эта разрушительная работа его успокоила. Он не жалел о том, как все повернулось. Начиная с первого мига паники, когда он беспомощно наблюдал, как сыворотка «Слепой мальчик» оказывает на Джерома свое чудовищное воздействие, и до этого последнего акта разрушения, все складывалось в один закономерный процесс. Запалив эти огни, он уничтожил все, что было связано с научными изысканиями, – теперь он был апостолом Века Желания, его Иоанном Пустынником. Эта мысль полностью овладела им. Не обращая внимания на протестующие крики обезьян, он вынимал их одну за другой из клетки, чтобы ввести смертельную дозу. Он уже расправился с тремя и открыл клетку, чтобы вынуть четвертую, когда в проеме двери, ведущей в лабораторию, появилась фигура. Воздух был так наполнен дымом, что невозможно было понять, кто это. Однако оставшиеся в живых обезьяны, казалось, узнали его, они прекратили спариваться и приветственно завизжали.
Веллес стоял неподвижно и ждал, когда вошедший подойдет к нему.
– Я умираю, – сказал Джером.
Этого Веллес не ожидал. Из всех людей, которые могли тут оказаться, Джером был на последнем месте.
– Вы слышите меня? – требовательно спросил Джером.
Веллес кивнул.
– Мы все умираем, Джером. Жизнь – это хроническое заболевание, ни больше ни меньше. Но так умирать легче, а?
– Ты знал, что это случится, – сказал Джером. – Знал, что этот огонь выжжет меня.
– Нет, – серьезно ответил Веллес. – Я не знал. Правда.
Джером вышел из дверного проема на смутный свет. Он еле волочил ноги, вид у него был растерзанный – кровь на одежде, в глазах огонь. Но Веллес хорошо знал, что скрывается за этой видимой слабостью. Препарат в организме придавал Джерому нечеловеческую силу, и Веллес сам наблюдал, как тот голыми руками вскрыл грудную клетку Данс. Тут нужно быть осторожным. Джером явно на грани смерти, но все еще был опасен.
– Это не входило в мои намерения, Джером, – Веллес пытался подавить дрожь в голосе. – По-своему, может, я этого и хотел. Но не настолько уж был дальновиден. Для того чтобы узнать, что случится, нужно время и страдание.
Человек напротив не сводил с него горящих глаз.
– Такие огни, Джером, их нужно было зажечь.
– Я знаю… – сказал Джером. – Поверьте… я знаю.
– Ты и я… мы – конец этого мира.
Бедное чудовище какое-то время раздумывало над этими словами, потом медленно кивнуло. Веллес осторожно вздохнул: эта предсмертная дипломатия, кажется, сработала. Но у него не так уж много времени, чтобы тратить его на разговоры. Если Джером пришел сюда, может, власти следуют за ним по пятам?
– Приятель, мне нужно доделать срочную работу, – сказал он спокойно. – Не покажусь ли я невежливым, если займусь этим сейчас?
Не ожидая ответа, он открыл еще одну клетку и выволок обреченную обезьянку, опытным движением введя инъекцию в ее тело. Животное дернулось у него в руках, потом погибло. Веллес оторвал от своей рубашки скрюченные пальчики, кинул тело и пустой шприц на лабораторный стол и экономным движением палача повернулся к следующей жертве.
– Зачем? – спросил Джером, глядя в открытые глаза животного.
– Акт милосердия. – Веллес взял очередной заполненный шприц. – Ты же видишь, как они страдают. – Он потянулся к замку следующей клетки.
– Не надо, – сказал Джером.
– Не время для сантиментов, прошу тебя, давай покончим с этим.
Сантименты, подумал Джером, смутно припоминая песни по радио, которые вновь пробудили в нем пламя. Разве Веллес не понимает, что процессы, происходящие в голове, сердце и мошонке, неразделимы? Что чувства, какими бы примитивными они ни были, могут привести в новые неоткрытые дали? Он хотел рассказать это доктору, описать то, что видел, и все, что полюбил в эти отчаянные часы. Но объяснения потерялись где-то на пути от мозга к языку. Все, что он мог сказать в этом состоянии сочувствия ко всему страдающему миру, было:
– Не надо, – когда Веллес открыл следующую клетку. Доктор не обращал на него внимания и сунул руку за проволочную сетку. Там было трое животных. Он ухватил ближайшего и потащил его, протестующего, прочь от напарников. Без сомнения, животное чувствовало, какая судьба его ожидает: оно пронзительно визжало, охваченное ужасом.
Этого Джером вынести не мог. Он двинулся, хоть рана в боку мучительно болела, чтобы помешать этому убийству. Веллес, обеспокоенный приближением Джерома, выпустил свою жертву, и обезьянка, крича, побежала по поверхности стола. Когда он бросился ее ловить, пленники в клетке у него за спиной воспользовались случаем и выскочили наружу.
– Черт тебя побери! – заорал Веллес на Джерома. – Неужели ты не видишь, что у нас не осталось времени? Ты что, понять не можешь?
Джером все понимал и все же не понимал ничего. Он понимал ту лихорадку, которую делил с животными, и стремление переделать этот мир понимал тоже. Но почему все должно кончиться таким образом? Эта радость, это озарение? Почему все это должно кончиться этой жуткой комнатой, наполненной дымом, страхом и отчаянием, – вот этого он понять не мог. Да и Веллес тоже, хоть и был творцом всех этих противоречий.
Поскольку доктор ухитрился схватить одну из сбежавших обезьянок, Джером быстро подошел к оставшимся клеткам и открыл их – все животные вырвались на свободу. Веллес добился успеха и, держа протестующую обезьянку, потянулся за шприцем. Джером подбежал к нему.
– Оставь ты ее! – заорал он.
Веллес ввел иглу в тело обезьянки, но, прежде чем он успел нажать на поршень, Джером ухватил его за запястье. Шприц выплеснул яд в воздух, потом упал на пол, за ним последовала и освободившаяся обезьянка.
Джером еще ближе подошел к Веллесу.
– Я же говорил тебе, оставь ее, – сказал он.
В ответ Веллес ударил Джерома кулаком в раненый бок. У того из глаз от боли потекли слезы, но доктора он не выпустил. Этот стимул, каким бы он ни был неприятным, не смог заставить Джерома оторваться от чужого сердца, бьющегося так близко. Он хотел запалить Веллеса точно факел, хотел, чтобы плоть творца и творения слились в одном очищающем пламени. Но плоть его была всего лишь плотью, кость – костью. Какие бы чудеса он ни видел – это его личное откровение, и он не успеет объяснить другим ничего ни о радостях своих, ни о печалях. То, что он узрел, умрет вместе с ним, чтобы быть потом вновь созданным (возможно) в ближайшем будущем, и вновь умрет, и вновь возникнет. Как та история любви, про которую толковало радио, о любви потерянной и обретенной, и вновь потерянной. Он глядел на Веллеса в новом озарении, все еще ощущая, как бьется перепуганное сердце ученого. Доктор был неправ. Если он оставит этого человека в живых, тот, возможно, поймет свою ошибку. Они не являлись провозвестниками эры вечного блаженства. Это были только грезы, и грезили они оба.
– Не убивай меня, – молил Веллес. – Я не хочу умирать.
Ну и дурак же ты, подумал Джером, и отпустил Веллеса.
Намерения Веллеса было легко угадать: он не мог поверить, что его мольбы услышаны. С каждым шагом ожидая удара, он пятился от Джерома, который просто повернулся к доктору спиной и вышел.
Снизу раздался крик, потом еще голоса. Полиция, подумал Веллес. Вероятно, они обнаружили тело полицейского, который караулил у двери. Через какое-то мгновение они будут здесь, наверху. У него не осталось времени, чтобы закончить то, что он запланировал. Нужно убираться прочь, прежде чем они появятся здесь.
На первом этаже Карнеги смотрел, как вооруженные полицейские поднимаются по лестнице. В воздухе ощущался запах гари, и он опасался худшего.
Я – человек, который всегда приходит, когда уже все свершилось. Я выхожу на сцену, когда действие уже заканчивается. Как всегда привычный к ожиданию, терпеливый, точно обученная собака, на этот раз он не мог совладать со своим беспокойством, пока остальные продвигались наверх. Не обращая внимания на голоса, которые советовали ему подождать, он начал подниматься по ступеням.
Лаборатория на втором этаже была пуста, если не считать обезьян и трупа Йоханссона. Токсиколог лежал вниз лицом, ему сломали шею. Запасный выход на пожарную лестницу был открыт, и сквозь него просачивался дымный воздух. Когда Карнеги отошел от трупа Йоханссона, несколько полицейских уже стояли на пожарной лестнице и кричали своим напарникам внизу, призывая их на поиски беглеца.
– Сэр?
Карнеги поглядел на приближающегося к нему усатого мужчину.
– Что?
Полицейский показал на дальний конец комнаты: на бокс. Там, в окне, кто-то стоял.
Карнеги узнал его лицо, хотя оно сильно изменилось. Это был Джером. Поначалу он подумал, что Джером наблюдает за ним, но, приглядевшись, убедился, что это не так. Джером со слезами на глазах глядел на собственное отражение в мутном стекле. Пока Карнеги смотрел на него, лицо исчезло в глубине камеры.
Остальные полицейские тоже заметили парня. Они продвигались цепью по лаборатории, занимая позицию за лабораторными столами, их оружие было наготове. Карнеги уже присутствовал при таких ситуациях, там были свои ужасные моменты. Если он не вмешается, прольется кровь.
– Нет, – сказал он, – пока не стреляйте.
Он отодвинул протестующих полицейских и пошел по лаборатории, не пытаясь скрыть свое продвижение. Прошел мимо умывальников, в которых были свалены грудой остатки проекта «Слепой мальчик», мимо лавки, под которой совсем недавно нашел мертвую Данс. Мимо с опущенной головой проползла обезьянка, явно не замечающая его приближения. Он позволил ей найти щель, в которую она могла забиться и умереть там, потом двинулся к двери бокса. Она была незаперта, и он потянул за ручку. За его спиной в лаборатории наступило абсолютное молчание, на него были обращены все глаза. Он резко распахнул дверь. Однако атаки не последовало. Карнеги шагнул внутрь.
Джером стоял у противоположной стены. Если он видел или слышал, как вошел Карнеги, то ничем не выказал этого. У его ног лежала мертвая обезьянка, все еще цепляясь ему за штанину. Другая всхлипывала в углу, спрятав лицо в ладошках.
– Джером?
Вообразил ли это Карнеги, или действительно запахло клубникой?
Джером замигал.
– Ты арестован, – сказал Карнеги.
Хендриксу бы это понравилось, подумал он. Джером отнял от раны в боку свою окровавленную руку и начал поглаживать себя.
– Слишком поздно, – сказал он, почувствовав, как в нем разгорается последнее пламя. Даже если этот пришелец решит подойти к нему и арестовать – что это изменит? Смерть была здесь. Теперь он ясно понимал, что она собой представляет – всего-навсего успокоение, еще одна сладостная темнота, которая ждет своего наполнения и жаждет быть оплодотворенной.
Его промежность охватила судорога, и молния метнулась по телу, пробежала по позвоночнику. Он рассмеялся.
В углу камеры обезьянка, услышав смех Джерома, снова начала всхлипывать. Звук этот на секунду отвлек Карнеги, и когда он снова перевел взгляд на Джерома, то увидел, что близорукие глаза закрылись, руки повисли, и подопытный умер, прислонившись к стене. Какой-то миг тело его стояло, несмотря на закон земного притяжения. Потом ноги подогнулись, и Джером упал вперед. Он был, понял Карнеги, всего лишь мешком с костями, не больше. Просто удивительно, что парень протянул так долго.
Карнеги подошел к телу и приложил палец к шее Джерома. Пульса не было. На лице трупа застыла последняя усмешка.
– Скажи мне… – прошептал Карнеги мертвецу, чувствуя, что момент упущен, что он опять, как всегда, оказался посторонним наблюдателем. – Скажи мне… чему ты смеялся?
Но слепой мальчик, как ему и положено, не отвечал.
Книги крови
Том V
Во плоти
Посвящается Джулии
Запретное
(пер. Романа Демидова)
Как в совершенной трагедии страдающим персонажам незаметно изящество ее построения, так и идеальная геометрия жилого комплекса «Спектор-стрит» была видна только с воздуха. Шагая по его мрачным каньонам, пробираясь по грязным переходам от одной коробки из серого бетона к другой, трудно было отыскать что-то приятное глазу или будящее воображение. Немногочисленные деревца, высаженные в квадратных дворах, давно изувечили или вырвали с корнем; трава, хоть и высокая, решительно отказывалась приобретать здоровый зеленый цвет.
Без сомнения, этот комплекс, как и два соседних, был когда-то мечтой архитектора. Без сомнения, городские планировщики рыдали от счастья при виде проекта, обещавшего уместить по триста тридцать шесть человек на каждом гектаре так, чтобы еще и место для детской площадки осталось. Несомненно, на Спектор-стрит были заработаны богатства и репутации, а на его открытии говорились красивые слова о том, что это образец, на который станут равняться все будущие застройки. Но планировщики – выплакав слезы, произнеся речи – оставили комплекс на произвол судьбы; архитекторы заселились в отреставрированные георгианские особняки на другом конце города и, вероятнее всего, больше ни разу сюда не заглянули.
А если бы и заглянули, царящая здесь разруха не вызвала бы у них никакого стыда. Их детище (как, несомненно, сказали бы они) было таким же блистательным, как и прежде: линии все так же прямы, пропорции все так же выверены; это люди испортили Спектор-стрит. И они были бы правы в своих обвинениях. Хелен никогда еще не видела настолько капитально изуродованного внутригородского района. Фонари были разбиты, ограды дворов повалены; выезды из гаражей заблокированы машинами, у которых сняли колеса и движки, а потом сожгли шасси. В одном из дворов огонь полностью уничтожил три или четыре квартиры на первых этажах; их окна и двери заколотили досками и листами гофрированного металла.
Еще больше ошеломляли граффити. Хелен и пришла сюда затем, чтобы их увидеть, вдохновленная рассказом Арчи об этом месте, и они ее не разочаровали. Трудно было поверить, глядя на множество слоев рисунков, имен, ругательств и изречений, покрывавших каждый доступный кирпич, что Спектор-стрит едва исполнилось три с половиной года. Стены, еще недавно девственно-чистые, теперь оказались настолько обезображены, что коммунальщики не могли и надеяться вернуть им прежний вид. Слой побелки, скрывшей визуальную какофонию, только предоставил бы художникам свежую и тем более манящую поверхность, на которой они могли бы оставить свой след.
Хелен была на седьмом небе. Каждый поворот открывал новый материал для ее диссертации: «Граффити: семиотика урбанистического отчаяния». В этой теме сливались две ее любимые дисциплины – социология и эстетика, – и, блуждая по комплексу, Хелен начала прикидывать, не хватит ли материала, помимо диссертации, еще и на книгу. Она прошла по дворам, переписала кучу любопытнейших цитат и отметила их расположение. Потом сходила к машине за фотоаппаратом и штативом и вернулась к самому урожайному месту, чтобы подробно запечатлеть стены.
Работать было холодно. Хелен не хватало сноровки, а по небу позднего октября неслись тучи, и свет на кирпичах менялся ежесекундно. Пока она настраивала и перенастраивала экспозицию, чтобы компенсировать перемены в освещении, пальцы делались все более неловкими, а терпение, соответственно, все более хрупким. Но она не отступала, не обращая внимания на пустое любопытство прохожих. Нужно было заснять так много рисунков. Хелен напомнила себе, что за теперешнее неудобство ей воздастся сполна, когда она покажет фотографии Тревору, который с самого начала открыто сомневался в состоятельности проекта.
– Письмена на стене? – сказал он с этой своей раздражающей полуулыбкой. – Да о таком писали сотню раз.
Конечно, это была правда; и в то же время – нет. Безусловно, существовали научные труды по граффити, под завязку набитые социологическим жаргоном: «маргинализация культуры»; «урбанистическое отчуждение». Но Хелен тешила себя мыслью, что она сможет найти в этих беспорядочных каракулях что-то, чего не увидели предыдущие аналитики: может, какую-то объединяющую концепцию, которая станет сердцем диссертации. Только неустанная систематизация и поиск перекрестных ссылок в представших перед ней фразах и изображениях могли открыть такую связь; поэтому так важно было все зафиксировать. Здесь работало так много рук; оставило след – пусть и мимоходом – так много личностей: если она сможет отыскать какой-то паттерн, какую-то доминирующую тему или идею, диссертации будет гарантировано серьезное внимание, а значит, и самой Хелен тоже.
– Что вы делаете? – спросил кто-то сзади.
Она вынырнула из своих расчетов и увидела на тротуаре позади себя девушку с коляской. Хелен подумала, что она выглядит усталой и измученной холодом. Ребенок в коляске хныкал, тиская грязными пальчиками оранжевый леденец и обертку от шоколадки. Бо́льшая часть батончика и останки предыдущих конфет были выложены напоказ на его куртке.
Хелен натянуто улыбнулась; кажется, девушке это было нужно.
– Я фотографирую стены, – ответила она на вопрос, хотя любой мог бы это понять с первого взгляда.
Девушка – ей, по прикидке Хелен, едва исполнилось двадцать, – сказала:
– В смысле, эту дрянь?
– Надписи и рисунки, – сказала Хелен. И добавила: – Да. Дрянь.
– Вы из городского совета?
– Нет, из университета.
– Это так мерзко. То, что они делают. Это ведь не только детишки.
– Да?
– Взрослые мужчины. Да, взрослые мужчины. Им на все плевать. Прямо среди бела дня рисуют. У всех на виду… среди бела дня.
Она взглянула на сына, который затачивал леденец о землю.
– Керри! – прикрикнула она, но мальчишка и ухом не повел.
– Это всё смоют? – спросила девушка у Хелен.
– Не знаю, – ответила та и повторила: – Я из университета.
– О, – ответила девушка, как будто услышала об этом в первый раз, – так вы не из совета?
– Нет.
– Правда же, здесь такая похабщина попадается? Ужасная грязь. На некоторые рисунки мне и смотреть стыдно.
Хелен кивнула, бросив взгляд на мальчика в коляске. Керри решил для пущей сохранности запихнуть леденец в ухо.
– Не делай так! – сказала его мать и наклонилась, чтобы шлепнуть ребенка по руке. Удар был едва заметным, но мальчишка разревелся. Хелен воспользовалась случаем, чтобы вернуться к фотоаппарату. Но девушке все еще хотелось поговорить.
– Это ведь не только снаружи, – сообщила она.
– Прошу прощения? – сказала Хелен.
– Они вламываются в опустевшие квартиры. Совет пытался их заколачивать, только это не помогает. Все равно вламываются. Устраивают там туалеты и пишут на стенах всякую дрянь. И еще костры разводят. Так что там никому уже не поселиться.
Хелен стало любопытно. Возможно, граффити на внутренних стенах значительно отличаются от выставленных на всеобщее обозрение? Это определенно стоило проверить.
– А вы не знаете поблизости подобных мест?
– В смысле, пустых квартир?
– С граффити.
– Рядом с нами есть парочка, – охотно сообщила девушка. – Я живу в Баттс-корте.
– Вы можете мне их показать? – спросила Хелен.
Девушка пожала плечами.
– Кстати, меня зовут Хелен Бьюкенен.
– Анна-Мария, – ответила молодая мать.
– Я была бы очень благодарна, если бы вы показали мне одну из таких пустых квартир.
Энтузиазм Хелен привел Анну-Марию в замешательство, и она не стала этого скрывать, однако пожала плечами и сказала:
– Там смотреть-то толком не на что. Все то же самое.
Хелен собрала свое оборудование, и они прошли вместе по пересекающимся проходам между дворами. Хотя жилой комплекс не был высотным – все дома здесь насчитывали по пять этажей, – но вид его, тем не менее, вызывал чудовищную клаустрофобию. Улицы и проходы были мечтой грабителя – они изобиловали слепыми поворотами и плохо освещенными подворотнями. Мусоропроводы – желоба, куда жители верхних этажей могли сбрасывать мешки с отходами, – давно уже запаяли, потому что они легко могли стать причиной пожара. Теперь мешки кучами лежали в проходах, их часто разрывали бродячие собаки, а содержимое разбрасывали по земле. Даже в холодную погоду тут стоял неприятный запах. В разгар лета он, наверное, становился просто невыносимым.
– Я живу напротив, – сказала Анна-Мария, указав на противоположную часть двора. – Там, где желтая дверь.
Потом она ткнула пальцем в другую сторону:
– Пять или шесть квартир от дальнего конца. Две пустуют. Уже несколько недель как. Одна семья переехала в Раскин-корт, другая сбежала посреди ночи.
После этого она повернулась к Хелен спиной и покатила Керри, который затеял пускать слюни на бортик коляски, в обход двора.
– Спасибо, – сказала ей вслед Хелен. Анна-Мария оглянулась, но не ответила. Хелен, воодушевившись, прошла вдоль квартир на первом этаже с отдельными входами; в большинстве из них жили люди, однако понять этого было нельзя. Занавески плотно задернуты, на ступенях не видно ни молочных бутылок, ни игрушек, забытых там, где с ними возились дети. Вообще никаких признаков жизни. Однако граффити действительно были – что поразительно, прямо на дверях жилых квартир. Хелен лишь бегло рассматривала их, отчасти из-за страха, что пока она будет изучать отборное ругательство на двери, та распахнется, но в основном, потому, что ей не терпелось увидеть, какие откровения ожидают ее в пустых квартирах.
Четырнадцатая квартира встретила гостью скверным запахом мочи, как свежей, так и старой, а еще – вонью горелых краски и пластмассы. Целых десять секунд она колебалась, соображая, разумно ли заходить внутрь. Жилой комплекс за спиной был, разумеется, чуждым, тонул в собственной нищете, однако представшие перед ней комнаты пугали еще сильнее: темный лабиринт, куда едва проникал взгляд. Но когда отвага пошатнулась, Хелен вспомнила о Треворе и о том, как сильно ей хотелось покончить с его снисходительностью. С этими мыслями она ступила в квартиру, намеренно отшвырнув пинком обгоревшую деревяшку в надежде, что вынудит здешних обитателей показаться.
Но никаких признаков того, что здесь кто-то живет, не было. Набравшись смелости, Хелен начала обследовать первую комнату, которая – если судить по останкам выпотрошенного дивана в углу и промокшему ковру под ногами – прежде была гостиной. Бледно-зеленые стены, как и обещала Анна-Мария, сильно обезобразили как мелкие писаки – которые спокойно работали ручкой или даже более грубо, мягким углем – так и те, кто, претендуя на интерес публики, раскрасил стены полудюжиной цветов.
Некоторые надписи представляли интерес, хотя многие уже попадались Хелен на стенах снаружи. Повторялись знакомые имена и сцепки. Пусть Хелен в жизни не видела этих людей, она знала, как сильно Фабиану Дж. («Все путем!») хотелось дефлорировать Мишель и что Мишель, в свою очередь, сохла по какому-то мистеру Шину. Здесь, как и много где еще, некто по прозвищу Белая Крыса хвастался размерами своего мужского достоинства, а красная краска обещала возвращение братцев Силлабаб. Особенно любопытна была парочка рисунков, сопутствовавших этим фразам или, по крайней мере, изображенных рядом с ними. Они отличались почти символической простотой. Рядом со словом «Христос» был нарисован схематичный человечек, от головы которого, как шипы, расходились волосы, и на каждом шипе торчало по еще одной голове. Неподалеку кто-то изобразил половой акт, причем так упрощенно, что Хелен сначала подумала, будто художник имел в виду нож, погружающийся в слепой глаз. Но как бы интересны ни были граффити, в комнате было слишком темно для фотоаппарата, а захватить с собой вспышку она не сообразила. Чтобы надежно зафиксировать эти находки, нужно было вернуться сюда еще раз, а пока что пришлось удовлетвориться простым осмотром.
Квартира была не слишком большой, но все окна заколотили, и, стоило Хелен отойти от двери, свет иссяк окончательно. Запах мочи, мощный уже на входе, стал только сильнее, а когда она достигла дальней стены гостиной и прошла по небольшому коридорчику в следующую комнату, сделался удушливым, как фимиам. Эта комната, самая дальняя от входа, была также и самой темной, и Хелен пришлось подождать несколько секунд в тесном мраке, пока ее глаза не стали на что-то годны. Здесь, кажется, раньше была спальня. Те немногие вещи, что остались после жильцов, разломали на куски. Относительно нетронутым остался только матрас, брошенный в углу комнаты среди испорченных одеял, газет и осколков посуды.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?