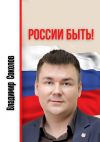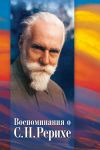Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Хорошо помню ту зиму, когда Петров писал свою последнюю симфонию «Прощание с…». Он очень волновался: как примут это сочинение коллеги, как отнесется публика? Сам Андрей Павлович считал, что именно в этой симфонии ему удалось найти немало нового и интересного. Вообще, в его уходе немало мистического – взять и написать «Прощание с…». Быть может, он что-то предчувствовал…
В быту Петров был удивительно неприхотлив. Ел Андрей Павлович настолько мало, что в это трудно было поверить. Прихожу к нему утром – он завтракает: небольшой кусочек хлеба делится на четыре части, намазывается очень тонким слоем масла и на каждый кладется крошечный пластик сыра. Это бутерброды. На десерт же делается еще нечто в том же роде, но с печеньем. Тоже чуть-чуть масла, чуть-чуть сыра. Ну и маленькая чашечка кофе… Всё. В поездках нас повсюду щедро угощали. Еще бы: сам Петров приехал! Стол ломится, а он съест пару ложек супа, чуть-чуть второго, что-нибудь еще – и баста.
Петров курил. Но как! Мы с Гришей Корчмаром выкуривали по две пачки, а он – пять-шесть сигарет в день. Причем когда работал – не курил. «Ребята, – говорил Андрей Павлович, – ну что ж вы так смолите? Надо налить рюмочку или чашечку кофе, тогда и сигаретку можно закурить». В Доме композиторов, в его приемной, до сих пор сохранились его любимые маленькие чашечки, ложечки, сервизик за шкафом, сахарок. Ничего не поменялось. Как было заведено, так все и осталось…
Из спиртных напитков Петров предпочитал виски. Хотя никогда не отказывался чуть-чуть пригубить хорошего коньяка, граппы, сливянки. Пил он по капельке, под чашечку кофе и сигарету. Приучил к виски и меня. В начале 1990-х я часто приходил к нему домой – документы подписать, посоветоваться. И, провожая, Андрей Павлович каждый раз предлагал: «По капельке, на ход ноги!» И наливал в красивые стаканы виски, на полпальца. Я говорю: «Так самогонка же, невкусно!» А он: «Попробуйте, а вдруг понравится?» Ну я и пробовал – по капельке. На пятый или шестой раз меня как пробило – я выпил и попросил еще. Вдруг вкус почувствовал. Радости Петрова не было предела: «Ура! – ликовал он. – Нашего полку прибыло!»
Мы знали, что Петров был по натуре весьма влюбчивым. Сам он говорил об этом так: «А что вы хотите? Влюбляешься – и пишешь! Речь не о супружеской измене. Семья – это святое! Но благодаря сильному чувству рождается новая песня. Обязательно нужна влюбленность. Чем все кончается – это не важно. Но только без этого состояния мелодия не рождается». Для меня это признание послужило еще одним подтверждением того, что предметом музыки является любовь и только любовь, во всех ее проявлениях.
Однажды Андрей Павлович спросил меня с чуть заметным оттенком иронии: «А вы себя не чувствуете, Боря, несколько ущербным в своей гетеросексуальности?» – «С чего это вы, Андрей Павлович?» – «А я вот уже чувствую свою ущербность. Вокруг нас так много чего-то иного…» Таким был его шутливый комментарий к своей «старомодности».
А вот чего ужасно не любил Андрей Петров, так это праздновать на людях свои дни рождения. Хотя других с этими датами старался поздравить обязательно. Сам же Петров в день рождения всегда уезжал в другой город, а то и за границу. Терпеть не мог все эти трафаретные букеты, дежурные подарки и слова. И крайне резко относился к тем чиновникам, которые в дни своего рождения благосклонно принимали вереницы посетителей с цветами и коробками. Вот это он открыто ненавидел и костерил последними словами. И все никак не мог понять, почему начальники не пресекают, а часто даже поощряют это безобразие. Только вот на свои юбилеи он сдавался: куда было деваться!
Нас всех – сотрудников Петрова – невероятно поражала его бодрость. В свои 75 он мог два раза за одну неделю съездить в Москву. Причем в вагоне сразу же укладывался спать, а поутру, как ни в чем не бывало, пригладив вихор на затылке, отправлялся по делам. Мы все не сомневались, что Андрей Павлович – уж точно долгожитель. Он выглядел всегда великолепно, был бодр, подтянут и, казалось, никогда не знал усталости. Когда же он заболевал – что случалось нечасто, – то тихо уползал, по его словам, «как собака в конуру», и свято выполнял все предписания врача и своей супруги Наталии Ефимовны, по часам дававшей ему капли и пилюли. Болеть он очень не любил, но брал себя в руки и был абсолютно послушен, стараясь избежать возможных осложнений.
И все же однажды – после своего 70-летнего юбилея и фестиваля «Андрей Петров в кругу друзей» – Андрей Павлович вдруг заговорил со мной о смерти. «Ну что, Боря, по-видимому, это – всё». – «В каком смысле?» – не понял я. – «В смысле конца жизни», – ответил Петров. – «Да вы что, Андрей Павлович! На вас еще девочки заглядываются!» – «Девочки, конечно, хорошо, но, кажется, пора уж подводить итоги». Я сильно возмутился, и в результате мы спустя пять лет успешно провели его фестиваль «Сотворение мира продолжается…».
А между этими двумя фестивалями случился у нас с ним разговор о Боге. Андрей Павлович был хорошо осведомлен о моем отношении к религии. Я всегда считал, что Бог – это совесть, то есть, то, что в душе у человека. А ко всем инстанциям и религиозным культам, находящимся между человечеством и Всевышним, я отношусь скептически. И мне казалось, что Петров придерживался тех же взглядов.
Но в том нашем разговоре я услышал от него совсем другое: «Вам не кажется, что ТАМ все-таки что-то есть? Я думаю, что все не так-то просто». Чем были вызваны эти слова? Возрастом?.. Чем-то еще, заставившим Петрова вслух усомниться в своем материалистическом мировоззрении? Не знаю. Но помню, что поразился его искренности и откровенности суждений о том, что было предметом его сокровенных раздумий…
Запомнился и состоявшийся в ту пору горький разговор о музыке, точнее, об академическом ее крыле, не обладающем сейчас такой харизмой, которая была присуща ему раньше: «Что вы хотите, – говорил Петров, – в нашей стране лишь пять процентов населения готовы слушать академическую музыку. А девяносто пять любят песню – причем ресторанную, блатную. Такая уж страна, такой народ, такая музыкальная генетика. Да и потом мы, музыканты, так уж получилось, воспитаны на протестантском хорале. На тех же интонациях воспитано и население Германии, Австрии, Чехии. В Европе не найдешь деревни, в которой бы не звучала скрипка, а то и струнный квартет. У нас же – другие корни. Мы – дети российских крестьян, а следовательно, наследники протяжных, свадебных и величальных песен. Бетховен от русской глубинки далековат, а вот Дунаевский, Богословский, Мокроусов, Соловьев-Седой – близки».
Надо ли говорить, насколько близки нашему народу песни самого Петрова? Мне посчастливилось участвовать в организации ряда программ из песен и романсов Андрея Павловича. Мы вместе ездили в Москву, Тольятти, Нижний Новгород, другие города, и видели, с каким восторгом люди принимают его песни. Участники всех тех концертов – Елена Забродина, Лариса Луста, Александр Ретюнский – очень любили Андрея Павловича, и он всегда платил им тем же. Но особенно ценил он искусство Михаила Аптекмана – гениального музыканта, концертмейстера и аранжировщика, с которым всегда с удовольствием работал. Он считал, что на Аптекмане завершается эпоха советской и постсоветской эстрады, и всегда говорил, что если бы Миша уехал в Москву, то получил бы признание как лучший эстрадный пианист России.
Андрей Петров всегда ценил настоящее. При этом у него была довольно точная самооценка. К примеру, его не раз, и очень настойчиво, уговаривали занять пост ректора Консерватории. Но он под всеми предлогами отказывался. Ну не для этого он был рожден. Петров прекрасно понимал, где он силен, а где не очень. И брался лишь за то, что было ему по-настоящему близко.
Вспоминая об Андрее Павловиче, понимаешь, что с его уходом мы потеряли надежную опору. В нем сочетались два важнейших качества: во-первых – совесть, а во-вторых – мудрость. Мы все очень любили его и продолжаем любить. У меня же лично не проходит ощущение, что он жив, что сидит в Репине и пишет. Вот сейчас приедет, спросит: «Как вы тут?»
Петров незримо остается с нами. И все, что бы мы ни делали, мы невольно с ним сверяем: «А что бы Андрей Павлович сказал? Одобрил бы или осудил?» И очень хотим остаться достойными его памяти.
У него были очень молодые глаза

ИРИНА БОГАЧЕВА
певица
Когда Андрей Петров писал для Кировского театра оперу «Петр Первый», он заранее представлял, кто какую из основных партий будет петь. Насчет Петра все было ясно. У нас в труппе имелся идеальный кандидат на эту роль – и по своим данным, и по внушительной фактуре – бас Владимир Морозов. А для меня композитор написал партию старшей сестры Петра – царевны Софьи. Не могу сказать, что я такая уж капризная, но тут я воспротивилась и сказала Андрею: «Не хочу я Софью, она мне не близка совершенно». Я люблю героинь с мощными драматическими судьбами, женщин сильных, страстных, но – не злых. Вот злых – ненавижу. Могу взорваться, но злости в душе у меня никогда не остается. Это все я попыталась ему объяснить.
Между тем опера уже была написана, в театре начиналась работа над постановкой. И, выслушав мои доводы против «злой Софьи», Андрей в некоторой растерянности спросил: «А что ты хочешь петь?» Я говорю: «Вот Екатерину с удовольствием бы спела». Он удивился: «Это же совсем маленькая роль». – «Так ты допиши», – посоветовала я ему. И он пообещал дописать для меня арию.
Есть в опере эпизод перед сражением, вот это место оказалось идеальным для такого эпизода. Уже потом я узнала, как эта ария рождалась в невидимых миру муках. Музыку-то Андрей сочинил довольно быстро, но требовалось ее подтекстовать. Эта задача была возложена на режиссеров-постановщиков спектакля – хореографов Наталию Касаткину и Владимира Василёва, которые впервые в жизни занимались не свойственным им делом: сочиняли оперное либретто. Тексты всех предыдущих арий были положены Андреем на музыку, а тут композитор и либреттисты как бы поменялись местами, причем как раз уже в тот момент, когда время поджимало.
И в этих обстоятельствах Андрей проявил, я бы сказала, решительность просто чрезвычайную. Как потом весело вспоминали Наташа с Володей, Петров привез их в Дом творчества композиторов в Репино и, обеспечив съестными припасами, запер в коттедже, предупредив, что не выпустит, пока они не выдадут готовый текст арии. Литературного опыта такого рода у них было маловато, и они изрядно помучились, прежде чем смогли уложить нужные слова в готовую музыку. Но следует отдать им должное: справились они со своей работой очень хорошо. Мне по душе эта ария, которая начинается словами «Нет больше Марты! Екатерина Первая». Ария получилась и сильная, и в то же время очень женственная, и мне было удобно ее петь. Это действительно образ женщины, которую полюбил Петр и которая любит Петра. Мы много раз вывозили эту оперу на гастроли за рубеж, представили ее и в Германии, и в Норвегии, и в Греции, и в Швейцарии. И всюду она получала очень горячий прием. Все ее содержание олицетворяло мощь России. К тому же это был очень петербургский спектакль.
Наши отношения с Андреем всегда были и дружеские, и творческие. Познакомилась я с ним, когда была студенткой Консерватории, а он – молодым членом Союза композиторов Ленинграда, у руля которого стоял Василий Павлович Соловьев-Седой. Потом я многократно участвовала и в фестивалях «Ленинградская музыкальная весна», которые начались при Петрове, и в просветительских концертах. У меня в репертуаре была его «Песня матери» из первого советско-американского фильма «Синяя птица». Песня очень красивая. Он в каждом жанре проявил себя как большой мастер. «Петр Первый» – замечательная опера, «Сотворение мира» – изумительный балет. А сколько звезд пело его песни на эстраде! Важно и то, что до сих пор народ поет его песни.

С И. Богачевой и Ю. Темиркановым на записи оперы «Петр Первый» в Театре им. Кирова. 1977. Фото Ю. Белинского
Прошло много лет, и на новом витке жизни мы часто стали с ним встречаться по делам общественным. Я стала председателем Координационного совета творческих союзов Санкт-Петербурга, а он – моим заместителем. И когда приходилось что-то где-то пробивать, мы делали это дуэтом. Много было хождений по разным инстанциям, писем в поддержку творцов. Защищали от административного прессинга мастерские художников, которые время от времени чиновники пытаются обложить непомерными поборами. Пришлось помогать в решении различных проблем 40-й поликлинике для творческих работников. И делали мы это всегда с огромным удовольствием. Андрей был очень коммуникабельным человеком, и люди всегда тянулись к нему за помощью, за советом, зная, что он внимательно выслушает, серьезно отнесется к решению проблемы.
Каким он был для меня? Прежде всего, обаятельным, всегда полным жизни, всегда уверенным, что все должно быть хорошо. У него были очень молодые глаза. Несмотря на возраст, он и в 75 лет оставался молодым. Мне, во всяком случае, годы его не бросались в глаза, я его возраста просто не замечала. Звала его Андрюшей. То, что он так рано ушел, такая потеря для всех нас… Он мог бы еще жить и жить, потому что был молод душой. Почему Бог так внезапно забрал его к себе? Видно, Он тоже любит талантливых людей.
Лишь расслышать и зафиксировать…

МИХАИЛ БЯЛИК
музыковед
Андрей Петров слыл баловнем судьбы. Он и был им. Только не нужно себе представлять, будто судьба наигрывала ему бодрые мелодии, а он под ее дудку шагал вперед. Наоборот! Он сочинял мелодии, повелевавшие судьбе плясать в заданном ими направлении и ритме.
Быть властелином собственной судьбы – удел сильных. Андрей был очень сильным – своим талантом, умом, способностью мгновенно распознавать людей, располагать их к себе, более же всего – необыкновенной выдержкой. Свойство это, как и многие другие, было воспитано в нем родителями, их живым примером, а тем досталось от их предков, дворян с длинной родословной. Человек сильных страстей, Андрей умел обуздывать свои чувства. Терпение, воля позволяли ему решать поставленные самому себе задачи, побеждать противников, не торопясь, не озлобляясь, если препятствия крепки, не нервничать понапрасну по поводу препон и преград – и, в конце концов, он добивался успеха.
Сдержанность его проявлялась в отношении не только малознакомых людей, но, в известной мере, и многочисленных приятелей. Даже от самых давних и близких друзей, к коим принадлежала и наша семья, его отделяла некая «полоска отчуждения», тонкая, невидимая, дававшая, однако, возможность каждому сохранять суверенитет и не допускавшая перехода от доверительности к фамильярности. Что касается меня, то добровольно выбранная скверная профессия критика в принципе не располагала к нахождению и сохранению друзей. Наверное, я – плохой критик, потому что их у меня достаточно много даже среди музыкантов, субъектов моих писаний. Но личные отношения едва ли не с каждым подвергались серьезным испытаниям.
Талант Петрова всегда был мне близок, многое среди того, что вышло из-под его пера, восхищало меня. Однако не все. Случалось, что оценка, данная мною его новому опусу, не совпадала с той, что он ожидал. Тогда прозрачная пленка, разделявшая нас, уплотнялась, становилась мутной. Очень долго мы плечом к плечу сотрудничали в Союзе композиторов; большую часть из тех сорока лет, что он возглавлял его как председатель Правления, я руководил секцией критики и музыкознания и всячески поддерживал его инициативы. Но и тут происходили сбои. Когда, к примеру, по требованию ЦК Правлению следовало в полном составе, единогласно проголосовать за исключение Ростроповича из творческого союза, я, понимая, что подвожу председателя и друга, от позорной процедуры уклонился. В один из дней моего рождения, который мы в стабильном составе отмечали на нашей просторной нарядной кухне, Андрей, произнося тост, признался, что порой у него возникало горячее желание убить меня. Но проходило какое-то время, гнев его улетучивался, а в душе оставалось и накапливалось уважение. Его слова я сейчас вспоминаю с признательностью.
Итак, Петрову везло во всем. Любящая, преданная семья, материальное благополучие, отличная карьера. Его всегда чтило начальство, включая руководство страны. Конечно же, для него была очевидной та ложь, что насквозь проела существовавшую социальную систему. Своей тактикой он избрал корректирование политики, проводившейся в подвластной ему сфере. Проявляя твердость характера, прибегая к дипломатическим ухищрениям, он сумел достичь многого. Во всяком случае, все лучшее в ленинградском-петербургском композиторском творчестве второй половины ХХ века, олицетворяемое именами Уствольской, Тищенко, Слонимского, Баснера, Шварца, Гаврилина, Фалика, Пригожина, Банщикова, Кнайфеля, Баневича, Смирнова, Десятникова, Корчмара и других, сумел он уберечь от преследований властями. Так что к нему с уважением относились и радикальные «авангардисты».
Особенно же везло Андрею – что самое главное! – в творчестве. Возникало впечатление, что, избрав художественную цель, он неизменно попадал в десятку, что ему ведом секрет, благодаря которому только что написанное сразу же оказывалось хрестоматийным. В действительности же он часто бросался в неведомое, экспериментировал, рисковал. О связанных с этим трудностях, преодолеваемых им, о его азарте, разочарованиях и радостях знали лишь близко стоявшие к нему люди – и то далеко не всегда. Упомянутая сдержанность не располагала его делиться сокровенным. Однако поскольку так сложилось, что я присутствовал едва ли не на всех премьерах Андрея, часто посещал и репетиции, наблюдал взаимоотношения композитора с дирижерами, постановщиками, актерами, администраторами, партийными чиновниками (от последних главным образом и зависела судьба нового произведения), многое было мне известно. Воспоминания оживают, едва начинает звучать – реально или в моей душе – какая-нибудь из неповторимых петровских мелодий.

Сцена из балета «Сотворение мира». 1971. Ю. Соловьев в роли Бога, В. Бударин в роли Черта. Фото Д. Савельева
С волнением вспоминаю все, что связано с сотворением «Сотворения мира» – самого любимого мною сочинения Андрея. Счастливой идеей создать балетный аналог очень популярных тогда рисованных серий французского карикатуриста Жана Эффеля, смешно и трогательно пересказавшего библейскую легенду, увлеклись московские хореографы Наталия Касаткина и Владимир Василёв. Оба еще танцевали тогда в Большом театре. Наташу я ценил как бесподобную характерную танцовщицу – в легендарной «Кармен-сюите», в партии Судьбы (олицетворяемой Быком), она была достойной партнершей Кармен-Плисецкой. Развертывалась также балетмейстерская и педагогическая деятельность супружеской пары; первые поставленные ими спектакли, «Ванина Ванини», «Геологи», в особенности же «Весна священная» (до того у нас вообще не ставившаяся, на их оригинальное либретто, которое Стравинский, беседуя с ними в Нью-Йорке, одобрил), произвели на меня самое доброе впечатление. Не менее счастливой, нежели идея хореографического «Сотворения», оказалась мысль обратиться с предложением о создании музыки к Петрову. Он уже добился впечатляющего успеха и в серьезном жанре (симфоническая поэма «Радда и Лойко», балеты «Станционный смотритель» и «Берег надежды»), и в легком (кинофильмы «Мишель и Мишутка», «Человек-амфибия», «Путь к причалу»), а тут решил обе жанровые линии объединить. Андрей сразу приступил к работе.
Сочинял он преимущественно в Репине, в благословенном Доме творчества. Тут подолгу находились и мы. Бывало, напишет он очередной номер балета – звонит нам в коттедж, и мы с женой Ирой спешим к нему в знаменитую «двадцатку» (в доме под этим номером останавливались руководители творческого союза, в том числе Шостакович). Тут мы несколько раз проигрываем в четыре руки по еще не высохшей рукописи новый фрагмент, и Андрей фиксирует его на магнитофонную ленту, чтобы отправить в Москву Касаткиной и Василёву. Те, приезжая по мере надобности в Питер, тоже частенько живали в Репине, где и мы с ними дружески сошлись. Помню, однажды в городе Андрей позвонил мне и попросил вместо него (он был чем-то занят) ближайшим утром встретить на Московском вокзале Наташу с Володей. Я привез их к себе, мы сели завтракать всё на той же кухне, любимой нашими друзьями (в том числе и Петровыми – еще с тех пор, когда они жили у нас, пока их квартиру в только что выстроенном доме приводили в порядок). Гости, не умолкая, рассказывали, каким будет будущий спектакль. Затем, вдохновившись фантастическими картинами, которыми сестра Ирины, художница Лия, расписала кафельные стены, станцевали на их фоне, словно в декорациях, основные эпизоды сочиненного ими балета. Мы с Ирой были в восторге!
Начались репетиции в Кировском театре. Они сопровождались какой-то мышиной возней – слухами, предостережениями, запугиванием. Дело в том, что ленинградское областное начальство, более всего опасавшееся чем-то прогневить Москву, проявляло преувеличенную бдительность в отношении «подозрительного» балета. Но трое авторов, большие умницы, каждый раз хитро нейтрализовывали демагогию.
Возникали, однако, и реальные, серьезные трудности, обусловленные новизной художественной задачи. Музыка Петрова, как упоминалось, по жанрово-стилевым параметрам укладывалась в так называемое «третье течение», объединявшее признаки академического искусства и эстрадного. Но в консервативном Кировском, где старались блюсти охранительные тенденции императорского театра, подобный интонационный симбиоз должен был быть воспринят как дерзкий вызов. Андрей поступил со свойственным ему мудрым лукавством. Из четырех номеров партитуры он составил концертную сюиту, которая была исполнена в другом гордившемся своим пуризмом храме, в Филармонии, под управлением молодого и блистательного Юрия Темирканова. Успех был необычайным! Маэстро дирижировал сюитой много раз, дома и на гастролях, так что к тому времени, когда музыка, наконец, должна была прозвучать в театральном зале, она настолько вошла в уши и души меломанов, что казалась чем-то абсолютно органичным, устоявшимся – почти классикой.
Не меньше риска таило в себе то, что должно было совершаться на сцене. Предстояло заставить плясать не только Адама и Еву, не только ангелов и дьявола, но и самого Господа Бога! Какую звуковую и хореографическую лексику для них изобрести? Композитор и постановщики вовсе не собирались изготовить веселенькую атеистическую пародию (хотя таковая, наверняка, устроила бы обком). Сквозь комедийное должен был проступать серьезный и драматический смысл – тревога о будущем человечества. Важно было не ущемить чувства верующих. Хотелось оказаться достойными великой традиции воплощения библейских сюжетов в музыке и других искусствах.
Вспоминаю, как по ходу репетиций, в пробах, спорах, постепенно преодолевались сомнения и трудности, как возникали художественные озарения.
Видно, Господь был не в обиде на авторов – то, как разошлись среди блистательных танцовщиков труппы все роли, иначе, чем чудом, не назовешь. Казалось, каждый родился именно для этой роли, ждал ее, чтобы с максимальной полнотой выявить свой неповторимый артистический дар. Юный Миша Барышников, невысокий, с широко расставленными и приветливо глядящими на мир глазами, и неподражаемая Ира Колпакова, с ее мягкими, певучими движениями, оказались идеальными Адамом и Евой. Одержимый обустройством Вселенной Бог, эдакий мужичок-хлопотун, с невероятной виртуозностью и обаянием станцованный Юрием Соловьевым, как и Черт с Чертовкой в воплощении сверхтемпераментных Валерия Панова и Калерии Федичевой – все они образовали незабываемый, крепко спаянный содержательным замыслом и стилем актерский ансамбль.
Трудно определить, кому повезло больше, Касаткиной и Василёву или работавшим с ними исполнителям: хореографы раскрывали в каждом не до конца известные ему самому творческие возможности, стимулировали проявление актерской самобытности. Оттого танцевавшие главных персонажей в другом составе Вадим Гуляев и Наташа Большакова, как и Светлана Ефремова – Чертовка, отличаясь от коллег, были тоже очень хороши. Поисками оказались воодушевлены и дирижер Виктор Федотов, и все участники будущего спектакля. Однажды в балетном классе я наблюдал, как над сценой «Рождение Евы» с актерами вдохновенно работала состоявшая в театре репетитором легендарная Татьяна Михайловна Вечеслова (мы были хорошо знакомы: с ностальгией вспоминаю, как аккомпанировал ей на веселых вечерах в Доме композиторов, где она великолепно пела романсы). Хотя Татьяна Михайловна стремилась лишь к тому, чтобы исполнители сжились с заданным балетмейстерами танцевальным текстом, тем не менее, чуть ли не в каждом из эпизодов рождались какие-то свежие и трогательные нюансы, позднее утвердившиеся в хореографической партитуре.
И вот – памятный день 23 марта 1971 года, премьера. Ясное с утра весеннее небо вдруг заволокли черные облака, и грянула снежная буря, буквально парализовавшая городской транспорт. «Нет, все-таки Бог рассердился, удачи не будет!» – заохали пугливые. Начало премьеры задержали, а окажется ли она успешной – никто не предсказывал. Зал был набит до предела. Представление началось, и сразу же почувствовалось: страхи излишни. Нетрадиционность музыки, новизна, необычность происходящего на сцене не испугали – напротив, заинтриговали публику. Появление своих любимцев в неожиданных амплуа она принимала с полнейшим удовлетворением. Восторг нарастал от номера к номеру. Среди десятков балетных премьер, на которых довелось мне побывать, не помню другой, прошедшей с таким же триумфом. После спектакля авторы, как водится, устроили банкет для его участников и друзей. Он состоялся в особняке Дома композиторов, располагающемся неподалеку от театра. Шли туда, перескакивая через лужи, сгибаясь под порывами ветра – но это лишь добавляло радости. Свершилось! – это ощущение было безусловным.
Успех утверждался с каждым следующим представлением – хотя предпринимались попытки его оспорить. На один из первых спектаклей прибыла из столицы всемогущая Екатерина Алексеевна Фурцева, министр культуры, впрочем, от культуры весьма далекая. Не имевшая собственного мнения, она поддавалась наущениям недобросовестных советчиков и нередко – я сам бывал тому свидетелем – устраивала разносы безо всякого реального повода, сама попадая впросак. Так было и теперь: пока публика в зале восторженно аплодировала, товарищ министр в кабинете директора распекала последнего за… легкомысленные костюмы Адама и Евы.
Появлялись в Кировском и другие ответственные комиссии, со столь же серьезными претензиями: «Почему в раю так красиво, а на Земле разбросано столько камней?» И хотя комиссии были в силах крепко навредить, ничего у них не получилось. Вслед за Ленинградом балет увидели другие города планеты: он шел в 60 театрах! Касаткина и Василёв бережно сохраняют спектакль в своем «Классическом балете». У меня есть основания надеяться, что и на Мариинской сцене, где балет родился, он после затянувшегося перерыва появится снова.
Но вот что особо примечательно. Еще не отзвучали аплодисменты после премьеры, а люди уже говорили: «Успех был неизбежен – он запрограммирован, точно рассчитан. Иначе и быть не могло. Идея балета носилась в воздухе. Ее нужно было лишь поймать. Странно, что это никому раньше не приходило в голову!» Я знал, что все не так, что Андрей, как и его партнеры, часто спорили, многое найденное отбрасывали, заменяя другим, и вовсе не были убеждены, что созданный вариант – оптимальный. Окончательный результат, однако, оказался именно таков, как свидетельствовали очевидцы: все будто бы сложилось сразу, само собой, и по-другому получиться не могло.
В творческой судьбе Андрея такое случалось не раз. Назову для примера еще оперу «Петр Первый», также созданную в сотрудничестве с Касаткиной и Василёвым – либреттистами и постановщиками. Когда композитора спрашивали, что побудило его избрать своим героем царя-реформатора, он отделывался шуткой: «Понимаете, я – Петров, живу на Петровской улице, в квартире – пианино фирмы „Petroff“, перед окнами дом и ботик Петра Первого, так что опера о нем понадобилась, дабы комплект был полным».
В действительности же, стимул был весьма серьезным. Немало персонажей русской истории стало оперными героями, но перед грандиозной, исполненной разительных противоречий фигурой Петра Великого композиторы робко останавливались, либо же повествовали о ней, как Гретри, Доницетти или Лорцинг, в духе исторического анекдота. Петров же решился. Результата ждали с опаской. Удастся ли, представляя монарха-реформатора, соблюсти меру в показе светлых и сумрачных сторон его души, великих деяний и страшных жертв, того, что сохранилось и отозвалось для России пользой и славой, и того, что презрели потомки? Большие сложности и риск таило в себе и собственно музыкальное решение, воспроизводившее художественный, в частности, звуковой, обиход изображаемой эпохи – в перспективе следующих столетий. Композитору удалось преодолеть явные и тайные трудности избранного сюжета. Выполненные им «оперные фрески» (это жанровое определение принадлежит самому Петрову) были восприняты как крупный успех музыкального театра. Я хорошо помню не только спектакль в Ленинграде, в Кировском театре, но и в театрах других городов, где довелось побывать: в Екатеринбурге (тогда Свердловске), Ташкенте, Бишкеке (тогда Фрунзе). Повсюду работа над ним вызывала в творческих коллективах энтузиазм, а премьера становилась событием.

Сцена из оперы «Петр Первый», Театр им. Кирова. 1975. В. Морозов в роли Петра. Фото Д. Савельева
Особо – о постановке в ГДР, в городе Карл-Маркс-Штадте (ныне снова Хемниц). Накануне я находился в Дрездене в качестве члена жюри международного композиторского конкурса. Творческие и организационные установки художественного состязания вызвали у меня несогласие. Но поддержал меня лишь один член жюри, профессор Карл Риха, видный режиссер, ученик Вальтера Фельзенштейна, руководитель оперного театра в Карл-Маркс-Штадте. Именно он и был режиссером «Петра Первого». Общность позиции сблизила нас и человечески. Неожиданно позвонил Андрей и, сообщив, что по какой-то причине не сможет приехать на премьеру, наделил меня полномочиями своего представителя («Если обнаружишь явные несуразности, протестуй!»). И мы с Рихой, освободившись, поехали в его театр. Протестовать там не пришлось. Ибо, хоть в немногочисленной труппе и не просто было развести все роли, недостаток ярких голосов компенсировала высокая музыкальная и сценическая культура артистов. Режиссура же Карла Рихи оказалась просто превосходной. Разделив на несколько частей зеркало сцены, он развертывал одновременно, полифонически, несколько линий действия, достигая в моменты их пересечения необычайной драматической напряженности. Постановщик основательно, как это свойственно немцам, постиг быт и нравы чужой страны в далекие времена. Но возникало парадоксальное ощущение: чем более он акцентирует местные приметы, тем явственней обнаруживаются заключенные в произведении возможности образного и исторического обобщения. Проблемы правителя и его ответственности за вверенные ему людские судьбы, диалектика свободы и насилия, национальных традиций и иностранного воздействия и еще многое другое, что актуально для любого общества, в тогдашних обстоятельствах искусственно разделенной Германии воспринимались по-особому заинтересованно и остро.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?