Текст книги "Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала ХХI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934"
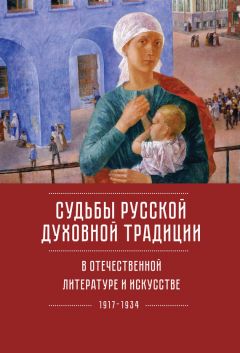
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;
Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.
Реальный жизненный опыт выбора между Богом и миром показал, что такой выбор именно «томит и мучит». Теперь чистота Фаворского света Преображения кажется Гумилеву «невозможной мечтой» и у него остается лишь одна надежда на милость Божию:
С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.
«Любить Бога не просто, – заключает владыка Иоанн, – любить Его надо так, как заповедал нам Сам Господь Спаситель мира. Любовь к Богу тогда только бывает настоящей, когда она основана на смирении, когда человек устраняет из своего сердца плотскую воображаемую любовь. <…> Пылкость и горячность крови и нервов – это и есть плотская любовь. Такая любовь не бывает угодной Богу, ибо она приносится на жертвенник гордости. Такая любовь не долговечна, она быстро исчезает. <…> Научиться любить Бога можно при том условии, если мы будем в меру своих сил и возможностей исполнять все то, что заповедал нам Спаситель мира. И не только исполнять, но и внутри своего сердца возбуждать вражду ко всякому греху, удаляющему нас от любви Божьей»9.
В том, что следовать за «Искателем небес» не так просто, как это казалось вначале, Гумилев убедился достаточно скоро. «Безумная тоска», «томление», «грусть» – все это симптомы «будней» духовной работы, пришедших на смену пасхальной радости, запечатленной в стихотворении о Христе. Воцерковление всегда предполагает ревизию мировоззренческих «мирских» ценностей. «Входя в Церковь человек должен научиться говорить и "да" и "нет", – пишет о. Андрей Кураев. – Да – Евангелию. Да – тому, что Дух, Который вдохновил евангельских авторов, явил в жизни и в умах последующих христиан (тех, кто был вполне христианином – святым). Нет – тому, что с Евангелием несовместимо. Нет – окружающим модам. Нет-даже своим собственным пристрастиям и стереотипам, если очевидно, что они пришли в противоречие с христианским учением»10. И здесь в отношениях Церкви и интеллигенции возникали весьма значительные сложности. «Отрывком» из подобной мировоззренческой драмы воцерковляющегося интеллигентского сознания и является лирическая исповедь Гумилева 1911 года:
Христос сказал: убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвездные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных…
Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
Чьи имена звучат нам, как призывы?
Искупят чем они свое величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым – великий Вольфганг Гете
И Байрон – площадным шутом… о ужас!
Источником смущения для рефлексирующего лирического героя здесь служит, как явствует из текста, «неадекватность» христианской теодицеи (учения о Божественной справедливости) – ценностям светской культуры, причем сама постановка проблемы, упоминание о «воле равновесья», восходит к евангельской Притче о бедном Лазаре: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: „отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем“. Но Авраам сказал: „чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят“» [Лк. 16: с. 19–26].
Строго говоря, испуг лирического героя Гумилева вызван не столько подлинной сложностью проблемы самой по себе, сколько недопустимо примитивным, «механическим» пониманием притчи. Беатриче-не проститутка, Гете-не глухонемой, Байрон – не шут. В земной жизни они получили немало «доброго», следовательно, по «воле равновесья» (о, ужас!) – в жизни той они должны быть умалены, подобно евангельскому богачу. Не исключено, что в гумилевском стихотворении сказалось не изжитое еще влияние Ф. Ницше, также трактовавшего христианскую теодицею крайне примитивно. «Христианство, – писал Ницше в своем "Антихристе", – взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушения»11. На это, конечно, очень легко возразить, что богатство (как материальное, так и интеллектуальное – талант, физическое здоровье и т. д.) отрицается христианством только в качестве источника соблазна забвения тех самых «высших духовных ценностей», о которых и печется Ницше, источника духовной пошлости. В равной мере и бедность (слабость, униженность, неуспех и т. п.) сама по себе не признается добродетелью, но только в сочетании со смирением и верой. Такой взгляд на «богатство» и «бедность» присутствует и у ветхозаветных пророков. «…Богатые здесь, – пишет в толкованиях на XXXIII псалом свт. Феофан Затворник, – то же, что не взыскивающие Господа, необращающиеся к Нему в нуждах, самодовольные, своими средствами без Бога чающие устроить участь свою во благо, т. е. во всем полагающиеся на силу свою, на деньги, связи и свое положение. Это те, о которых говорится: „утучнел, отолстел, разжирел; и оставил он Бога, создавшего его“ [Втор. 32; 15].<…> Берется здесь во внимание не внешнее положение… а внутреннее их настроение и соответственное тому состоянье духа»12.
Из того, что Беатриче, Гете и Байрон не были в земной жизни «убогими, слепцами, калеками и нищими», равно как и «проститутками, глухонемыми и шутами», вовсе не следует, – если речь идет о христианской теодицее, – что в жизни будущей они неизбежно, по «воле равновесья», должны быть отвержены Христом. Но, если конкретное идеологическое противоречие, вызвавшее к жизни гумилевское стихотворение, разрешается, как мы видим, достаточно просто, психологические мотивы, побудившие Гумилева весьма пристрастно вдумываться в содержание Нагорной проповеди, не теряют от этого драматическую содержательность. За «отрывком», как мы уже говорили, скрывается сложнейшая духовная драма – разрушение «пристрастий и стереотипов» воцерковляющегося интеллигентского мировоззрения. И разрешение каких-то частных проблем здесь еще не гарантирует успех всего целого. Л. Н. Толстой, например, сумел, как известно, не только освободиться в ходе освоения евангельских истин от преклонения перед «Беатриче, Гете и Байроном», но и объявить «Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности – Аристофана, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, в живописи – всего Рафаэля, всего Микель-Анджело с его нелепым „Страшным судом“, – в музыке – всего Баха и всего Бетховена с его последним периодом» – пропагандистами «чувства гордости, половой похоти и тоски жизни»13, а потом – взял, да и написал свое собственное «евангелие от Толстого», открывающееся захватывающей историей о рождении Иисуса… «вне законного брака»14 Свт. Амвросий Оптинский, беседовавший с Толстым во время его посещения Оптиной пустыни в 1890 г., сформулировал свои впечатления кратко: «Он крайне горд»15. «Трудно человеку бороться с Богом, но еще труднее примириться с Богом, – писал Д. С. Мережковский в самый разгар своего „богоискательства“. – Во всяком случае, для русской революционной общественности это самое трудное: труднее чем свергнуть самодержавие и учредить социал-демократическую республику, труднее, чем „взорвать Бога“ или „поддержать руками валящееся небо“, труднее всего на свете сказать просто простые слова: Верую, Господи, помоги моему неверию»16.
Гумилев к «русской революционной общественности» не принадлежал, в «социал-демократическую республику» не верил, и «взрывать Бога» не собирался. Но «сказать просто простые слова», примиряющие его с Богом, было трудно и для него, ибо слишком много здесь оказывалось противоречащим его «пристрастиям и стереотипам». И причиной тому была у него – равно как и у Толстого, Мережковского и других представителей «интеллигентской общественности» серебряного века – гордость, скептическое недоверие к какому-нибудь авторитету, кроме авторитета своего собственного знания и практического опыта.
Между тем, вне доверия никакая подлинная духовная работа невозможна – на это указывает сама этимология слова: «до-верие» есть состояние, предшествующее собственно «вере», так что сама «вера» без «доверия» не может быть истинной. Можно сколько угодно анализировать богословские трактаты и «богословствовать» самому, нагромождая одно логическое построение на другое – но, в конце концов, ты останешься, подобно Антихристу В. С. Соловьева, перед простой необходимостью не разумного, а любовного, «до-верительного» выбора между своей и Божией правдами: «Сознавая в себе великую силу духа, он всегда был убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек преклонится пред злою силою, лишь только она подкупит его – не обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкою власти, а чрез одно безмерное самолюбие»17.
Гумилев нашел в себе силы удержаться от увлекательных интеллигентских «богословских изысканий». После «Отрывка» стихотворений на подобную тематику уже не появляется, напротив, в его творчестве возникает некий пафос «смиренномудрия»:
Храм Твой, Господи, в небесах,
Но земля тоже Твой приют.
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют.
Точно благовест Твой, весна
По веселым идет полям,
А весною на крыльях сна
Прилетают ангелы к нам.
Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я волю понял Твою.
(«Канцона»)
В самый разгар революционной катастрофы, на рубеже 1917–1918 гг., когда все надежды на сколь-нибудь благополучный исход событий, как в его жизни, так и в жизни страны, окончательно рухнули, он не ропщет, и с какой-то невероятной простотой и искренностью выражает полную готовность принять все, что готовит будущее:
Я, что мог быть лучшей из поэм,
Звонкой скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.
Часто больно мне и трудно мне,
Только даже боль моя какая-то,
Не ездок на огненном коне,
А томленье и пустая маята.
Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему,
И больнее было Богородице».
Удивительно, что в творчестве Гумилева путь воцерковления лирического героя предстает как путь следования за Христом, развертываясь хронологически в полном соответствии с евангельским повествованием о Служении Господнем. Начало этого пути ознаменовалось стихотворением, обращенном к картине полдня на Генисаретском озере («Христос», 1910). Мы видели, как недоверчиво и жадно вслушивался затем гумилевский лирический герой в слова Нагорной проповеди («Отрывок», 1911) и как был потрясен, увидев Фаворский свет Преображения Господня («Я не прожил, я протомился…», 1916). Теперь, перед возвращением в охваченную пламенем революции и гражданской войны Россию, он пишет стихи, обращенные к событиям Страстной седмицы.
Архитектоника гумилевского творческого пути, так, как она представлена теми стихотворениями, которые прямо обращены к евангельским сюжетам, повторяет архитектонику Божественной литургии, позволяющей прихожанам православных храмов, шаг за шагом, пройти, вместе с апостолами, весь евангельский путь – от Рождества, свершающегося тайно, за притворенными Царскими Вратами во время Проскомидии (приготовление вещества для таинства Евхаристии, т. е. приготовление хлеба и вина, которые во время литургии имеют быть переложенными в Тело и Кровь Христовы) – до Вознесения, представляемого изнесением из Царских Врат алтаря Чаши и словами иерея: «Всегда, ныне и присно и во веки веков», – обетованием Господним, завершающим евангелие от Матфея [Мф. 28: 20]. Служение Господне является в Литургии оглашенных, Страстная седмица – в Литургии верных, во время которой и происходит таинство Евхаристии.
Литургия верных начинается Херувимской песнью, которую поет лик (хор), а иерей повторяет, воздев руки, в алтаре у Престола: «Иже херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение».
В годы коммунистических гонений на Церковь, смысл Херувимской песни «конкретизировал» в потрясающей проповеди о. Дмитрий Дудко: «Херувимская песнь – это образование наших страданий с Божиими страданиями. Христос идет на страдания, пойдем и мы с Ним. <…> Херувимская песнь не для самоутешения, Херувимская песнь для просветления наших чувств, для очищения от грехов, для зарождения любви в нашем сердце. Херувимская песнь должна отрывать нас от земли, возносить к небу, должна давать нам мужество духа при любых страданиях. Херувимская песнь – это смысл наших страданий, смысл нашей жизни. Жизнь – это не страдания, а это вечная радость, человек бессмертен»18.
Херувимская песнь – это песнь верных христиан, т. е. тех, кто уже прошел путь воцерковления, уже может «отложить всякое житейское попечение», кто уверовал окончательно в Небесного Царя и Его Царство. Тех, кто еще только готовится к крещению, сочувствующих и любопытствующих, оглашенных Словом Божиим, но еще колеблющихся в выборе между Небесным и земным царствами – просят перед Херувимской песней уйти из храма: «Елицы оглашеннии, изыдите оглашении, изыдите. Да никто из оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся».
В 1917 году «Литургия оглашенных» в духовном бытии Гумилева завершается – начинается «Литургия верных». С этого момента «всякое житейское попечение» – «откладывается»:
Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему,
И больнее было Богородице».
С этого момента в его голосе появляется новая интонация, уже не исчезающая затем до самого конца, настолько необычная для русской поэзии XX века, что позволяет безошибочно отличить любой стих, любую строчку «позднего» Гумилева среди всех, звучавших вокруг него голосов, – та интонация, которая порождается неким глубочайшим внутренним покоем, душевной тишиной, сдержанной сосредоточенностью переживаний, уже не отвлекающихся на сиюминутные внешние раздражения, на каких-то, лежащих вне форм земного бытия образах. Это – интонация Херувимской песни, интонация «верного», расслышавшего, наконец, сказанные в Сионской горнице слова: «Сие сказал Я вам, чтобы Вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» [Ин. 16; 33].
В память многих, знавших Гумилева – особенно в революционные годы, – врезался обычай поэта осенять себя перед храмами неспешным крестным знамением. Этот нехитрый и естественный для воцерковленного человека акт религиозного этикета настолько удивлял интеллигентных свидетелей, что в мемуаристике, посвященной серебряному веку, Гумилев особо выступает как «человек, крестившийся на храмы»: «Он совсем особенно крестился перед церквами. Во время самого любопытного разговора вдруг прерывал себя на полуслове, крестился и, закончив это дело, продолжал прерванную фразу»19.
В эпоху «военного коммунизма» подобное поведение на публике было чревато не то чтобы неприятностями – настоящими бедами. Друзья настоятельно рекомендовали поэту быть осторожнее, по крайней мере – в обществе литера-торов-«пролеткультовцев», многие из которых занимали видные чины в «красной» администрации. «То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло, – вспоминал Георгий Иванов. – Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студийцами, как ни в чем не бывало, снимал перед церковью шляпу и истово, широко, крестился»20. И у других мемуаристов мы находим похожие эпизоды стой же акцентировкой: Гумилев крестится на православные «восьмиконечные» кресты, вознесенные над луковками православных храмов. Гумилев молится пред православным каноном с Распятием и отстаивает пасхальные службы пред православным алтарем, скрывающим помещенную на Престоле Плащаницу хрупкой преградой Царских Врат… Для человеческого и творческого облика поэта верность Православию – важнейшая характеристика. Особенно следует подчеркнуть сознательный характер этой духовной приверженности (доходящей в трагическом историческом контексте революционной России до исповедальной жертвенности). В этой связи весьма интересны стихотворения Гумилева «Падуанский собор» и «Евангелическая церковь», посвященные описанию храма и храмовой молитвы у католиков и протестантов: ход мысли лирического героя доказывает знакомство с основами православного сравнительного богословия.
Сравнительное (или, как его еще называют, «обличительное») богословие настаивает на том, что полнота догматики и вероучения, унаследованная с апостольских времен, сохраняется только в Православии. Поэтому «Церковью с большой буквы, той Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, которую основал Господь Иисус Христос и в которой незамутненным пребывает Его истинное учение, Церковью как телом Христовым является только сообщество Поместных Православных Церквей, составляющее единство Вселенской Церкви Христовой»21. С точки зрения православного сравнительного богословия, инославные Церкви не выдержали испытания «невыносимой легкостью» того «бремени», которое Христос возложил на каждого христианина, и упростили церковную жизнь для более удобного обращения своих прихожан в заботах «мира сего». Следует, впрочем, сразу отметить, что Православие не относится к отколовшимся от него церквям враждебно, полагая случившийся раскол трагической ошибкой, приведшей инославие к «духовной болезни». Так, например, Феофан Затворник, говоря о Церкви вообще как об органе «Божественного дыхания», сквозь который к человеку поступает «божественный кислород» Св. Духа, сравнивал инославную церковность с легкими, пораженными чахоточными струпьями, легкими, которые еще могут дышать, но уже не в состоянии дать задыхающемуся больному столько кислорода, сколько потребно для полноценного существования22. «Неправославные христиане – тоже христиане, – пишет современный православный богослов. – И опыт благодати Христовой может быть им знаком – но не в такой полноте, в какой этот опыт доступен человеку, решившемуся идти по православному пути»23.
В обоих стихотворениях Гумилева речь как раз и идет о тех «странностях» в инославной церковности, которые улавливает христианин, имеющий личный опыт полноты православной церковной жизни.
Католический Падуанский собор восхищает лирического героя. Этот храм «дивен и печален», он подобен «радости и грозе», но в самой архитектуре и убранстве его есть нечто, что вызывает мысль о каком-то непонятном «искушении». Первое, что замечает герой, войдя в храм – «желаньем истомленные глаза», «горящие» «в окошечках исповедален». Этот образ, действительно, очень яркий, становится первым в ряду той символики, которая постепенно раскрывает содержание «соблазна католичества», так как это представляется Гумилеву – соблазна слишком чувственного, слишком «земного» понимания буквы Евангелия:
Растет и падает напев органа,
И вновь растет, полнее и страшней,
Как будто кровь, бунтующая пьяно
В гранитных венах сумрачных церквей.
Личные наблюдения лирического героя Гумилева вполне согласуются с критическими положениями «обличительного богословия». Главный упрек, адресуемый здесь католицизму, это упрек в профанации духовных истин христианства, трактуемых Западной Церковью в образах и понятиях, максимально приближенных к бытовому «здравому смыслу». Папа объявляется «главой Церкви», а его мнение – главным критерием истины в вопросах вероучения. «Это очень просто и в каком-то смысле очень удобно (один решает за всех), но совершенно несогласно с духом Нового Завета, так как при этом мысль и совесть церковная обрекаются на молчание»24. В области же догматики слова о «главе Церкви» производят «филологический кульбит», отмеченный многими апологетами Православия: если Папа – «глава», то собственно Церковь оказывается «телом Папы», а не «телом Христа», как учит христианская экклесиология. Попытка «упростить» церковную структуру ведет к непроизвольному кощунству.
И так происходит всюду, где возникает «соблазн рационализации» того, что для православного является «потаенным и таинственным», открывающимся постепенно каждому в той мере, в какой он, «по силе жития» может на данный момент «вместить». Так, например, таинственное воплощение Святых Даров в Плоть и Кровь Христову во время эпиклезы (нисхождения Святого Духа во время Евхаристического Канона) остроумное казуистическое положение католического богословия о «субстанции без акциденции» превращает в понятную каждому «метаморфозу» – превращение хлеба в «мясо», не имеющее только внешнего вида «мяса», «мясной акциденции». В результате – православные причащаются таинственной Божественной Плоти, не задумываясь о Ее «субстанциональности», а лишь веруя в ее реальность («Верую, что сие есть самая пречистая плоть Твоя»), а католики… едят «мясо Бога» под видом хлеба. Последнее, конечно, куда менее «целомудренно», хотя и более конкретно25.
Мы привели лишь два примера, отличающих «земной» прагматизм католицизма от спиритуальной «агностичности» православного мышления. У Гумилева, в ряду подобных примеров, выступает, прежде всего, опыт католической молитвы.
В отличие от крайне сдержанного, жестко ограниченного каноническими текстами православного молитвенного правила, католичество практикует в молитвенной практике «мистический сентиментализм», перенося сюда аффекты, свойственные чувственной земной любви, вплоть до экстатических переживаний «любви ко Христу», до видений эротического рода, которые православный молитвенный опыт однозначно определяет как особо утонченное сексуальное духовное «прельщение». Само убранство католического храма («пурпур» и реалистические иконописные изображения «мучеников томных и белизны их обнаженных тел», по замечанию Гумилева) споспешествует развитию мечтательной фантазии в подобном направлении. Очень жестко писал об этом А. Ф. Лосев: «Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти страстные взирания на Крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены тела Его, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и т. д., и т. д… Это, конечно, не молитва и не общение с Богом. Это – очень сильные галлюцинации на почве истерии, то есть прелесть. И всех этих истериков, которым является Богородица и кормит их своими сосцами, всех этих истеричек, у которых при явлении Христа радостный озноб проходит по всему телу и между прочим сокращается маточная мускулатура, весь этот бедлам эротомании, бесовской гордости и сатанизма – можно, конечно, только анафемствовать. (Замечу, что я привел не из самого яркого. Приводить самое яркое и кощунственно и противно). В молитве опытно ощущается вся неправда католицизма»26. Схожие переживания заставляют лирического героя Гумилева «бежать» из Падуанского собора:
От пурпура, от мучеников томных,
От белизны их обнаженных тел,
Бежать бы из-под этих сводов темных,
Пока соблазн душой не овладел.
Если стихотворение «Падуанский собор» было навеяно «итальянским» путешествием Гумилева 1912 года, то «Евангелическая церковь» является, вероятно, ретроспективным воссозданием переживаний, испытанных поэтом в отроческие годы. Напротив гимназии Я. А. Гуревича, которую в 1896–1900 гг.
посещал Гумилев, в огромном комплексе зданий психиатрической лечебницы, который занимает целый квартал в начале Литовского проспекта, находилась лютеранская кирха. По обычаю того времени, над ней был поднят Андреевский флаг-точно такой, какой был принят на русском флоте-перекрещенные из угла в угол полотнища синие полосы на белом фоне. Кирха находилась и в Царском Селе неподалеку от Николаевской гимназии, где поэт завершал свой школьный курс. Очевидно, юный Николай Степанович, любопытствуя, присутствовал на протестантских богослужениях. Свои отроческие и юношеские впечатления он и вспоминал в 1919 году:
Тот дом был красная, слепая,
Остроконечная стена.
И только наверху, сверкая,
Два узких виделись окна.
Я дверь толкнул. Мне ясно было:
Здесь не откажут пришлецу.
Так может мертвый лечь в могилу,
Так может сын войти к отцу.
Дрожал вверху под самым сводом
Неясный остов корабля,
Который плыл по бурным водам
С надежным кормчим у руля.
А снизу шум взносился многий,
То пела за скамьей скамья,
И был пред ними некто строгий,
Читавший Книгу Бытия
И в тот же самый миг безмерность
Мне в грудь плеснула, как волна,
И понял я, что достоверность
Теперь навек обретена.
Однако, как и при углубленном созерцании католической храмовой молитвы, так и теперь, слушая пение протестантов-евангелистов, православный поэт не может скрыть странное негативное переживание, неизбежно возникающее в конце посещения «евангелической церкви»:
Когда я вышел, увидали
Мои глаза, что мир стал нем.
Предметы мира убегали,
Их будто не было совсем.
И только на заре слепящей,
Где небом кончилась земля,
Призывно реял уходящий
Флаг неземного корабля.
Это-тоже «соблазн», хотя и иного рода, нежели тот, который был пережит лирическим героем в католическом Падуанском соборе. Если католицизм предстал в гумилевском творчестве в грубой, исступленной, «телесной» чувственности своей мистики, то протестантизм оказывается здесь вовсе «бесплотной», призрачной верой, нисколько не связанной с повседневным бытием христианина, «неземным кораблем», уводящим в запредельные высоты чистого умозрения.
И это эмоциональное личное лирическое впечатление, опять-таки, имеет весьма ясное богословское истолкование. В отличие от «религиозного прагматизма» католиков, пороком протестантизма тут оказывается «религиозный субъективизм», сведение церковной жизни и, прежде всего, – церковных таинств – к ряду «символов» или «символических действ», которые совершаются в назидательных целях, «в воспоминание» дела спасения, уже совершенного Христом. «…Понятие об аскезе, понятие о борьбе со грехом, часто многолетней, тяжкой, с потом и кровью, о преодолении греховного начала в самом себе, собственных страстей и греховных навыков у них полностью отсутствуют. Если человек уже спасен, то как можно серьезно относиться к аскетическому деланию? Поэтому у протестантов и нет постов, нет внешних мер воздержания, поэтому и богослужения воспринимаются как некоторая дань, которую нужно отдать Богу, а не как средство внутреннего аскетического возрастания»27.
И католический и протестантский храмы в произведениях Гумилева оказываются вехами в жизненном странствии его лирического героя. И в «Падуанском соборе», и в «Евангелической церкви» герой пребывает весьма краткое время, и это четко фиксируется самой организацией повествования: в обоих случаях герой сначала видит храмовое здание извне, затем входит внутрь храма и переживает впечатления, связанные с его убранством и храмовым молитвенным действом, а затем покидает храм.
А в тех стихотворениях Гумилева, где речь идет о православном храме тип повествования резко меняется. Образы «белого монастыря» в «Пятистопных ямбах», церкви на погосте в «Городке» и «верной твердыни Православья» – Исаакиевского собора в «Заблудившемся трамвае» завершают развитие образных систем в данных текстах. Это – эмблема итога, финала, предела, который надо достигнуть в жизни. Герой Гумилева не покидает православный храм, он как бы остается там, «странничество» здесь прекращается, дальше идти некуда и незачем:
Есть на море пустынном монастырь
Из камня белого, золотоглавый,
Он озарен немеркнущею славой.
Туда б уйти, покинуть мир лукавый,
Смотреть на ширь воды и неба ширь…
В тот золотой и белый монастырь!
Примечания
1 По книге: Зобнин Ю. В. Николай Гумилев – поэт Православия. СПб., 2000.
2 Семейные предания упоминают прародителем пращуров Анны Ивановны – бежецких Милюковых и Львовых – некоего «князя-воеводу Милюка», о котором доподлинно ничего не известно. Возможно, изначально под легендарным «Милюком» разумелся Семён Мелик, воевода Сторожевого полка московской рати на Куликовом поле, один из героев битвы 1380 г., от которого и пошла вся чрезвычайно разветвлённая родословная дворян Милюковых. В той же семейной генеалогии есть указание, что «по грамоте царя Федора Алексеевича в 1682 г. Якову Ивановичу Милюкову за участие в войне с Турецким султаном и Крымским ханом пожалованы поместья в Новоторжковском и Бежецком уездах», но насколько эта информация соотносится с непосредственными предками Гумилёва со стороны матери – на настоящий момент не установлено. Достоверно известно, что по переписным книгам 1686 г. родовое гумилевское «сельцо Слепнёво» Ивановского стана Бежецкого уезда было записано за Потапом Васильевичем Милюковым, а во время переписи 1710 г. Слепнёвым совместно (тремя долями) владели братья Алексей Потапович (40 лет) и Никифор Потапович (37 лет) Милюковы и их малолетний (2 года) племянник Фёдор Андреевич Милюков. Во второй половине XVIII века владельцем Слепнёво был Иван Фёдорович Милюков, согласно семейным преданиям – офицер, участник «сражения под Очаковым» (вероятно, имеется в виду сам штурм крепости 6 декабря 1788 г. после длительной осады во время Второй Турецкой войны 1787–1891 гг.). Его дочь Анна Ивановна Милюкова (1772–1842 или 1857 (?)) получила Слепнёво в приданое, сочетавшись со старицким помещиком Львом Васильевичем Львовым (1764–1824 или 1825), выпускником сухопутного шляхетского корпуса, служившим под началом Г. А. Потёмкина и А. В. Суворова, участником осады Очакова и знаменитого штурма Измаила. В отставку он вышел в чине секунд-майора, играл видную роль в общественной жизни Тверской губернии, в 1809–1812 гг. заседал в Бежецком уездном суде. Его сын, лейтенант флота Иван Львович Львов (1806–1862, дед поэта) был участником обороны Севастополя 1854–1855 гг. Он женился на Юлиании Яковлевне Львовой, урождённой Викторовой (1814–1865), дочери Якова Алексеевича Викторова (1780–1872), помещика Старо-Оскольского уезда Курской губернии, воспетого правнуком героя Наполеоновских войн: «Мой прадед был ранен под Аустерлицем / И замертво в лес унесён денщиком, / Чтоб долгие, долгие годы томиться / В унылом и бедном поместье своём». Героические родовые предания Милюковых, Львовых и Викторовых Анна Ивановна рассказывала сыну, пробуждая в нем чувство патриотической воинской гордости.









































