Текст книги "Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала ХХI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934"
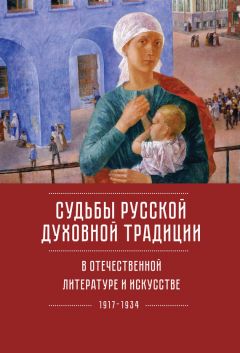
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
3 Далее ссылки на тексты стихов, напечатанных в этом издании, будут даваться после цитаты в квадратных скобках. Первая цифра означает том, вторая – страницу.
4 См.: Максимов Д. Е. Поэзия и проза Александра Блока. Л.: Советский писатель, 1975. С. 6–143, 144–174.
5 Это подтверждают гениальные вокальные циклы Г. В. Свиридова на стихи Блока: в них очевиден внимательный отбор и смысловые образные связи наиболее глубоких в религиозном отношении, здоровых и светлых произведений поэта, часть которых здесь цитировалась.
Космическое христианство Андрея БелогоА. Л. Казин
Среди наследников серебряного века в русской литературе советского периода сразу после Блока следует назвать Андрея Белого – не только потому, что оба были – и оставались после революции – крупнейшими символистами, но, прежде всего, в силу значимости христианской темы для творчества обоих. Особенно это касается Белого. Не будучи, в отличие от друга-врага Блока, гениальным поэтом, Белый постоянно обращал своё универсальное творческое сознание к образу Христа – и в прозе, и в поэзии, и в публицистике, и в теории символизма. Иногда всё творчество Андрея Белого называют эстетическим христианством. Другое дело, какое это было христианство. И было ли оно христианством вообще.
За неимением места, не будем углубляться здесь в литературную и мировоззренческую историю писателя и мыслителя Белого до 1917 года. Отметим только, что этот главный теоретик символистского движения прошел в своё время через юношеский культ св. Серафима Саровского1, но позже, на рубеже 1910-х годов, пытался построить всеобъемлющую теорию символизма как жизнестроения, в котором мистика, искусство, наука, религия, философия, политика составляли бы органические элементы единого творческого синтеза. В качестве принципа-лозунга искомой универсальной теории Белый выдвигал формулу: Символ есть Единое. Обоснованию этой мысли посвящена его книга «Символизм» с её центральным разделом «Эмблематика смысла»2. И хотя многие профессиональные философы, такие, например, как Ф. А. Степун или Г. Г. Шпет, свысока относились к теориям Белого, нельзя пройти мимо них, так как без этого невозможно понять отношение Белого к христианству – и, соответственно, христианства к творчеству Андрея Белого.
Мысль автора «Символизма» сосредоточена на определении Символа как всеобщей культуросозидающей категории. Не случайно книга «Символизм» открывается небольшой вводной статьей «Проблема культуры». Такая постановка вопроса свидетельствует о том, что образы искусства, понятия науки, моральные заповеди, равно, как и ключевые имена мировых религий, для автора суть прежде всего культурные символы – не более того и не менее. Для Белого-символиста неприемлема никакая отвлеченность, возведенная в метафизический абсолют – идея, бытие, воля. Это касается и традиционного понятия Бога. Однако для Белого-художника недостаточно теоретического отказа от вышеназванных «догматических» начал – он стремился овладеть всеобщим идеальным корнем сущего, всякое частное – в том числе религиозное – выражение которого, с символистской точки зрения, уже вторично. Этот корень и есть Символ. По существу, под Символом (с большой буквы) Белый понимал некий таинственный, несказанный исток истории и культуры, да и самого бытия. Символ как
Единое неопределим никак. Про него даже нельзя сказать, существует он или нет. Он лишь символизируется в бесконечных рядах творческих актов человека. Всё запредельное Символ делает интимно близким, и наоборот, всё наличное возводит к потустороннему. Осознающий указанное единство символист как бы посвящается в новую, поистине авангардную религию, возвышаясь тем самым над всеми «историческими», «слишком условными» вероисповеданиями. Все они культурно равно правы и равно не правы перед лицом Символа3.
Таковы исходные условия символистской трактовки христианства. Подчеркнем, именно символистской, поскольку после 1913 года автор «Символизма», в определенном отношении, «перешел в другую веру» – антропософскую. И хотя Белый в 1928 году написал специальную работу «Почему я стал символистом и не переставал им быть на всех стадиях…», где доказывал свою верность ранее избранному мировоззрению-методу, всё же знакомство с Рудольфом Штейнером, последующая мистическая практика и строительство антропософского храма в Швейцарии (1913–1916) оказались слишком радикальными духовными и экзистенциальными событиями, чтобы не затронуть глубинных основ его религиозно-творческого самоопределения. В первую очередь это касается образа Христа.
Среди имен собственных, присутствующих в произведениях позднего Андрея Белого, чаще всего встречаются эти два – Иисус Христос и Рудольф Штейнер. Мы имеем в виду не только его опубликованные в советской печати поэмы, романы и статьи, но и неопубликованные, или опубликованные частично, или увидевшие свет за границей, или вовсе не предназначавшиеся для печати (например, письма). Можно сказать, что Штейнер оказывается для Белого в этот период «вторым богом», автором «пятого евангелия». Причем особенно явственно влияние мистического «доктора» ощущается именно в «христианских» строках писателя – как в поэзии, так и в прозе. Вплоть до своей смерти в 1934 году в качестве «советского писателя», Андрей Белый – убежденный антропософ, в мировоззрении и творчестве которого «христианский импульс» выступает одним из аспектов – хотя и важнейшим – оккультно-символистского синтеза.
Выражаясь кратко, антропософия Штейнера – это мистическое учение, ставящее на место Бога обожествленного человека. Все, что происходит в антропософском космосе – особенно в переживании поэта Белого – это события внутри человеческого сознания и сверхсознания, расширенного до пределов вселенной. Христос здесь менее всего Христос Евангелия – это именно космический световой луч, оказывающийся вместе с тем лучом взгляда самого мистика-автора. В тексте одного из самых сильных стихотворений Белого, посвященных «христианскому» истолкованию русской драмы 1917 года, мы встретим и кольца Сатурна (антропософская прародина людей), и фосфорически кипящее земное ядро – и Христа, сходящего к страждущей России именно с высоты этих космических иерархий:
РОДИНЕ
Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!
В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины, —
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.
Не плачьте: склоните колени
Туда – в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!
Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.
Пусть в небе – и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро, —
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня.
Россия, Россия, Россия, —
Мессия грядущего дня!
(1917)
Спаситель здесь – крылорукий дух, родственный по природе млечному пути, а вовсе не вторая ипостась Пресвятой Троицы, единосущный Создателю мира. Не говоря уже о том, что сами Сатурн и млечный путь в стихотворении Андрея Белого располагаются внутри беспредельного человекобожеского горизонта, они суть плоды испирации и интуиции, но отнюдь не элементы реального космоса. «Религиозным, – писал Белый-символист ещё в 1906 году, – называю я всё, что, исходя явно или скрыто из постулата противоположения Я и не-Я, питает идею о их синтезе, соединении, которая и есть связь или религия»4. Не удивительно, что Христос в такой системе координат оказывается именно «не-Я», то есть предстает перед лицом всесильного мистического Я человека. Такой же предстает и революция, «революция чистая, революция собственно», которая «ещё только идет из туманов. Все иные же революции по отношению к этой последней – предупреждающие толчки, потому что они буржуазны» и находятся внутри истории5.
В настоящей работе мы не можем подробно рассматривать все грани отношения Андрея Белого как писателя и мыслителя к православному христианству – от повести «Котик Летаев» 1915 года, где он описывает мистический опыт ребенка до «Записок чудака» (1919), где он повествует о своём близком к безумию состоянии после принятия антропософского посвящения. Пожалуй, наиболее выразительным является пассаж из письма о «Глоссолалии» (поэме о космическом звуке), где гордая идея сотворения мира человекобогом доводится до предела, помещаясь у него… во рту: «Мир, построяемый языком в нашей полости рта, есть точно такой же мир, как вселенная: семь дней творения звуков во рту аналогичны семи дням творения мира; некогда слова оплотнеют материками и сушами, а языки превратятся в целые планетные системы со зверями, птицами и людьми; по отношению к этим мирам мы будем Элохимами»6.
Центральными произведениями Андрея Белого советского периода, связанными, так или иначе, с христианской темой, являются поэма «Христос воскрес» и цикл романов «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски», объединенных под названием «Москва» (1926–1932).
«Христос воскрес» – это непосредственная перекличка с «Двенадцатью» Блока, написанная четырьмя месяцами позднее (апрель 1918 года). Кроме объединяющей их темы революции, в поэме Белого мы встречаемся даже с теми же героями – расслабленным интеллигентом, витийствующем о Константинополе, разбойниками, членами домового комитета, и др. Однако Христос здесь иной, чем у Блока, или, скажем Есенина – не «скифский» и не крестьянский (три поэта входили в первые годы революции в литературную группу «Скифы»), а Христос «световой атмосферы», хотя и явленный в сценах распятия предельно натуралистично:
1
В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
В народах,
В сплошных
Синеродах
Небес
– Да пребудет
Весть:
– «Христос
Воскрес!»
Есть.
Было.
Будет.
2
Перегорающее страдание
Сиянием
Омолнило
Лик,
Как алмаз, —
– Когда что-то,
Блеснувши неимоверно,
Преисполнило этого человека…
Это начало поэмы. А вот 4-я глава:
Кровавились
Знаки,
Как красные раны,
На изодранных ладонях
Полутрупа.
А вот – её завершение:
Я знаю: огромная атмосфера
Сиянием
Опускается
На каждого из нас, —
Перегорающим страданием
Века
Омолнится
Голова
Каждого человека.
Дело не в том, что казнь Сына Божьего представлена в поэме почти как у Гольбейна Младшего на картине «Мертвый Христос», от которой, по отзыву героя «Идиота» Ф. М. Достоевского, может вера пропасть. Дело в том, что и в начале, и в середине, и в конце поэмы образ Христа явлен читателю именно как образ человека: «Солнечного Человека», «омолненного» человека, но чело-века-бога, а не Богочеловека. И тогда раскрывается смысл мистерии, в которой революционная Россия становится облеченной солнцем Женой (один из главных символов русского символизма вообще), а молния-слово стоит посередине сердца каждого, причастного этому антропософскому чуду. «Моя воля с первых лет юности была бунтом дерзания, питаемой волей к новой культуре, а не смиренным склонением, питаемым богомольностью» – писал Белый в трактате «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития»7. И в таком плане он совершенно прав.
В 1923 году в Берлине вышел большой том Андрея Белого «Стихотворения». Вот что там говорится о поэме «Христос воскрес»: «Поэма была написана приблизительно в эпоху «Двенадцати» Блока; вместе с «Двенадцатью» она подвергалась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот вздор автор даже не мог печатно ответить (по условиям времени), но для него было ясно, что появись «Нагорная проповедь» в 1918 году, то и она рассматривалась бы с точки зрения «большевизма» или «антибольшевизма». Что представитель духовного сознания и антропософ не может так просто присоединиться к политическим лозунгам, – никто не подумал; между тем тема поэмы – интимнейшие, индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал ещё мейстер Эккарт; о том писал апостол Павел. Современность – лишь внешний покров поэмы. Её внутреннее ядро не знает времени»8.
В самом деле, революция, и вообще злоба дня у поэта – лишь поверхностное отражение небесной битвы. И Майстер Экхарт в XIII веке действительно касался этого в своей имманентистской концепции фактического тождества Бога и человека, то есть был – на свой лад, разумеется, – давним предшественником Р. Штейнера и самого Белого. Что же касается апостола Павла, то его учение о Втором лице Троицы не оккультно-антропософское, а христианское. Бог-Сын у него не «вспыхнувшая вселенной» голова человекобога, а вочеловечившийся Дух, единосущный Отцу.
Цикл романов Андрея Белого «Москва» (1926–1932) – это своего рода завершение трилогии, начатой ещё в 1909 году «Серебряным голубем» и продолженной затем его знаменитым «Петербургом». Если «Голубь» ещё вполне символистский по мировоззрению и методу (обличение «дурного Востока» в России), то «Петербург» – уже наполовину антропософский (обличение «дурного Запада» в России). «Москва», по замыслу Белого, должна была в центральной своей идее преодолеть эти односторонности, и вывести на авансцену русской истории положительного героя (почти как у его любимого Гоголя во втором томе «Мертвых душ). По стилю письма «Москва», как и «Петербург» – всё та же изысканная «орнаментальная проза», однако главный герой её, профессор Коробкин – математический гений и русский патриот, сделавший открытие мирового (в том числе военного) значения, за которым охотится германский шпион-масон-иезуит Мандро, изнасиловавший собственную дочь. Как и многие другие произведения Белого, роман носит автобиографический характер – в частности, за фигурой Коробкина угадывается отец автора, а за образом дочери Мандро Лизаши – бросившая автора жена Ася9. Есть также в романе таинственный доктор Доннер (по-немецки «гром», прообразом данного персонажа был сам Штейнер), направляющий негодяя Мандро, и не менее могущественный Соломон Самуилович, по прямому поручению которого Мандро охотится за открытием Коробкина. Сквозной сюжет «Москвы» построен как история взаимоотношений Коробкина с Мандро, начиная с чудовищной пытки, устроенной Мандро профессору, и кончая прощением Коробкина своего мучителя, с которым они стали «братьями в солнечном городе».
Не удивительно, что роман «Москва» прошел цензуру Главлита – глубинная мистика действия была хорошо спрятана Белым за «антибуржуазным» повествованием, целью которого, как следует из авторского комментария, было показать тяжесть довоенной жизни в России, октябрьский переворот и «новый реконструктивный период»10. Вполне советская тематика. Однако на самом деле «Москва» – это апофеоз антропософского «эстетического христианства» неуклонного последователя Штейнера, начиная с космического посвящения («Открылась бездна, звезд полна» – Михаил Ломоносов) и кончая прямым авторским указанием, что «звезда, упавшая свыше в разбитое отверстие черепной „коробки“ Коробкина, есть его космическое расширение, делающее его воином армии спасения мира от Дракона»11. В любом случае, Белый мог сказать о себе что в «Москве» «я играл с ВКП(б) сложную партию игры; и эту партию я выиграл»12.
Подводя итог краткому рассмотрению христианской темы в творчестве Белого советского периода, заметим, что вся религиозная проблематика у автора поэмы «Христос воскрес» и романа «Москва» – это специфическая символистско-антропософская «мозговая игра» внутри черепной коробки автора/ героя (отсюда и псевдоним «Коробкин»). Надо отдать должное Андрею Белому: в годы торжествующего атеизма он оставался глубоко верующим писателем и мыслителем-идеалистом, верным сыном России. Другое дело, что, по точному суждению Н. А. Бердяева, Белый «обоготворяет лишь собственный творческий акт. Бога нет как Сущего, но божествен творческий акт. Бог творится»13. Этот отзыв относится к эпохе «Символизма», но с поправкой на оккультное учение германского «доктора» это целиком применимо и к автору «Москвы». «К Абсолютному нет путей, которые начинались бы не с Абсолютного, на первой ступени надо уже быть с Богом, чтобы подняться на следующие»14. Если в первое (собственно символистское) десятилетие творческой жизни Белого религия делается у него искусством, то позднее она становится гнозисом, молитва – медитацией, творчество – практической магией. Противостояние святое/грешное заменяется оппозицией знание/незнание.
Всю жизнь Андрей Белый «золотому блеску верил», а умер, как и предвидел когда-то, «от солнечных стрел» (последствий крымского солнечного удара), как раз накануне первого Съезда советских писателей, на котором он хотел выступить:
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему цветок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.
Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.
Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь —
Вернусь!
(1907)
Примечания
1 Вот раннее стихотворение Белого, посвященное Святому:
Св. Серафим
Плачем ли грустно в скорбях,
Грудь ли тоскою теснима —
В яснонемых небесах
Мы узнаем Серафима.
Что с тобой, радость моя, —
«Радость моя?…»
Смотрит на нас ласково
Ликом туманным, лилейным.
Бледно-лазурный атлас
В снежнокисейном.
Бледно-лазурный атлас —
Тихо целует,
Бледно-лазурный атлас —
В уши нам дует:
«Вот ухожу в тихий час…
Снова узнаете горе вы!..»
С высей ложится на нас
Отблеск лазоревый.
Легче дышать
После таинственных знамений:
Светит его благодать
Тучкою алого пламени
(1903)
2 М. Изд. «Мусагет», 1910.
3 Подробнее см.: Козин А. Л. Андрей Белый: Начало русского модернизма // Вступительная статья и комментарии к изданию: Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 тт. М., Искусство, 1994.
4 Белый А. (под псевдонимом Taciturno). Искусство прошлого и искусство будущего // Перевал. 1906, N2 2. С.50.
5 См.: Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 2. С. 462.
6 Белый А. Письмо Р. В. Иванову-Разумнику от 5.9.1917 // Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Подготовка текста А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб. Atheneum, Феникс, 1998. С.133.
7 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 423.
8 Цит. по: Мочульский К. В. Андрей Белый. Париж. Tweet, 1955. С. 584.
9 Подробно см. об этом: Спивак М. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006.
10 См.: Белый А. О себе как о писателе // Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Публ., предисл. и коммент. Дж. Мальмстада. СПб. Издательство Ивана Лимбаха, 2001. С. 326.
11 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С.426.
12 Цит. по: М. Спивак. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 229.
13 Бердяев Н. Русский соблазн (по поводу «Серебряного голубя» А. Белого) //Типы религиозной мысли в России. Париж. YMCA-Press. 1989. С. 428. «Боготворение» Белого, как и горьковское «богостроительство», например – характерные для модерна модусы человекобожеской мифологии, восходящие к общей постренессансной идее равноправного диалога Творца и твари.
14 Там же. С. 429.
Николай Гумилев – поэт Православия1Ю. В. Зобнин
Великий русский поэт Николай Степанович Гумилев был младшим из двух сыновей кронштадтского морского врача Степана Яковлевича Гумилева, незаурядного военного медика и горячего патриота, посвятившего большую часть жизни созданию системы гигиены и охраны здоровья на судах первой броненосной эскадры Российской Империи. Примечательно, что сын священника, С. Я. Гумилев получил начальное образование в Рязанской семинарии; избрав затем гражданское поприще, он сохранял приверженность к домашнему благочестию.
Мать поэта Анна Ивановна, урожденная Львова, происходила из поместных дворян, владевших землями в Тверской и Курской губерниях. В ее роду были многочисленные воины, снискавшие себе славу в боях с Крымским ханом, сражениях под Очаковом, Измаилом и Аустерлицем2. Выросшая в патриархальной среде родового поместья Слепнево, прекрасная хозяйка и заботливая мать, Анна Ивановна ревностно сохраняла в своем семействе национальные духовные традиции. «Когда сыновья были маленькие, – писала, вспоминая семейные рассказы, ее невестка А. А. Гумилева-Фрейганг (один из первых биографов поэта), – Анна Ивановна им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: „Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя“. Дети воспитывались в строгих правилах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней – глубоковерующим христианином»3.
В ранней юности, как и большинство сверстников, Гумилев пережил период «декадентских дерзаний», очень яркий по событиям в жизни и творчестве, но и очень краткий. Уже в 1907 году, в неоконченной философской повести «Гибели обреченные» Гумилев обращается к образу Спасителя, Который, являясь под именем бродячего мудреца Эгаима (т. е. «Бога богов»4), вершит суровый суд над беззаконными пророками «новой красоты»:
– Они прекрасны, они обольстительнее утренних звёзд. Но они дети не нашей земли, они пришли издалека. Её горести, её надежды для них чужды, и за то Я обрекаю их гибели!
В целом ряде религиозно-философских лирических шедевров раннего Гумилева («Сегодня у нашего берега бросил…», «Крест», «Неслышный, мелкий падал дождь…») ярко изображается духовная драма поколения, переживающего искушения ницшеанского богоборчества, эстетизма и «оккультного возрождения»:
Из двух соблазнов, что я выберу,
Что слаще – сон иль горечь слез?
Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю,
Явился в облаке Христос.
Он превращает в звезды горести,
В напиток солнца жгучий яд,
И созидает в мертвом хворосте
Никейских лилий белый сад.
(«На льдах тоскующего полюса…»)
Наконец, пережив на Пасху 1911 г. некий род эпифании, воспринятой им как обетование спасения через грядущее мученичество, Гумилев окончательно утвердился в природной вере:
В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.
(«Счастье»)
В том же 1911 году вместе с поэтом-фольклористом С. М. Городецким Гумилев, отвергнув декадентство и символизм, создает литературное объединение «Цех поэтов», одной из главных установок которого было стремление соединить русскую поэзию с традиционным для народного мировосприятия духовным основанием. Пятеро поэтов, главных энтузиастов этой идеи – Гумилев, его жена Анна Ахматова, Городецкий, Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич и Владимир Нарбут-составили внутри «Цеха» особый кружок «Акмэ» (др. – греч. «вершина», «высшая стадия развития»), от названия которого и происходит «акмеизм», т. е. зрелое мастерство, преодолевшее декадентские крайности символизма.
Гумилев в истории русской литературы XX столетия – поэт Православия, носитель православной сотериологической культуры, принимаемой им безусловно и всецело во всех ее внешних проявлениях, которые для него наполнены глубоким и ценным смыслом. Организующим центром гумилевского мировоззрения являются те истины и ценности, которые присущи поэту как православному христианину, а периферией – все многообразие жизненных впечатлений, переживаний, интересов и т. п., подчас весьма далекое, а иногда и прямо конфликтующее с воцерковленным строем мысли и чувства. В этом многообразии, равно как и во внутренних конфликтах, иногда, в некоторые периоды творчества, достигавших большой остроты, – нет ничего противоречащего нормальной духовной работе, присущей любому православному мирянину, каковым являлся и каковым сознавал себя Гумилев. Его ученик Н. А. Оцуп, писавший о «ревностном православии» учителя, о том, что он «в глубине души <…> судит самого себя по законам христианской морали», специально оговаривался: речь идет о мирском христианстве и о творчестве светском. «Везде Гумилев, – пишет Н. А. Оцуп, – <…> остается самим собой – простым и добрым верующим, который целиком отдается разнообразным радостям жизни <…> страстным поклонником искусства и природы»5. Подытоживая это суждение, можно сказать, что духовный и творческий облик Гумилева – человека, художника и мыслителя не исчерпывается его православностью, но организуется ею. Это значит, что взятые вне соотнесенности с этим организующим центром, воспринятые вне контекста православной духовной работы, непрерывно совершавшейся в Гумилеве с первых лет творчества и буквально до последнего часа жизни, – факты его творческой биографии теряют содержательность, рассыпаются, делаются доступными для любых, прямо взаимоисключающих произвольных толкований.
Богопознание – в отличие от большинства современников по серебряному веку, предпочитавших произвольные фантазии «на христианские темы» – предстает у Гумилева как процесс сознательного воцерковления. Первая вехой этого пути, после того как он преодолел юношеский «декадентский соблазн», оказывается стихотворение «Христос» (1910):
Он идет путем жемчужным
По полям береговым.
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.
«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода».
Е. Вагин писал об этом стихотворении, как о редком в искусстве серебряного века воплощении «евангельски-чистого» образа Спасителя: «Надо сказать, что Н. Гумилев совершенно „выпадает“ из русской интеллигенции: его высокий (и – надо добавить – практический, жизненный) идеализм не имеет ничего общего с традиционной интеллигентской „гражданственностью“, этой вечной игрой в оппозицию с неизбежной демагогией и стадными инстинктами, жестоко высмеянными еще Достоевским. Полное отсутствие стадного инстинкта – столь характерного для российского интеллигента – „оппозиционера“ – и отмечает ярче всего личность Гумилева, его поэзию. Его часто обвиняют в индивидуализме, – но это неправда: у него нет ничего оттого дешевого ницшеанства, который был в моде в начале века. Повышенное чувство личности, персонализм Гумилева – это не болезненный, эгоистический индивидуализм самоутверждения за счет других. <…> Сам поэт нашел для своих убеждений прекрасную формулу: „Славянское ощущение равенства всех людей и византийское сознание иерархичности при мысли о Боге“. „Мысльо Боге“-постоянная и естественная – заметно выделяет Гумилева и его поэзию»6.
Если говорить по-существу, то с мнением Е. Вагина, конечно, нельзя не согласиться. Однако нужно учитывать, что это, первое в данном тематическом ряду, стихотворение отражает переживания самого момента нового обретения поэтом «традиционной и церковной» веры во Христа, момента, следовательно, новой личной встречи со Христом, – и, потому, драматические мистические и психологические парадоксы православной сотериологии, свойственные религиозным переживаниям Гумилева не меньше, чем подобным же переживаниям у прочих «российских интеллигентов», здесь попросту подавлены единым цельным ощущением необыкновенной радости. Рассказчик, созерцающий Христа, идущего «путем жемчужным», находится как бы в состоянии эйфории и, потому, в данный момент, к рефлексии просто не способен.
Личные лирические мотивы обусловили и выбор евангельского эпизода, воплощенного в стихотворении: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним» [Мф. 4: 18–20]. Это – самое начало евангельского повествования, самое начало Служения Господня. Все драмы и ужасы – и отступление учеников, и неприятие Евангелия «своими», и заговор против Иисуса, и Гефсимания, и Голгофа – все впереди и сейчас кажется невероятным, невозможным. Это – момент торжества Встречи, не омраченный ничем – Царство Небесное открылось перед глазами людей во всем невыразимом и невиданном великолепии: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» [Ин. 1: 51].
«Земное» кажется просто «ненужным» в ослепительном свете «небесного»: ни о каких сопоставлениях, ни о каких «соблазнах мира сего» сейчас, в этот момент и речи быть не может-
Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши.
Там – вечное и бесконечное благо, здесь – временное и косное существование. «Барыш» при обмене второго на первое бесконечно велик, счесть его, действительно, невозможно. «Предметом купли и продажи – небо!.. – восклицал Иоанн Златоуст. – Дай хлеб, и возьми рай; дай малое, и возьми великое; дай смертное, и возьми бессмертное; дай тленное и возьми нетленное. Если бы была ярмарка, и на ней продавали бы дешево и в большом количестве съестные припасы, и многое можно было бы приобрести за малую цену: не распродали бы вы имущества, и, оставив все в стороне, не приняли бы участия в таком торге?»7
Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды, —
восторженно вторит Гумилев. Самое страдание и смерть кажутся сейчас, в момент мощного восхода солнца Новой Эры, эры примирения Бога с человеком, легкими и необременительными:
Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца.
Упоминание о Доме Нежного Отца (ср.: [Ин. 14: 2–3]) в гумилевском тексте, напоминают здесь рассказчику, конечно, еще и притчу о блудном сыне, которую, год спустя, Гумилев также переложит в стихи, исполненные лирического пафоса:
Там празднество: звонко грохочет посуда,
Дымятся тельцы и румянится тесто,
Сестра моя вышла, с ней девушка-чудо,
Вся в белом и с розами, словно невеста.
За ними отец… Что скажу, что отвечу,
Иль снова блуждать мне без мысли и цели?
Узнал… догадался… идет мне навстречу…
И праздник, и эта невеста… не мне ли?!
(«Блудный сын»)
Входящий в чертоги Отца, действительно, не может сожалеть о покинутом «домике в Галилее». Поэтому-
Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.
Как мы уже сказали, стихотворение «Христос» показывает нам переживания Гумилева в первую пору его сознательного воцерковления, в момент потрясения души, восставшей и ликующей. Сейчас, в этот миг выбор между «земным» и «небесным», действительно, «не мучил» поэта. «…Это происходит в нашей жизни, особенно в начале нашего обращения к Богу, когда мы возбужденные той или иной красотой Божественной, восхищаемся, возбуждаемся, готовы на любой подвиг: и чрезмерно поститься, и помногу молиться, и милостыню творить, и за ближними ухаживать, – писал о состоянии неофита митрополит Иоанн (Снычев). – Все как будто бы нам легко! Но потом проходит этот порыв, и наступает период, когда мы остаемся один на один со своими естественными возможностями. И вот тут-то уже сил ни на какие подвиги не хватает, потому что нет еще у нас Божественной любви, которая достигается постоянством и смирением»8. Гумилев в этом не был исключением из общего правила. Если в 1910 году он не мучился выбором между «небом» и «землей», то в стихах 1916 года мы находим совсем иные мотивы:









































