Текст книги "Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала ХХI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934"
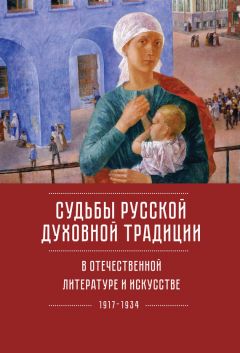
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Литературное творчество для Горького становится подлинным богослужением человека самому себе, строящему «бога»: «Отношение к литературе как к отхожему промыслу – цинично и подло. Богослужение – не ремесло, оно требует веры и любви, а литература – служение человечеству, кое создало даже и богов. <…> найдите в хаосе событий самого себя и поставьте свою волю в ряд воль, творящих общечеловечье, доброе, против воль, препятствующих этому великому творчеству, в коем и заключен смысл жизни» (И. Н. Захарову 23 июля 1911) [29, с. 172].
Даже в поздние годы жизни Горький в переписке не скрывает своих богостроительных убеждений: «Человек – чудо, [30, с. 75] единственное чудо на земле, а все остальные чудеса ее – результаты творчества его воли, разума, воображения. Он и богов выдумал потому, что все хорошее, что он в себе чувствовал, он не мог воплотить в реальную жизнь <…> Напрягайте всю силу Вашей воли. Когда чего-нибудь сильно хочешь – достигаешь всего, чего хотел. Человек все может сделать из себя» (И. В. Львову 24 февраля 1928 года) [30, с. 75–76].
Влияние философского богостроительства подтвердило еще детские представления Горького о божественном жизнетворчестве народа, навеянные сказками, песнями. С философией согласовалась и утвердившаяся с детства мысль о том, что народ творит усилиями своих выдающихся представителей, таких как Макар Чудра, старуха Изергиль, сам Горький, который то ли выдумал сказителей своих рассказов, то ли списал с жизни. К вождям-жизнетворцам, порожденным народом, писатель причислял и таких сочинителей, как совсем невыдуманные марксисты-богостроители с одной стороны, и, с другой – рьяный противник их построений материалист Ленин (в толковании Горького – человек по-своему духовный, богоносный).
Сам народ, от лица которого Горький и его кумиры (вымышленные и невымышленные) творили жизнь, представал у писателя каким-то неопределенным, во всяком случае не вполне русским в лице этих лучших и творческих представителей, вождей (русским только по языку, но не по духу и не по крови, что особо отмечалось). Дух русского народа был испорчен Православием – неправильной, по мнению Горького, верой, и этот дух портил русскую кровь.
В широком магическом понимании богостроительство у Горького стало выражаться начиная с первых рассказов. В узко философском смысле подобные взгляды наметились в драме «На дне» (1902), где они, высказываемые Сатиным, сначала противоречиво сочетаются, а в итоге согласуются с магией божественного творческого воображения, проповедуемой от лица Луки (как это согласование совершалось в душе самого Горького).
Лука проповедует: «А чего? Человек – все может… лишь бы захотел…» [6, с. 131]. Сатин разъясняет вероучение Луки: «Молчать! <…> Дубье… молчать о старике! <…> Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал… вы – нет! <…> Я – понимаю старика… да! Он врал… [6, с. 165] но – это из жалости к вам, чорт вас возьми! <…> А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!» [6, с. 165–166]. По сути, у Сатина, как и у Луки всякий сильный человек является источником «правды» как истины бытия, равно как и «ложь» его является источником этой истины и оборотной стороной правды. Ложь и правда образуют особую действительность, управляемую творцом лжи и правды: в границах жизнеустройства, творимого человеком, притязающим на божественность, то и другое равноценно и взаимообратимо. Сатин разъясняет: «Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… [6, с. 169] в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы… Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же остальное-дело его рук и его мозга! Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо!» [6, с. 169–170].
Самообожающийся человек царствует в средоточии горьковского мира, он определяет, что есть истина, что ложь, точнее, стирает границу между тем и другим как между противоположными гранями одного нераздельного целого, которое можно еще и поворачивать, как угодно. Ходасевич удивлялся постоянному вниманию, даже любви Горького к разнообразным проявлениям обмана, лжи: «"Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду", – писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году»8. Вопрос о взаимообратности истины и лжи – едва ли не главный в творчестве писателя.
Утешения лукавого (но и благовествующего, подобно тезоименитому евангелисту) Луки вполне выражаются в читаемых Актером строчках стихотворения «Безумцы» французского поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857) в переводе (1862) Василия Степановича Курочкина:
Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой! [6, с. 140].
Ложь может спасать, а правда – убивать (Актер, узнавший «правду», удавился). Впрочем, и губительная правда, и животворная ложь едины и неразрывны в мире Горького: и то, и другое годится в зависимости от сиюминутных потребностей определенного человека. В настоящем творчестве правда легко оборачивается ложью, ложь – правдой, и все это круговращение составляет истину жизнетворения, совершаемого силою человеческого божественного духа. Этому вопросу Горький посвятил одну из ранних сказок: «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины» (1893). Истина у Горького всегда двоится, порождая ложь, которая тут же оборачивается новой истиной, и так далее: «<…> все только и помышляют, как бы это поблагочестивее объегорить друг друга. Лгут и притворяются и по необходимости, то есть ради успеха в делах, и бескорыстно, науки и техники ради, и в видах бескорыстного служения чистому искусству лганья и притворства, и, наконец, без всякой видимой причины. Конечно, были факты и бескорыстной дружбы и самопожертвования и взаимопомощи. Я видел их много, и некоторые из них до сей поры цельны и чисты. Но большинство хорошего оказывалось, по некотором изучении, еще хуже дурного» («Биография», 1893) [1, с. 84].
По завершении «На дне» Горький пишет богостроительную поэму «Человек» (1903): «Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует – вперед! и – выше! трагически прекрасный Человек! Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них – лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья – творит богов, в эпохи бодрости – их низвергает» [5, с. 362].
Далее богостроительство отчетливо проявилось в романе «Мать» (1906), что отметил, например, М. Агурский: «Сам Павел Власов рассуждает в богостроительных терминах: "Я говорил не о том добром и милостивом Боге, в которого вы веруете, а о том, которым попы грозят нам, как палкой… В церкви нам пугало показывают… Переменить Бога надо, мать, очистить его". А еретик Рыбин высказывается более определенно: "Там, где Бог живет, – место наболевшее. Ежели выпадает он из души, – рана будет в ней, – вот! Надо… веру новую придумать… надо сотворить Бога – друга людям!". Сама Ниловна, совершающая духовную эволюцию, начинает ставить существование Бога в зависимость от людей: "Ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали!"»9.
Вершинным художественным воплощением богостроительства Горького стала повесть «Исповедь» (1907–1908). Здесь показан исконный и главный источник богостроительства в сознании писателя – антихристианское сектантство. Проповедует эти взгляды старик-странник Иона, иронично указывающий собственные духовные корни: он по духовной сути чуть ли не бес, или, по крайней мере, великий грешник («Шестьсот лет прошло!» как из ада) [8, с. 324]. Было у него и прозвище: «Зовут, – говорит, – Иегудиил, людям веселый скоморох, а себе самому – милый друг! <…> Был попом недолго, да расстригли и в
Суздаль-монастыре шесть лет сидел! За что, спрашиваешь? Говорил я в церкви народушке проповеди <…»> [8, с. 326–327].
По Ионе-Иегудиилу, вера – это и есть истина (соответственно, верный – истинный). Вера – суть человеческого самообожения, то есть осуществления своей божественности в творении мира сообразно собственной воле: «<…> вера – великое чувство и созидающее! [8, с. 329]. А родится она от избытка в человеке жизненной силы его; сила эта – огромна суть и всегда тревожит юный разум человеческий, побуждая его к деянию. Но связан и стеснен человек в деяниях своих, извне препятствуют ему всячески, – всё хотят, чтобы он хлеб и железо добывал, а не живые сокровища из недр духа своего. И не привык еще, не умеет он пользоваться силами своими, пугается мятежей духа своего, создает чудовищ и боится отражений нестройной души своей – не понимая сущности ее; поклоняется формам веры своей – тени своей, говорю! <…> Кто есть бог, творяй чудеса? Отец ли наш или же-сын духа нашего? <…> Не бессилием людей создан бог, нет, но – от избытка сил. И не вне нас живет он, брате, но – внутри! Извлекли же его изнутри нас в испуге пред вопросами духа и наставили над нами, желая умерить гордость нашу, несогласную с ограничениями волю нашу. Говорю: силу обратили в слабость, задержав насильно рост ее! Образы совершенства – поспешно делаются; это – вред нам и горе. Но люди делятся на два племени: одни – вечные богостроители, другие – навсегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею утверждают бытие бога вне человека, бога – врага людей, судию и господина» [8, с. 329–330].
Надо понимать неслучайность прозвища Ионы: Иегудиил (с еврейского – «Хвала Божия», «Славящий Бога») – один из семи архангелов: «Бог послал Иегудиила предшествовать Израилю, исповедающему единого истинного Бога, при покорении земли языческих народов»10. Основное имя старца – Иона – оттеняет смысл прозвища. В библии Иона – единственный из всех пророков, который был послан Богом просвещать не евреев, а язычников (жителей Ниневии). Через Иону шло мягкое, духовное покорение языческих народов, а через Иегудиила – жесткое, насильственное. Ясно, что под язычниками Горький понимал здесь всех, кого следовало обратить в истинную богостроительную веру.
Иегудиил Хламида – псевдоним, под которым Горький печатает свои ранние самарские фельетоны. Дав своему старцу Ионе, прозывавшему себя Иегудиилом, собственное свое раннее писательское прозвище, Горький подчеркнул близость себе богостроительных взглядов старца, а также изначальную укорененность этих взглядов в своем творческом самосознании. Важно и то, что имя архангела Иегудиила известно по церковному библейскому преданию, а не Писанию. Собственно в еврейском предании, толкующем Ветхий завет, имена архангелов связаны с каббалистической магией, послужившей важным источником для становления масонского, теософского и антропософского магизма эпохи серебряного века. Горький с удовольствием припадал к этим книжным источникам, и основной перевод имени архангела как «Хвала Божия» воспринимался им как хвала человеку, в котором сияет божественная благодать, и который как богочеловек прославляет в своем творчестве собственное божественное достоинство. Предназначение Иегудиила – не только прославлять Бога, но и быть пастырем народа на пути к Богу (то есть к своему собственному божественному достоинству, согласно Горькому) – и тем самым, покорять все разнообразие язычества истинной вере.
Вместе с тем, язычество Горький любил и ценил, чувствуя в духовной основе многобожия нечто родственное своему собственному магизму, питаемому всебожием. Язычество представлялось ему ранними попытками богостроительного творчества в жизни разных народов. Он стремился использовать язычество во всем бесконечном разнообразии, пантеистически переплавляя в новой всеобъемлющей вере. Отсюда, видимо, происходит вторая часть раннего прозвища писателя: Хламида – распространенная верхняя одежда-накидка эпохи эллинизма, когда человечество пыталось создать обобщения языческих верований, по разному включая в эти обобщения и возникшее христианство, при этом магически искажая в разнообразных гностических ересях духовную суть веры во Христа Иисуса. Объединенный символизм прозвища «Иегудиил Хламида» означает приведение людей к истинной вере в собственную, творящую самое себя божественность под единым защитным и прельстительно-обаятельным покровом разноликой языческой магии.
Совершенным богостроителем на основе древнейшего язычества Горький считал Пришвина, которому писал 22 сентября 1926: «Я думаю, что такого природолюба, такого проницательного знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, М. М., в нашей литературе – не было. <…> В чувстве и слове Вашем слышу я нечто древлее, вещее и язычески прекрасное, сиречь – подлинно человеческое, идущее от сердца Сына Земли – Великой Матери, богочтимой Вами. <…> [29, с. 476] Когда-нибудь некий философствующий критик будет писать о Вашем "пантеизме" или "панпсихизме" или "гилозоизме" и замажет человеческое лицо Ваше патокой похвал или горчицей поучений. А для меня вот Вы теперь, в этот день утверждаете совершенно оправданный, крепко Вами обоснованный геооптимизм, тот самый, который – рано или поздно – человечество должно будет принять как свою религию. Ведь если человеку суждено жить в любви и дружбе с самим собою, со своей природой, если ему положено быть "отцом и хозяином всех своих видений", а не рабом их – каков он есть ныне – к этому счастью он может дойти только Вашей тропою» [29, с. 476–477].
Люди, подобные Пришвину, в восприятии Горького – боги, порождаемые народом для развития своих собственных богостроительных, жизнетворческих устремлений. Среди таких людей-богов писатель особо отмечает Иисуса Христа. Иона в «Исповеди» утверждает: «Христос, первый истинно народный Бог, возник из духа народа, яко птица феникс из пламени» [8, с. 336].
Особость Христа, по мнению Ионы, в том, что он попытался уверить людей в их равном божественном достоинстве: «Долго поднимал народ на плечах своих отдельных людей, бессчетно давал им труд свой и волю свою; возвышал их над собою и покорно ждал, что увидят они с высот земных пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступного, пьянели и, развращаясь видом власти своей, оставались на верхах, забывая о том, кто их возвел, становясь не радостным облегчением, но тяжким гнетом земли. Когда видел народ, что дети, вспоенные кровью его, – враги ему, терял он веру в них, то есть – не питал их волею своею, оставлял владык одинокими, и падали они, разрушалось величие и сила их царств. Понял народ, что закон жизни не в том, чтобы возвысить одного из семьи и, питая его волею своей, – его разумом жить, но в том истинный закон, чтобы всем подняться к высоте, каждому своими глазами осмотреть пути жизни, – день сознания народом необходимости равенства людей и был днем рождества Христова! Многие народы разно пытались воплотить свои мечты о справедливости в живое лицо, создать господа для всех равного, и не однажды отдельные люди, подчиняясь напору мысли народной, старались оковать ее крепкими словами, дабы жила она вечно. И когда все эти мысли были сплочены – возник из них живой бог, любезное дитя народа – Иисус Христос!» [8, с. 336–337].
Однако сам Горький понимал, что Христос – это тоже особое, возвышенное порождение народа, и его призвание уравнивать людей касается большинства, но не избранников-вождей. Бывает, народ долго и скучно живет ради того, чтобы возник один яркий необыкновенный человек, который резко продвигает народное бытие на новую, более высокую ступень. Образы таких людей пронизывают все творчество писателя, составляя некий пантеон: Данко, Павел Власов, Ленин, Пришвин и подобные им. Об этом рассуждает в «На дне» Лука (в пересказе Сатина, то есть уже точно сам автор, разделивший единство своих взглядов между этими двумя героями): «А-для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё – хлам-народ… И вот от них рождается столяр… такой столяр, какого подобного и не видала земля, – всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает… и сразу дело на двадцать лет вперед двигает… Так же и все другие… слесаря, там… сапожники и прочие рабочие люди… и все крестьяне… и даже господа – для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет, а может, и больше – для лучшего человека живут!» [6, с. 166]. Сам Лука об этом говорит кратко: «Есть – люди, а есть – иные – и человеки…» [6, с. 155].
Такова светлая сторона веры в народа-боготворца у Горького. Однако кроме «человеков» в его мире есть и просто люди, серые, скучные, а есть и люди яркие, но злые, несущие разрушение и смерть. Бывает, целые народы охватываются духами злобы, порождаемыми в их же недрах, питаемыми их же силами. Бывает, отдельные общественные слои внутри народа впадают в демоническое зло и начинают разрушать здоровую часть того же народа. Так возникает внутренняя борьба классов, вспыхивают гражданские войны. Все это Горький видел, отображал, и возникшие образы составляют темную сторону его художественного мира. Например, он очень любил итальянский народ, находя в его современном состоянии лишь мелкие недостатки («Сказки об Италии», 1906–1913), а в русском народе видел много настораживающих противоречий («Русские сказки», 1912–1917). Он видел, как народная толпа может в одночасье потерять человеческий облик («Погром», 1901). Через его творчество проходят бесконечные образы пьяного русского буйства.
Перемены в русской народной вере Горький наблюдал непосредственно и не просто наблюдал, но деятельно участвовал (прежде всего – словом) в создании перемен. В очерке «9 января» (1906) писатель исследует, как с помощью неких вождей и творимой ими «веры» стихийно-природная «толпа», напоминающая «темный вал океана» [7, с. 167], превращается в народ, настроенный на историческое творчество новой жизни. «Вера» – это сила духа, которая объединяет всех и дает общую цель жизни. До январского расстрела 1905 года народ верил в образ царя, созданный Церковью, но это был «хмель самообмана» [7, с. 170]. Новая вера питается уже разумной «мыслью».
Беспристрастно свидетельствует писатель, как американский народ подпадает под власть злотого тельца («Город желтого дьявола» – «В Америке», 1906). В письме Ромену Роллану 6 мая 1933 с удивлением и горечью отмечает он, как просвещенный и одухотворенный немецкий народ (да и Запад в целом) в одно историческое мгновение впадает в настоящее беснование: «Все, что сейчас творится в Европе и – под ее разлагающим влиянием – на Востоке, да и всюду в мире, показывает нам, до чего трагикомически не прочны основы буржуазной, своекорыстной, классовой культуры. Вы знаете: я – марксист, не потому, что читал Маркса, кстати скажу: я мало читал его, да и вообще в книгах я ищу не поучения, а наслаждения красотой и силою разума. Ложь, лицемерие, грязный ужас классового строя я воспринимал непосредственно от явлений жизни, от фактов быта. Поэтому происходящее в наши дни, возбуждая отвращение, не очень изумляет меня. По всем посылкам, которые наблюдал я за полсотни лет сознательной моей жизни, явствовало, что вывод из этих посылок должен быть грозным и сокрушительным. И – вот он, вывод: в стране Гёте, Гумбольдта, Гельмгольца и целого ряда колоссально талантливых людей, чудесных мастеров и основоположников культуры, – в этой стране всей жизнью ее безответственно, варварски командует крикливый авантюрист, человечишко плоского ума, бездарный подражатель искусного актера Бенито Муссолини. В этой стране, где проповедовалась идея культурной гегемонии немецких мещан над мещанами всей Европы, – теперь проповедуется отказ от культуры, возвращение назад, даже не к средневековью, а – ко временам Нибелунгов. Кто-то уже кричит: долой Христа! Возвратимся к Вотану! Это – на мой взгляд-уже юмористика, "комическое антре" клоуна. Не заметно, чтоб этот крик волновал "наместника Христа на земле", князя самой хитрой и сильной церкви, столь чуткого ко всему, что творится в Союзе Советов, где антикультурная деятельность малограмотных попов все еще не прекращена. И снова – гонение на евреев! Позор этого гонения лежал до Октябрьской революции на России, на ее "диком, варварском народе", который вообще не знал еврея, [30, с. 309] ибо еврей в деревнях – не жил. И вот Германия ХХ-го века заимствовала этот позор от "варварского" народа. Какая дьявольская гримаса» [30, с. 309–310].
В собственной душе, как и в душе всякого отдельного человека, писатель прослеживает борьбу доброго и злого начал. Так люди разделяются в своем служении ими же творимым богам: добрым и злым. Так в детстве он выбирал между злым богом деда и добрым бабушкиным богом.
Болезненное раздвоение души проявлялось по-разному: «Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них… Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию» («В людях») [13, с. 502].
Под действием обстоящего зла в мрачных областях писательской души рождаются темные, недобрые слова, они ткутся паутиной, опутывающей мир вокруг: «Убийственно тоскливы ночи финской осени. <…> Тоска. И – люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению <…>
Сквозь стекла синие окна —
Смотрю я в мутную пустыню,
Как водяной с речного дна
Сквозь тяжесть вод, прозрачно синих,
Гудит какой-то скорбный звук,
Дрожит земля в холодной пытке,
И злой тоски моей паук
Ткет в сердце черных мыслей нитки.
[15, с. 285].
<…>
Что я тебе, дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью
Жарко разжечь сумел!
Вот – вооруженными скотами
Всюду ощетинилась земля
И цветет кровавыми цветами,
Злобу твою, дьявол, веселя!
<…>
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?
(«Заметки из дневника. Воспоминания», 1922–1923. – Гл. «Из дневника»). [15, с. 286].
Лекарство от зла, творимого людьми и заражающего его душу, Горький знал только одно – магию своей веры, своего творческого воображения: «<…> мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед, – в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека» («Человек», 1903) [5, с. 362].
У большинства людей злые боги. И сами эти люди как некие боги-творцы порождают бытие скучное, мрачное, хаотическое, смертоносное. Главный бог в их мире – Смерть, которая многолика и может, например, представать в виде христиански понимаемого дьявола. Черт часто мелькает в мире Горького, порою проникая даже в названия произведений («О черте», 1899; «И еще о черте», 1905). К нему, как и к смерти, писатель старается относиться с иронией, рассматривая это злое начало как оборотную, темную, противоборствующую сторону своего творческого «Я». («Читатель», 1898). Однако ирония эта романтическая, она скорее утверждает, нежели отрицает бытие порождаемых человеческими верованиями злых духов. Черти в его мире возникают на границе жизни и смерти, будучи служителями зла и смерти. Ирония при их описании порою не может скрыть какой-то почти осязательной очевидности, как, например, в письме Л. М. Леонтьеву 31 декабря 1927 года: «Что я хворал – верно. Простудился, и – воспаление правого легкого. Было очень скверно, задыхался. Уже – черти приходили, трое. Обыкновенные. Спрашивают: "Ну, что – готов?" – "Нет, – говорю, – у меня роман не кончен". – "Ну, – говорят, – ладно, нам не к спеху, а от романа – тошно не будет, мы – не читаем". – "Неграмотные?" – "Нет, грамотные, рецензии пишем, а читать – времени не хватает, да и к чему оно – читать, ежели сами пишем?" Постояли и мирно ушли, один – банку с лекарством захватил нечаянно, другой – туфлю унес. А я после этого выздоравливать начал и выздоровел, и вот – Зощенко подражаю» [30, с. 59]. Здесь иронически передается и толкуется, видимо, действительно приключившийся болезненный бред, то есть духовное видение, которое для Горького, человека магического сознания, отнюдь не было чем-то пустым, несущественным.
Смерть – наиболее полное, емкое и властное проявление противного жизни начала, соприсущного «Я» и непреодолимо отрицающего бытие частной человеческой души. Частное должно раствориться в общем, личное – в народном. Так преодолевается смерть: через признание ее необходимости. Могут быть частные и только временные победы над ней («Девушка и смерть», 1892).
Но в итоге смерть обязательна, и все, в конце концов, должны быть «призваны к исполнению скучной и неприятной общечеловеческой повинности» (письмо Ф. П. Хитровскому от 19 февраля 1933, Сорренто) [30, с. 288].
Не только темная, но и относительно светлая сторона горьковской души признает торжество смерти, ибо для магического сознания личная гибель – это неизбежный, а при усилии воли еще и самый прямой, краткий и успешный путь к полному самообожествлению. Будучи писателем-магом, Горький о личном бессмертии рассуждает как-то вяло и редко, ведь стать богом, оставаясь ограниченным человеком, немыслимо. Так, например, на вопрос Блока: «Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?» – Горький ответил с сомнением: «Я сказал, что, может быть, прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду» («А. А. Блок», 1924) [15, с. 331]. Прозвучало неубедительно, и свою неуверенность писатель вложил в ответ Блока: «Это вы – несерьезно?» [15, с. 331]. В ответ на просьбу уточнить свое собственное мнение Горький предполагает, что личное бессмертие, возможно, сохранится в общем составе всеединого человеческого духа, впрочем, не известно, в какой мере, и уж точно не в нынешнем состоянии человечества: «Лично мне – больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую "мертвую материю" в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь "мир" в чистую психику» [15, с. 331].
Другое дело – смерть, она всегда услужливо рядом и всегда манит: «Интересно умирал один мой знакомый, человек лет под шестьдесят, благовоспитанный и симпатичный, один из тех людей, которые всю жизнь ищут применения своим недюжинным силам и умирают, не успев израсходовать себя. <…> Умирать нужно так же красиво и чисто, как следует жить <…>» («Из воспоминаний», 1917) [14, с. 217].
В смерть и хочется верить по преимуществу. И. Д. Сургучеву 13 января 1912 он пишет: «А с Вашей мыслью ''ужас в том, что мы не верим в смерть", – в корне не согласен и даже возмущен ею. <…> Нет, мы не верим в возможность хорошей жизни на земле и отсюда – "самосожжения", секта "Красной смерти", Терновская трагедия, бегство от жизни в леса и пустыни – у мужика, нигилизм, анархизм и периодические эпидемии самоубийств – у интеллигентов» [29, с. 221]. Горький перебирает разные учения о смерти, предпочитая древние и новые изводы пантеизма: «Буддийский катехизис читал, читал "Сутту-Нипату", "Буддийские сутты" в переводах Герасимова, читал Арнольда и "Душу одного народа" – Фильдинга, что ли, не помню автора. Читал также архиепископа Хрисанфа, и все это купно с Шопенгауэром, который значительно красивее и проще, – не нравится мне. <…> Бессмертие? Не надо. Не хочу. Повторяю – "благословен закон бренности, обновляющий дни жизни!" Аллилуйя!» [29, с. 221].
Писатель-бог, как и всякий выдающийся творец, соединяет в своей душе начала жизни и смерти. Покуда жив, он разрушает или просто предает забвению целые миры, созданные и существовавшие до него, ради создания чего-то нового, прекрасного и привлекательного: «И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё – и сам я – завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной…» («В людях») [13, с. 510].
Магическое сознание, воспитанное с детства, внушало веру в безграничные жизнетворческие возможности, пусть и временно соприсущие писателю: «Верить – хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают все-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности, значит – думал я – и в действительности должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика моих хозяев, пьяных офицеров и вообще всех людей, известных мне» («Как я учился», 1918–1922) [14, с. 233]. «Действительность» при этом Горький понимает не плоско материалистически, а скорее, по Аристотелю и Гегелю: как плод божественной духовной «энергии» (с греч. – «действия, деятельности») бытия, соприсущей и человеческой душе. Отсюда дальнейшее рассуждение: «Ведь если "все бывает", значит, будет и то, чего мне хочется? Я замечал, что во дни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжелые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня, в эти дни меня с наибольшею силою охватывало юное Геркулесово желание чистить авгиевы конюшни жизни. Это осталось со мною и теперь, когда мне пятьдесят лет, останется до смерти <…>» [14, с. 234].
Так людьми с помощью воображения и слова создается высшая божественная действительность: «Прославим поэтов, у которых один бог – красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них– навсегда!» («Сказки об Италии», Сказка IX) [10, с. 41]. Правда и есть то, что утверждается силой слова и становится частью бытия.
О людях, увиденных в жизни и ставших частью его воображения, Горький заметил в «Старухе Изергиль» (1894): «Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее» [1, с. 337]. В этой высшей действительности воображения пребывают все могучие творцы, порождаемые народом, и они продолжают творить эту действительность, вовлекая в нее за собою весь народ: «Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: "Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?" И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд» [1, с. 357].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































