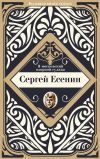Текст книги "Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала ХХI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934"
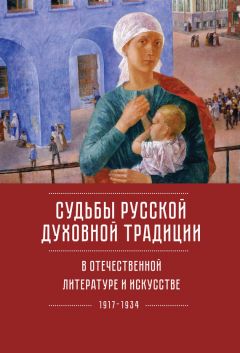
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Дьявол как один из злых богов через свои воплощения в злых людях (или будучи их порождением – для Горького это одно и то же) тысячелетиями портит (и в то же время исправляет, чистит) жизнь человечества: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение» («Ленин») [17, с. 23].
Мир Горького трагичен в своей подоснове. Самообожение как высшая цель человека достижимо только через смерть. Избавление от несовершенств и страданий также даруются смертью, разрушением существующего. Исправление жизни целых народов достигается мириадами смертей, и для умерших (а умирают неизбежно все) чаемое (оно же и недостижимое) улучшение жизни не имеет значения. Идеальный райский мир на земле, устраиваемый божественными строителями, должен быть свободным от страдания, а значит, непрестанно проходящим горнило смерти – смерти совершенной, стирающей безвозвратно всякое частное бытие. И здесь Горький вновь выступает против Православия: его идеальный богостроитель Ленин «в России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство "спасения души"» испытывал как никто «ненависть <…> к несчастиям, горю, страданиям людей». («Ленин») [17, с. 23]. Горький пишет о «вере» Ленина в возможность устранения «несчастия» из основы жизни. А «русская литература» плоха тем, что явила народу и миру безнадежные, хотя и «талантливые евангелия» о страданиях людей. Между тем, «книга о счастливой жизни научила бы его (русского человека-А. М.) как нужно выдумывать такую жизнь» («В. И. Ленин») [17, с. 24].
И Горький, как мог, всю жизнь выдумывал, творил счастливую действительность, не забывая одновременно разрушать ядовитым горьким словом все, что противоречит его собственным представлениям о счастье. Мир мечты, полетной фантазии, сказки – вот тонкий и верховный, с его точки зрения, слой жизни, где человек может быть временно и относительно счастлив, пока не достигнет высшей радости самоуничтожения ради полного слияния со всем бытием.
Творец, сочинитель художественных слов сочиняет саму жизнь, и это сама жизнь сочиняет через людей саму себя. Так возникает «сказка» – животворимое верой яркое художественное сказание о жизни, выражающее самую суть бытия (творимого бытия, потому что подлинное бытие всегда творится). «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь» [10, с. 5], – пересказывает Горький излюбленную мысль Андерсена, поставив ее эпиграфом «Сказок об Италии» (1906–1913), и от себя в III сказке продолжает: «Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки» [10, с. 17].
Конечно, творческие мечты Горького не преобразили русскую жизнь к лучшему. Однако кое-чего в своем богостроительном порыве писатель достиг. Он стал кумиром для многих. А значит, его слово творило русскую действительность сообразно его вере. Никто из живших одновременно с ним русских сочинителей не мог соперничать с его всероссийской и всемирной славой. Трудно было найти к середине XX века русский город, в котором что-нибудь не было названо в его честь (улица, парк, дом культуры и т. п.). Влияние его творчества сохраняется до сих пор, в частности, через систему государственного школьного и вузовского изучения литературы, через театральные, кинематографические постановки.
В нынешнее время его художественная проповедь вновь начинает звучать в полную силу и вновь обольщает умы в мире, где бурно возрождающаяся магия изготовилась не просто теснить, но и совсем уничтожить христианское благовесте.
Примечания
1 Здесь и далее в квадратных скобках после выдержек указываются том и страницы по изданию: Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1949–1955.
2 Ходасевич В. Ф. Некрополь. М.: Советский писатель; Олимп, 1991. С. 158.
3 Имеется в виду переиздание напечатанных уже после смерти профессора-богослова воспоминаний: Записки Е. Е. Голубинского //Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. 30. Третий исторический сборник. Кострома, 1923.
4 См.: Агурский М. Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 54–74. http://krotov.info/library/01_a/gu/rsky_03.htm; http://alt-future.narod.ru/NSM/eretik.htm
5 См. об этих влияниях на Горького: Агурский М. Великий еретик…
6 Агурский М. Великий еретик…
7 Там же.
8 Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 171–172.
9 Агурский М. Великий еретик…
10 Литвинова Л. В. Иегудиил // Православная энциклопедия. Т. 21. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. С. 188.
11 Полевой Б., Купреянов Г. Письма из Сорренто. Калинин, 1936. С. 11.
12 Работница. 1968. № 3. С. 1.
13 Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 173–174.
14 Там же.
Сергей Есенин: «паденье роковое»А. В. Моторин
Примерно к 1916 году Сергей Есенин вступил в зрелую пору своего творчества. В этом же году он ясно – во всяком случае, для себя – определил демоническую направленность своей лирики, противопоставляя ее русскому Православию, Христу и пытаясь увлечь Родину за собою в «паденье роковое» некой новой «веселой веры и одной»:
Не в моего ты Бога верила,
Россия, родина моя!
<…>
Не клонь главы на грудь могутную
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом.
(«Не в моего ты Бога верила…», (1916) [4, с. 124]1
Подобно падшему демону, поэт тщится превратить свое закатное падение в новый восточный взлет на небеса и не скрывает мрачной ночной сущности своего духа:
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.
<…>
Новый путь мне уготован
От захода на восток.
Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.
Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.
(«Там, где вечно дремлет тайна…», (1917) [1, с. 104–105]
Отлет с земли в «немую тьму» сроден самоубийству, и Родина-Русь, приобщаемая к демонической попытке рождения новой веры, также обречена на смерть, о чем поется в «Сельском часослове» (1918):
Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета. [4, с. 175]
За гибелью Родины поэт чает совершить ее новое рождение в новой вере. Именно совершить, ибо себя в этом творческом порыве он представляет одновременно божественным словом, божественным отцом (творцом-породителем всего сущего) и божественным духом, оплодотворяющим рождение новой твари в лоне очищенного смертью прежнего творения (такое легко приключается на почве пантеизма антихристианских ересей):
Радуйся,
Земля!
Деве твоей Руси
Новое возвестил я
Рождение.
Сына тебе Родит она…
Имя ему —
Израмистил. [4, с. 176]
<…>
Это он!
Это он
Из чрева Неба
Будет высовывать
Голову… [4, с. 177]
Богородица-Русь по воле бога-поэта становится через смерть «начертательницей Третьего Завета», повествующего о рождении на земле новой ипостаси божества – Израмистила – «мистического изографства» (6,126), как Есенин объяснил смысл изобретенного божественного имени в письме Р. В. Иванову-Разумнику [см. также: 4, с. 403–404]. Автор своевольно искажает библейское пророчество Исайи о рождении Христа и подменяет Божие имя. У пророка сказано: «Сего ради дастъ Господь Самъ вамъ знамение: Се Дева во чреве зачнет и родить Сына и наречеши имя Ему Еммануилъ» [Ис. 7:14]. Имя Еммануил в переводе с древнееврейского значит: «Съ нами Богъ» [Мф. 1: 23]. Израмистил должен прийти вместо Христа, то есть стать антихристом.
Пик самообожения и соответственно богоборчества совпал у Есенина с кануном русской революции и первыми годами после ее свершения. Поэт вполне понимает, куда стремится, кого прославляет и кого считает своими верными почитателями: «Славь, мой стих, кто ревет и бесится» («Пантократор», февраль 1919) [2, с. 73].
В эту пору под пером его легко рождаются прямо кощунственные вирши:
Не стану никакую
Я девушку ласкать.
Ах, лишь одну люблю я,
Забыв любовь земную,
На небе Божью Мать. <…>
(«Не стану никакую…», 1918) [4, с. 179]
Далее приводить невозможно. Богоборчество, кощунственно касаемое Богородицы, проявляется и в «Октоихе» (август 1917):
Восстань, прозри и вижди!
Неосказуем рок.
Кто всё живит и зиждет —
Тот знает час и срок.
Вострубят Божьи клики
Огнем и бурей труб,
И облак желтоклыкий
Прокусит млечный пуп.
И вывалится чрево
Испепелить бразды…
Но тот, кто мыслил Девой,
Взойдет в корабль звезды. [2, с. 45]
Чтобы понять сказанное, следует обратиться к статье «Ключи Марии» (1918), где Есенин размышляет о «религии мысли нашего народа» [5, с. 190], которая питается от источников древнейшей мифологической веры в то, что все сущее непрестанно порождается из божества, в нем содержится и ему причастно по рождению. Отсюда и «языческая вера в переселение душ» [5, с. 189]. Души «переселяются» внутри единой божественной души как ее составные частицы. Эту мировую душу вслед за сектантами-хлыстами поэт обозначает именем христианской Богородицы – Марии. Авторское примечание к названию статьи гласит: «Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу» [5, с. 186, 213]. Хлыстовские общины именуются «кораблями», в которых избранные души спасаются и воссоединяются с богом. В «кораблях» песнопевцы-«давиды» могут становиться «богами-отцами» и одновременно девами-«богородицами», дабы рождать в себе и из себя словесных «христов». «Мышление Девой» и «вхождение в корабль звезды» – это следование новой вере, родственной хлыстовству и проповедуемой божественным поэтом («творцом» – в древнегреческом смысле слова «поэт»).
В эпиграфе к поэме «Октоих»: «Гласом моим пожру Тя, Господи. Ц. О.» [2, с. 41] – автор богоборчески искажает «начало шестого ирмоса канона, поемого на глас четвертый: "Пожру Ти со гласом хваления, Господи"; канонический перевод – "Со гласом хваления принесу жертву Тебе, Господи" («Православный молитвослов с краткими катехизическими сведениями», СПб., 1907, с. 117). Сокращение "Ц.О." раскрыто в копии поэмы рукой Иванова-Разумника (РГБ, ф. Андрея Белого) как "Церк. окт.", т. е. церковный октоих» [см. примечание: 2, с. 314]. Заменив склонение местоимения с «Ти» на «Тя», поэт резко меняет смысл богослужебного песнопения – переставляет местами оттенки церковнославянского слова «жрѣти»: главным становится не «приношение жертвы Богу», а «пожирание», «поглощение» бога. При этом оживляется и древнее языческое значение «жрѣти» как принесения жертвы богу путем ее сжигания. Известно, что Есенин внимательно читал труд А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» и «скорее всего не прошел мимо места, где говорится о связи слова "жертва" со словом "жрѣти" (греть, гореть), позднее получившем значение "поедать, жрать" [Аф. II; 39]» [см.: 2, с. 315]. В итоге в «Октоихе» Есенина сам бог приносится в жертву самим собой (в лице поэта): путем огненно-словесного самопожирания.
В стихах зрелого Есенина в порывах неистовства он как пророк-творец порою оказывается одновременно богом-отцом, богородицей и рождаемым из самое себя богомладенцем-словом, пророчески изрекаемым и требующим «небесного молока» для возрастания [2, с. 52]. Весь мир заключен в поэте и порождается им взамен прежнего. Это кольцо бесконечности самообожания – божественный змей, поглощающий собственный хвост и совершающий самоубийство, самопожирание ради очередного самопорождения.
В будущем своей родины Есенин склонен видеть грядущий земной рай, который возникнет по сути из души поэта благодаря прорекаемому небесному падению «богородицы», порождающей на земле нового божественного сына:
О Матерь Божья,
Спади звездой
На бездорожье,
В овраг глухой.
<…>
Окинь улыбкой
Мирскую весь
И солнце зыбкой
К кустам привесь.
И да взыграет
В ней, славя день,
Земного рая
Святой младень.
(1917) [1, с. 119–120]
«Матерь Божья» у Есенина – один из ликов божественной природы. Можно обойтись и без прямого называния:
Тучи с ожерёба
Ржут, как сто кобыл,
Плещет надо мною
Пламя красных крыл.
Небо словно вымя,
Звезды как сосцы.
Пухнет Божье имя
В животе овцы.
Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.
Новое восславят
Рождество поля,
И, как пес, пролает
За горой заря. (1917) [1, с. 106]
Порою поэт мыслит себя в утробе Бога, частью Бога, богомладенцем. Бог везде: и сверху, и снизу, и в небе, и в сини морской:
О Боже, Боже, эта глубь —
Твой голубой живот.
Златое солнышко, как пуп,
Глядит в Каспийский рот. [1, с. 141]
Бог, порождаемый поэтом, может творчески и трагически для всей богозданной твари переделывать земной мир:
Сойди на землю без порток,
Взбурли всю хлябь и водь,
Смолой кипящею восток
Пролей на нашу плоть. [1, с. 141]
А самому поэту следует вернуться в небесное лоно:
Да опалят уста огня
Людскую страсть и стыд.
Взнеси, как голубя, меня
В твой в синих рощах скит. (1919) [1, с. 142]
И Родина-Русь как уже богородица, единосущная самому автору, вовлекается в его упоенное поэмное словотворчество, обращенное к самому себе:
Облаки лают,
Ревет златозубая высь…
Пою и взываю:
Господи, отелись!
Перед воротами в рай
Я стучусь:
Звездами спеленай
Телицу Русь.
За тучи тянется моя рука,
Бурею шумит песнь,
Небесного молока
Даждь мне днесь.
(«Преображение», ноябрь 1917). [2, с. 52]
При этом весь порождаемый божественно-пророческим словом новый мир в своей очередной неизбежной порче подлежит очередному уничтожению от очередной ипостаси бога-творца:
Грозно гремит твой гром,
Чудится плеск крыл.
Новый Содом
Сжигает Егудиил. [2, с. 53]
Новую земную революцию поэт мыслит частью этой магической мистерии:
Но твердо, не глядя назад,
По ниве вод
Новый из красных врат
Выходит Лот. [2, с. 53]
Так очередной воплощенный богомладенец преображает падший мир, участвуя в его уничтожении:
Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь. [2, с. 55–56]
А сделав дело, новоявленный спаситель отойдет в свое демоническое ночное царство, подарив обновленному и уже обреченному миру следующего убийцу-обновителя:
А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, —
Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.
И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом. [2, с. 55–56]
Таков же пророк-ангел-бог-поэт в «Инонии» (январь 1918):
Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.
Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
<…>
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир…
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл. [2, с. 61–62]
Выплевывание «Христова тела», как и пожирание бога в «Октоихе», это, конечно, кромешная черная магия, но не просто безудержная в своей слепой одержимости, а основанная на последовательной, мысленно рассчитанной вере в себя как бога, уничтожающего свое старое бытие и творящего свое же новое.
Следуя путем возрождения языческой магии, Есенин вновь и вновь противоборствует христианству:
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
<…>
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера – в силе.
Наша правда – в нас!» [2, с. 68]
Языческой магии свойственно почитание крови как носителя духовной силы. Не чуждо это увлечение и Есенину. Примечательна его радость по поводу публикации перевода «Инонии» на идиш. М. Д. Ройзман вспоминает: «В конце 1923 года в еврейской газете была опубликована поэма Есенина „Инония“ в превосходном переводе замечательного поэта Самуила Галкина. Сергей не выпускал газеты из рук, показывал ее друзьям и знакомым, говорил, что никогда бы его стихи не перевели и не напечатали, если бы верили в то, что он питает антипатию к евреям…»2. В евреях поэт ценил прежде всего родо-кровную магию, почитание родной крови, столь характерное и для неоязычества в его западном нордическом изводе. М. Д. Ройзман в воспоминаниях 1926 года свидетельствует о признании поэта осенью 1923 года в любви к евреям, о породнении с ними, о своей вере в родо-кровную магию: «К моему удивлению, Сергей ухватился за эту тему и стал говорить о своих отношениях к евреям. Он сам не понимает, как его зачислили в антисемиты. Любил евреек, жена у него еврейка и дети еврейские (так и сказал „еврейские“). <…> Он пояснил мне, что не любит Мандельштама, Пастернака за то, что они все поют о соборах, о церквах, о русском. В поэте он (Сергей) ценит свое лицо: должна быть своя рубашка, а не взятая напрокат. В стихах важна кровь (слово „кровь“ подчеркнул), быт! И сейчас же добавил: вот ты не стесняешься, что еврей. Поешь о своем…»3.
Богоборчество, кощунство, демонизм не возникают вдруг, на пустом месте и, конечно, не проходят бесследно. За них приходится платить жизнью души. Как эти настроения возникли в сознании юноши, еще недавно бывшего деревенским крестьянским мальчиком? Набожность деда и бабушки ему не передалась. В краткой автобиографии, написанной в 1923 году, Есенин не разъясняет, почему в детстве он невзлюбил православную веру и почему, понуждаемый ходить в церковь, занимался обманом и святотатством. Словно бы это было само собою разумеющимся: «Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям.
Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от "Лазаря" до "Миколы". Рос озорным и непослушным, был драчун. <…> В Бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дома это знали и, чтоб проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным ножом, а 2 коп<ейки> клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки. Один раз дед догадался. Был скандал. Я убежал в другое село к тетке и не показывался до той поры, пока не простили» [7, кн. 1, 11].
Видимо, тонкая душа поэта уловила общее угасание православной веры в простом народе и даже в Церкви – в ее представителях, общавшихся с народом. Впоследствии в повести «Яр» (1915) он передает тяжелыми образами этот упадок веры, считая, что прежде всего виновато священство, которое мертвенностью духа и леностным закоснением отталкивает простые души в язычество. Название «Яр» подчеркивает есенинское понимание современного духовного движения народа от мертвого Православия назад к язычеству – к Яриле на волне ярости восставшего народа. В этой повести сельский поп с причтом погрязли в быту, корысти и отказываются провести крестный ход во время падежа скота: «Хоть к митрополиту ступайте, – ругался поп. – Задаром я вам слоняться не буду» [5, с. 104]. Когда же селяне сами «порешили с пеньем и хоругвями обойти село» и спросили ключи от церкви у старосты, тот ответил: «Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете – вас много, так с вами и сладу нет… Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем» [5, с. 105]. Пришлось народу совершить древний языческий обряд «опахиванья» села: «При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший – колдун, который и наслал болезнь на скотину. Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть» [5, с. 105].
Примерно во время работы над «Яром» создается стихотворение, в котором в емких образах кратко представлено то же самое движение народной души от неприятного и мертвого Православия к язычеству, казалось бы, живо откликающемуся на простодушную веру:
Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.
Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко лядащий:
«Спаси, Господи, люди твоя».
Однако не христианский Господь, а природа отзывается на моление о дожде:
Стрекотуньи-сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.
<…>
На коне – черной тучице в санках —
Билось пламя-шлея… синь и дрожь.
И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!» (1914) [1, с. 62–63]
Между народом и Церковью отчуждение, и мир Церкви отталкивает, пугает смертью:
На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.
(«По дороге идут богомолки…», 1914) [1, с. 58–59]
В «Ключах Марии» (1918) Есенин прямо определяетантихристианскую, оборотническую природу своего язычества и выражает вполне уже зрелое и сознательное отвращение к Православию: «Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьем вместо змия самого Христа» [5, с. 211]. Здесь вскрывается гностический, офитский (змеепоклоннический) корень есенинского магизма: змий-сатана – это подлинный бог-христос, а Христос Православия – это воистину сатанинский змий4.
«Ключи Марии» уравнивают Православие и бездуховную рассудочность новой марксистской эстетики – то и другое подлежит уничтожению магией истинного языческого творчества: «Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове. Ей непонятна грамота солнечного пространства, а душа алчущих света не хочет примириться с давно знакомым ей и изжитым начертанием жизни чрева. Перед нами встает новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины. Но мы победим ее, мы так же раздерем ее, как разодрали мантию заслоняющих солнце нашего братства. Жизнь наша бежит вихревым ураганом, мы не боимся их преград <…>» [5, с. 212].
Православия Есенин вообще не видит в истории Древней Руси: «<…> крещеный Восток абсолютно не бросил в нас в данном случае никакого зерна. Он не оплодотворил нас, а только открыл лишь те двери, которые были заперты на замок тайного слова» [5, с. 187].
Поэт неизбежно испытывал воздействие двух мощных и по сути антихристианских идеологий эпохи – капиталистической и социалистической. Марксизм не был близок ему своей бездуховностью и жесткой критикой капитализма. Есенин не раз признавался, в частности, и в стихах, что «Капитал» Маркса не идет ему в голову. К капитализму у поэта сложилось свое, в целом положительное, отношение – именно как к своеобразному вероучению, управляющему жизнью целых народов. Так же и в социализме он видел род вероучения, причем более походящего для России.
Коммунизм Есенин воспринимал как часть западной магической (в масонском изводе) культуры. Ярким воплощением коммунистической веры стали для него Троцкий и Ленин. О Троцком: «Мне нравится гений этого человека» (рукопись «Железного Миргорода», 1923) [5, с. 265]. О Ленине: «Суровый гений!» («Ленин», 1924) [2, с. 144].
В представлении поэта западный (прежде всего американский) капитализм, так же, как и социализм, движутся к общей цели – построению рая на земле. За видимым обустройством низового земного уровня, за бытовыми удобствами он прозревал гордое стремление человека воцариться вовеки в мире сем вместо Бога – богоборчество, которое в условиях России, да и всего мира означало борьбу с Православием. «Железный Миргород» (1923) – так назвал он свой очерк об Америке. Прямо ссылаясь на известную книгу Гоголя [2, с. 165], Есенин вполне понимает историософскую символику, заложенную в название и содержание этой книги: Мир-город – это Новый Иерусалим (по-еврейски – город мира, средостение мира), но не тот, который согласно Откровению Иоанна Богослова должен спуститься от Бога на землю в Конце Света для жития праведников, а тот, который рукотворно возводят сами люди, становящиеся богами в своем собственном земном рае.
Еще в начале путешествия на Запад, на пароходе посреди океана, едва соприкоснувшись с блеском этой магической культуры, Есенин восхищается: «Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять чрез огромнейший коридор спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про "дым отечества", про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за "Русь" как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Милостивые государи! С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, – я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве» [5, с. 162–163].
В допечатной рукописи (не подвергнутой правке и сокращениям для издания в «Известиях») были и более сильные выражения с выпадом против Православия: «Милостивые государи! лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про "Лазаря". Убирайтесь к чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил "до ветру" в чужой огород. С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство» [5, с. 267].
Есенин оправдывает «белого дьявола» [5, с. 167], воцарившегося в «железном Миргороде» Запада путем насилия: «И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой» [5, с. 167]. Он мечтает о воцарении подобной культуры и на Руси, оправдывая уже совершившиеся и грядущие жестокости строителей коммунизма. Он хорошо чувствует мечтательно-прельстительную, колдовскую суть западного процветания: «Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово!» [5, с. 168]. И в итоге изумления – опять выпад против Православия: «Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость» [5, с. 169].
Простой народ Америки (даже белый по крови) не вызывает сочувствия у нашего поэта, он видит в народе косную и темную силу, управляемую волей и замыслами могущественных архитекторов, устроителей новой жизни: «Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь» [5, с. 170]. Точно так же (даже хуже) он относится и к русскому народу, подлежащему жестокому правлению со стороны коммунистов: «Бедный русский Гайавата!» – восклицает автор саркастически, подразумевая правильное, с его точки зрения, искоренение краснокожих в Америке и предвкушая судьбу русского народа, приравниваемого к индейцам перед лицом наступающего с Запада «белого дьявола».
Вместе с тем Есенин вполне понимал, куда влечет Америку масонская магия: «Америка – это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества» («Автобиография», 1924) [7, кн. 1, с. 16–17]. Он понимал – и не мог освободиться от этого обаяния, как не мог пресечь и свое «паденье роковое»:
Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.
Я не знаю, что будет со мною…
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.
(«Неуютная жидкая лунность…», 1925) [4, с. 221]
Российский социализм ближе его собственному магическому вероучению и представляется мирозиждительным, общепланетарным выходом:
И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом – рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздиными
Сияние далеких звезд.
(«Инония», январь 1918) [2, с. 65]
В. Ф. Ходасевич отметил, что на социалистические упования Есенина в революционное время повлияли левые эсеры: «Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что „есть Социализм и социализм“. Что социализм с маленькой буквы – только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является „религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства… Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов“.<…>. Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской поэме (вышедшей в журнале „Наш путь“ в 1918 году-А. М.). Хронологически статья писана после "Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником»5.
Уже на последнем году жизни Есенин вспомнил, как в ранней юности первое поэтическое вдохновение у него возникло вместе с осознанием злобного неверия, нараставшего в народе:
Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В Бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.
Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
(«Мой путь», 1925) [2, с. 160–161]
Вот и попытался юный поэт творчески возродить древнюю языческую веру, к которой на его глазах сама жизнь подталкивала народ. По его мнению, язычество надо было очистить от копоти веков, взять из него самое лучшее – одушевление и обожествление природы – и оживить с его помощью собственную душу и соборное сознание всего народа.
В череде простых и по видимости бездуховных ранних стихотворений 1910–1911 годов языческая магия начинает прорастать сквозь, казалось бы, поверхностно-чувственные описания природы:
Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.
Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
<…>
(1910) [1, с. 34]
Вскоре Есенин провозглашает рождение своего языческого сознания как чего-то естественного, изначального, дарованного божественной природой и подлежащего постепенному развитию:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?