Текст книги "Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала ХХI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934"
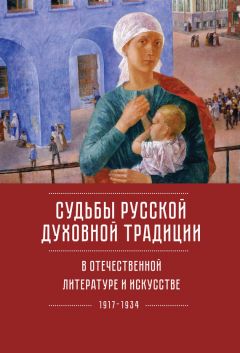
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
10 Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье Конт (Comte, 1798–1857) – французский философ и социолог, Провозглашенный им «позитивизм» – «приведенный в систему здравый смысл» – отказывался от попыток проникнуть в природу вещей и утверждал познание исключительно на «математической» основе, минуя неразрешимые «проклятые вопросы» как непродуктивные для полезной деятельности человека. Позитивизм не отрицал религиозных переживаний, однако «позитивистская религия» Конта основывалась на сакрализации «прекрасных» проявлений человеческой добродетели, символами которых становились связанные с этими проявлениями сувениры-фетиши (любовные письма, портреты, памятные вещи), напоминающие о существовании в мире практически действенных «добра и красоты».
11 Революционная часть народничества переносила на Церковь свое отрицательное отношение ко всей государственной машине – не в «богоборческом», а именно в «тираноборческом» плане; умеренно-либеральная – рассматривала ее как службу регистрации рождений, браков и смертей (нечто вроде нынешнего ЗАГСа) и оставалась равнодушной. Общее раздражение вызывало участие Церкви в образовании, но и с этим мирились, опять-таки, как с обязательным присутствием государственно-пропагандистского (а не духовного и просветительского) контроля и надзора за учащимися, сожалея лишь о «впустую» потраченных многочисленных аудиторных часах, отведенных на Закон Божий. Удивительно, но не воспринималась даже обрядная часть русского Православия – «открытие» интеллигенцией православного искусства (архитектуры, песнопений, иконописи) произойдет лишь в контексте серебряного века.
12 «Максина молитва тоже была очень оригинальна. Как и большинство детей его времени, он утром и вечером читал „Господи, помилуй папу и маму“ и кончал: „и меня, младенца Макса, и Несси скормилица Макса, чешка>“. Услыхав это, Валериан стал рассказывать, как Макс будет молиться в будущем. Сначала: „и меня, гимназиста Макса, и Несси“, потом: „и меня, студента Макса, и Несси“, и, наконец, когда он станет важным лицом: „и меня, статского советника Макса, и Несси“» (Вяземская В. О. Наше знакомство с Максом. Цит. по: [Электронный ресурс] http://lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/ mv_v_03.htm (дата обращения 18.06.2015).
13 См. «Автобиографию [по семилетьям]» (1925). О Никандре Васильевиче Туркине (1863–1919). [Электронный ресурс] http://rostov-80-90.livejournal.com/335461.html (дата обращения 18.06.2015).
14 Вяземская В. О. Указ. соч.
15 Волошин М. А. Записные книжки. М.: Вагриус, 2000. С. 25.
16 Там же. С. 29.
17 Там же.
18 Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. (1877–1916 г.). М., 2007. С. 63.
19 См.: Словарь философских терминов / Под ред. В. Г. Кузнецова. М., 2007. С. 328. Через мировоззренческий переворот, подобный происшедшему с двадцатитрехлетним Волошиным, прошли, так или иначе, все участники раннего серебряного века. «Пафос первого момента, – писал о начале русского символизма Вячеслав Иванов (сыгравший в судьбе Волошина весьма значительную и, отчасти, зловещую роль), – составляло внезапно раскрывшееся художнику познание, что не тесен, плосок и скуден, не вымерен и не исчислен мир, что много в нем, о чем вчерашним мудрецам и не снилось, что есть ходы и прорывы в его тайну из лабиринта души человеческой…» (Иванов Вяч. И. Заветы символизма // Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Брюссель, 1975. Т. 2. С. 598). Прежние материалисты, занятые научными исследованиями и поиском «социального блага», открывали для себя метафизическую глубину мироздания, уводящую к вопросам философским, религиозным и даже общественным, решение которых находилось вне привычной области рациональной деятельности. «Эпоха рубежа веков была эрой великих открытий в области естественных наук, прежде всего – физики и математики, – пишет о природе всеобщего „кризиса мысли“ Л. Силард. – Открытие беспроволочной связи (1895–1897), рентгеновских лучей (1895), радиации (1898) и особенно теории относительности (1905) поколебало прежнее представление о строении мира. Кризис естественно-научного (материалистического или позитивистского) мышления выразился в формуле „материя исчезла“ <…> „Кризис объективно-идеалистического сознания выразился в формуле, принадлежащей Ницше: „Бог умер“. „Материя исчезла“ или „Бог умер“ – обе формулы означали наступление релятивизма и кризис телеологического сознания, кризис веры в развитие (независимо уже от того, что понималось под этим развитием – движение ли истории, развитие ли абсолютной идеи). Вера в эволюцию, в прогресс, которыми жил XIX в., была сметена. Рухнуло представление о разумности строения мира. Вселенная обернулась неуправляемым, непостижимым хаосом. Кризис прежних научных методов, обусловленный новыми научными открытиями, был воспринят как признак бессилия науки, исходящей из рационалистических предпосылок, как крах интеллектуального познания, не способного охватить сложность мира“ (Силорд Лено. Русская литература конца XIX– начала XX века (1890–1917). Будапешт, 1983. Т. 1. С. 24–25). Очевидно, что Волошин, находившийся в 1897–1900 гг. в самом средоточии российской интеллектуальной жизни – в Московском университете – не мог не ощущать упомянутые процессы непосредственно в общении со своим тогдашним окружением. Обращают на себя внимание и авторы книг, послуживших катализаторами его окончательного духовно-интеллектуального «преображения»: В. С. Соловьев и Фридрих Ницше. Среди новых «учителей жизни» в русской интеллигентской аудитории раннего серебряного века это были самые заметные фигуры.
20 Любопытную характеристику дает ему университетский приятель: «Мы были с ним хорошими, настоящими друзьями; ни одна тень недоразумения никогда не проскользнула между нами. Он радовался, встречая меня, участливо расспрашивал о моих делах. Но всегда я чувствовал его существо переполненным какими-то иными образами, мыслями и чувствами, в сфере которых мало оставалось места для житейских волнений, которые переносили мы, для тех блуждающих огней, которые манили нас, для того, что засоряло нашу жизнь, – из радостных делало нас угрюмыми, из доверчивых – подозрительными… Макс не читал газет, хотя все, что делалось на белом свете, конечно, хорошо знал, так как был очень общительным человеком. Интересы его были выше интересов текущего дня, мелочи и мелкие чувства как бы сгорали в огне его души. Вместе с тем он был совершенно противоположен типу отшельника. Весь свет был полон его знакомыми. Толстый и легкий, как большой резиновый шар, перекатывался он от одного к другому, и все неизменно радовались его приходу» (Арнольд Ф. Свое и чужое. Цит. по: [Электронный ресурс] http://lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv_v_03.htm (дата обращения 18.06.2015). Ср. с самохарактеристикой в зрелой волошинской лирике: «Но не чужую, а свою / Судьбу искал я в снах бездомных / И жадно пил из токов темных, / Не причащаясь бытию. / И средь ладоней неисчетных / Не находил еще такой / Узор, который в знаках четных / С моей бы совпадал рукой» («Мой пыльный пурпур был в лоскутьях…», 1913).
21 См.: Кочевых О. Искатель и ходатай // Отрок. UA. Православный журнал для молодежи. 2006. № 2 (21) Цит. по: [Электронный ресурс] http://otrok-ua.ru/sections/art/ show/iskatel_i_khodatai.html?type=98&cHash=ecb92ec78a (дата обращения 18.06.2015).
22 Там же.
23 «Что это было? Лёгкое безумие? Игра актёра, вошедшего в роль до принятия её за действительность? – писал, вспоминая о волошинском „жизнетворчестве“ А. В. Амфитеатров. – Всё, что угодно, только не шарлатанство. Для него Волошин был слишком порядочен, да и выгод никаких ему эти мнимые „шарлатанства" не приносили, а напротив, вредили, компрометируя его в глазах многих не охотников до чудодейства и чудодеев». Тут следует упомянуть, что полученный в «загробных беседах» материал Волошин использовал для доклада «Пророки и мстители», прочитанного в русской аудитории парижской «Высшей школы общественных наук». На упреки Амфитеатрова в эфемерности подобных «исторических свидетельств» последовал ответ: «А если вас вообще интересуют перевоплощённые, то советую познакомиться с графиней Н. Она была когда-то шотландскою королевою Марией Стюарт и до сих пор чувствует в затылке некоторую неловкость от топора, который отрубил ей голову. В её особняке на бульваре Распайль бывают премилые интимные вечера. Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль очень с нею дружны и часто её посещают, чтобы играть в безик. Это очень интересно» [см.: Амфитеатров А. В. Чудодей. Цит. по: [Электронный ресурс] http://lingua. russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv_v_03.htm (дата обращения 24.07.2015)).
24 См.: Лавров А. В. Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина Ц Лавров А. В. Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. Цит. по: [Электронный ресурс] http:// www.litmir.co/br/?b=242302&p=69 (дата обращения 24. 07. 2015). Пробуждение творческих сил Волошин связывал с первым приездом в Коктебель в 1893 г., но в начинающем даровании мало что обещало будущую высокую оригинальность поэта, живописца и искусствоведа – настолько силен был шаблон гражданственности, присущий «народнической» эстетике. Переживаемый поколением Волошина «кризис мысли» «сказался и в отказе искусства от этической проповеди <реализма>, скрыто или явно присутствовавшей почти в любом произведении русского искусства XIX в. Искусство эпохи рубежа обнаружило явное стремление эмансипироваться от этики, подчинив себя своей собственной сфере – эстетике. Прямо или косвенно в этом проявлялось осознание недейственности, бессилия этических, гуманистических концепций XIX в. и попытка воздействовать самим фактом эстетического переживания» (СилардЛена. Указ. соч. С. 25–26).
25 «Соединение в занятиях Волошина профессионального поэта и профессионального живописца представляет собой хотя и не единственный <…> но все же достаточно редкий случай, – пишет современный исследователь. – Ведь речь идет о сходстве приемов и принципов, вырабатывавшихся Волошиным в двух достаточно различных сферах творчества – словесного и несловесного. В начальную ученическую пору овладения приемами изобразительности в стихах заметно не только обилие зрительных образов, но и прямые ссылки на классические произведения живописи <…> В циклах стихов о Париже, в зарисовках впечатлений от других столиц Европы и ее святых мест – Рима, Афин – молодой Волошин использует поэзию как техническое средство, параллельное живописи. <…> Волошин строит образы своих стихов так, чтобы вызвать у читателей непосредственное зрительное впечатление, в парижских стихах близкое к эффектам импрессионистов» (Иванов Вяч. Вс. Волошин как человек духа // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 162–163).
26 Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988. С. 54, 55.
27 Сет. Игнатий Брянчанинов. О прелести. СПб., 1998. С. 6.
28 См.: Там же. С. 81.
29 «Грех предваряет заслугу» (лат.). Это изречение великого апологета раннего христианства Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (Tertullianus, 155/156– 220/240), высказанное им в трактате «О скромности», более известно в вольном изложении: «Не согрешишь – не покаешься [и, следовательно, не спасешься]».
30 См.: Пинаев С. М. «Надрыв и смута наших дней…» (Ф. Достоевский и М. Волошин: «загадка русского духа») Литературоведение. Межкультурная коммуникация. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4(2). С. 928–931.
31 Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой. 1911–1921 / Публ. подготовка текста и при. В. П. Купченко // Волошин М. А. Из литературного наследия. СПб., 1999. Цит. по: [Электронный ресурс] http://az.lib.rU/w/woloshin_m_a/text_1921_pisma_k_petrovoy. shtml (дата обращения 16.07.2015).
32 «Судьба Льва Толстого» (1910).
33 Эта утопия, впрочем, была, отчасти, реализована в феномене «волошинского Коктебеля», служившего «убежищем для отверженных» как в эпоху Гражданской войны («В те дни мой дом – слепой и запустелый – / Хранил права убежища, как храм, / И растворялся только беглецам, / Скрывавшимся от петли и расстрела. / И красный вождь, и белый офицер – / Фанатики непримиримых вер – / Искали здесь под кровлею поэта / Убежища, защиты и совета»), так и – в качестве места съезда «внутренней эмиграции» – в советские годы. Утопия эта сохранена, отчасти, и в наши дни, ибо нынешний Коктебель позиционируется как сезонное собрание «людей не от мира сего», лиц творческих профессий и т. п.
34 Рудольф Штейнер (Steiner, 1861–1925) – австрийский философ и архитектор, один из ведущих деятелей т. н. «оккультного возрождения». В 1912–1913 гг. Штейнер и его последователи, выйдя из «Теософского общества», основали «Антропософское общество», пытаясь примирить оккультные практики и христианство. По идее Штейнера, центром антропософии должен был стать спроектированный им «храм» Гетеанум, строительство которого в предвоенные годы вели ученики Штейнера из разных стран мира в швейцарском местечке Дорнах. О духовных мотивах, связывавших Волошина с антропософской общиной см.: Ракитова Л. А. «Пантеизм» М. А. Волошина (на материале публицистики периода двух первых русских революций) // HayKOBi записки Харшвського нацюнального педагопчного уыверситету iM. Г. С. Сковороди. 2013 Вып. 1 (73). Ч. 1. С. 102–111.
35 См.: Волошин М. А. Избранное. Стихотворения, воспоминания, переписка. Минск, 1993. С. 293.
36 См.: Волошин М. А. Путник по вселенным. М., 1990. С. 305. Ср. с письмом к А. М. Петровой от 25 января / 7 февраля 1915 г.: «Но о пребывании там <в Дорнахе> в течение пяти месяцев я не жалею. Оно дало мне возможность стоять на таком наблюдательном пункте, откуда я видел изнутри и германский мир и сам в себе переживал то, что мы все переживали русским своим сознанием. Должен сказать, что это, при том условии, что я ни разу никакими германскими доказательствами не соблазнялся, было бесконечно тяжело, настолько тяжело, что, переехав границу Франции, я почувствовал, что сотни пудов свалились у меня с души, так все сравнительно просто и ясно, когда видишь в немцах только варваров и врагов. Дело гораздо сложнее, когда видишь, результатом какой идеологии является это варварство и жестокость, и видя их искренность (да!) и то, как все – все обвинения до последнего слова, обращенные на немцев, – повторены и в германском мире по отношению к Анг<лии> и России. Тогда невольно начинаешь гораздо строже взвешивать собственные свои инстинктивные чувства и даже весьма сознательные убеждения» (Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой. 1911–1921… Цит. по: [Электронный ресурс] http://az.lib.rU/w/woloshin_m_a/text_1921_pisma_k_petrovoy. shtml (дата обращения 16.07.2015).
37 Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой. 1911–1921… Цит. по: [Электронный ресурс] http://az.lib.rU/w/woloshin_m_a/text_1921_pisma_k_petrovoy.shtml (дата обращения 16.07.2015).
38 В 1915 г. полным крахом союзных английских, французских, австралийских, новозеландских и индийских военно-морских и сухопутных сил закончилась длившаяся двенадцать месяцев Дарданелльская операция против союзной Германии Османской Империи, а осенью-зимой того же года пала Сербия, открыв, помимо прочего, для Серединных держав прямое сообщение с турками, что имело стратегическое значение для всего соотношения сил в Первой Мировой войне.
39 Впрочем, в стихах позднего Волошина о России (включая и цититрованное) за «патриотическим» ясно различим и «эротический» контекст, родственный идеальной любовной страсти средневековых трубадуров. В этом поздний Волошин неожиданно перекликается с поздним В. В. Маяковским, с его «советской» патриотической лирикой.
40 См.: Волошин М. А. «Жизнь – бесконечное познанье…» М.,1995. С. 17.
41 См.: Волошин М. А. Лики творчества. Л., 1988. С. 460.
42 Маковский С. К. Максимилиан Волошин // Маковский С. К. Портреты современников: Портреты современников. На Парнасе «серебряного века». Художественная критика. Стихи / Сост., подготовка текста и коммент. Е. Г. Домогацкой, Ю. Н. Симоненко; Послесловие Е. Г. Домогацкой. М., 2000. С. 200.
43 См.: Кочевых О. Искатель и ходатай // Отрок. UA. Православный журнал для молодежи. 2006. № 2 (21) Цит. по: [Электронный ресурс] http://otrok-ua.ru/sections/art/ show/iskatel_i_khodatai.html?type=98&cHash=ecb92ec78a (дата обращения 18.06.2015).
44 «Вся власть Патриарху» (впервые опубликовано: Таврический Голос (Симферополь). 1918. № 67. 22 дек. С. 2).
45 Отец Арсений. Издание пятое. М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2009. Цит. по: [Электронный ресурс] http://nikola-innokenti.prihocl.ru/users/54/854/eclitor_files/file/Ch^%20ApceHH^pclf (дата обращения 16.07.2015).
46 Эта книга, несомненно, выдающаяся по своим художественным достоинствам, в то же время вызывала и вызывает множество сомнений в качестве документального источника, несмотря на то что, наряду с «именными именами» (т. е. непроверяемым авторством) в ней содержатся указания на хорошо известные в отечественной церковной истории события и лица. Некоторые склонны считать о. Арсения собирательным образом священнослужителя эпохи советских гонений, существует мнение и о мистификации и даже – о провокации спецслужб (см .'.Дмитриев Н. Убить все живое (интернет-публикация на сайте «Библиотека Якова Кротова» http://www.krotov.info/history/20/1980/ arseny.htm). «Волошинский» эпизод помещен в очерке «Поэты серебряного века», подписанном «Н. Т. Лебедев» и содержащем запись двух бесед с иеромонахом Арсением в 1972 г. Существенную часть этого очерка составляет явно подвергнувшийся литературной обработке пространный монолог некоего «Ильи Сергеевича», представляющий небольшой трактат, посвященный духовной состоятельности творчества крупнейших авторов серебряного века с точки зрения православной сотериологии. Понимая крайнюю сомнительность этого очерка как биографического документа, обращаем внимание на любопытную деталь. Несомненно, что книга «Отец Арсений» вызывает одобрение многих ведущих деятелей современной Русской Православной Церкви и, таким образом, может, в какой-то мере, служить иллюстрацией их понимания духовной ценности литературного наследия «серебряного века». В этом смысле Волошин оказывается среди немногих поэтов начала XX века, творчество которых принимается практически безоговорочно. Помимо него в этот православный «золотой фонд» попали Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Надежда Павлович и Георгий Чулков.
47 Корамышев С., иерей. Достоин ли Максимилиан Волошин анафемы? Цит. по: [Электронный ресурс] http://ruskline.ru/news_rl/2012/05/28/dostoin_li_maksimilian_ voloshin_anafemy/ (дата обращения 23. 07. 2015).
48 Художественное творчество с его условностью и сложным отношением автора к создаваемому им вымышленному миру никогда не становилось само по себе предметом осуждения в русском Православии – все конфликты подобного рода (как, например, уже упомянутое в комментариях «Определение» Св. Синода о деятельности Л. Н. Толстого) возникали вокруг непосредственных богословских деклараций, не имеющих отношения к литературе. Это, кстати, понимает и сам. о. Сергей: «Волошин не оставил никакого оригинального философского (религиозного) трактата. Может быть, поэтому он пока избежал участи Е. П. Блаватской (которую всегда почитал) и Н. К. Рериха, что были преданы анафеме на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в ноябре 1994 г. – как проповедники богоборческих, антихристианских идей». Кроме того, указывая (справедливо) на идейно-художественные противоречия в произведениях и позиции позднего Волошина, о. Сергей почему-то игнорирует открытое исповедание им своей православности во время гонений и личной смертельной опасности, что, разумеется, – коль скоро речь идет о церковном осуждении – не может быть не учтено, как положительный аргумент огромной силы.
49 Гумилев Н. С. Пятистопные ямбы (1915).
Антропоцентризм как миропонимание
Богостроитель ГорькийА. В. Моторин
Алексей Максимович Пешков, более известный под литературным прозвищем Максим Горький, очень не любил Православие. Его нелюбовь сложилась в детстве, с годами нарастала и отражала усредненное отношение российского общества той эпохи к отечественной вере. Своим творчеством писатель такую неприязнь отражал, выражал и распространял. Читая Горького, можно понять глубинные духовные причины сокрушительных мировоззренческих и государственных переворотов, охвативших Россию в начале XX века и подспудно действующих до сих пор. Биографические книги «Детство» (1912–1913), «В людях» (1914–1915), равно как и многие другие произведения писателя, потоком подавляющих образов свидетельствуют о падении веры православной в народе. А прижизненная любовь, которую Горький снискал у многих читателей, подтверждает точность его свидетельства.
Конечно, Горький писал воспоминания уже в свои зрелые годы, да к тому же писал художественно, и это накладывало отпечаток на воспроизведение его детских представлений, но так или иначе писатель раскрыл собственный взгляд на становление своего мировосприятия, своей веры.
Православие, неотделимое от церковной жизни, изначально и прочно связалось в его сознании с образом его деда. Духовная жизнь, насаждаемая дедом, внешне выглядела благостно, пусть и скучно: «Перед ужином он читал со мною псалтирь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова…» («Детство») (13, 89)1. Однако в домашнем быту и вне дома благопристойность постоянно вступала в кричащее противоречие со злом, насилием, обманом, творимыми больше всех тем же дедом. Как следствие, в душе ребенка складывалось и укреплялось представление о Православии как вере злой, ложной и лживой, угнетающей человека, тем более, что и в толковании самого деда «бог» был жесток, а значит, подавал такой пример человеку: «Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость: вот согрешили люди – и потоплены, еще согрешили – и сожжены» («Детство») [13, с. 86].
Иная вера – светлая, добрая, окрыляющая душу, воплощалась в образе бабушки. Ребенку верилось, что у бабушки и деда разные «боги»: «Дед водил меня в церковь: по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: все, что читают священник и дьячок, – это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину. Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвоило мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать» («Детство») [13, с. 89].
Все упование детской души обращалось к «богу» бабушки: «В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, – все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и злость. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, – бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога?» («Детство») [13, с. 89].
Пытливый ум ребенка начинал сомневаться в истинности дедова «бога»: «Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним» («Детство») [13, с. 87].
Особенно усиливались сомнения оттого, что вера деда при внешнем благолепии оправдывала грехи, преступления: «У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: "Избавили от беды милостивци". Я помню эту "беду": заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова» («Детство») [13, с. 88–89].
Желая отомстить деду за избиение бабушки, мальчик решил обезобразить эти любимые дедом святцы, которые раньше и сам с удовольствием рассматривал, вспоминая знакомые жития святых: «Но теперь я решил изрезать эти святцы и, когда дед отошел к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и – стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд – явился дедушка <…>» («Детство») [13, с. 138].
С течением времени внутреннее сопротивление Православию в душе ребенка нарастало: «В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди» («В людях») [13, с. 266].
Вместе с тем, от бабушки мальчик услышал, что «бог не все знает»: «С той поры ее бог стал еще ближе и понятней мне» («Детство») [13, с. 84]. Вера бабушки создавала ее собственный очеловеченный образ бога, который и привлекал мальчика своей внутренней соприсущностью природе и человеческой душе: «Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок. <…> Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, – стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать» («Детство») [13, с. 82–83].
Истинный «бог бабушки» существует везде, даже в церкви, где с ним можно вступить в общение при отрешении отхода богослужения, поверх обряда: «Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густозолотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы. Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странною жизнью сказки <…>» («В людях») [13, с. 265]. Очертания церковной обрядности, образы икон растворяются в природно-духовном бытии, животворимом «странною жизнью сказки», веяниями язычества, апокрифов, еретических учений: «Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже <…>» («В людях») [13, с. 266].
При столкновении мечтательной веры с обыденностью из души ребенка излетают собственные молитвы, первые порывы словотворчества, которые запомнились писателю на всю жизнь:
Господи, господи – скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то – жить терпенья нет,
Хоть удавись, – господи прости!
(«В людях») [13, с. 266]
Главный источник этой жизненной скуки, как представлялось юному Горькому, – сухая обрядность Православия, воплощенная в начетничестве деда и обличаемая бабушкой: «А скушно, поди-ка, богу-то слушать моленье твое, отец, – всегда ты твердишь одно да все то же. <…> от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!» – шутливо попрекнула деда бабушка, а тот в ответ «бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке: „Вон, старая ведьма!“» («Детство») [13, с. 89].
Само обучение чтению на основе священных книг, будучи исполненным сухого начетничества, подсекало живую веру: «Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня, мозг быстро уставал, соображение не работало, я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как например: мыслете-он-мо = мо, рцы-добро-веди-ивин = рдвин = = мордвин <…>. Понятно, что вместо мордвин, я говорил – мордин, однажды сказал вместо богоподобен – болтоподобен, а вместо епископ – скопидом. За эти ошибки дед жестоко порол меня розгами или трепал за волосы до головной боли. <…> Это была пытка, она продолжалась месяца четыре, в конце концов я научился читать и "по-граждански" и "по-церковному", но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам» («Как я учился», 1918–1922) [14, с. 223–224]. Церковнославянская азбука вызывала особенную неприязнь и в целом связывалась с образом деда: «Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: "земля" походила на червяка, "глаголь" – на сутулого Григория, "я" – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки» («Детство») [13, с. 65].
Изо дня в день, из года в год пытливые наблюдения вели мальчика к новым сомнениям. В итоге вера православная стала держаться только на страхе наказания, которое наступало не столько от «бога», сколько от людей, служащих ему: «Они вовлекали бога своего во все дела дома <…> Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня охватывал холодным облаком страх, – он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада» («В людях») [13, с. 270]. В детском восприятии этот «бог» страшен тем, что умеет простирать свою насильственную власть с небес на землю. Даже «добрый бог бабушки» (13, 270) не может уберечь от этого всепроникающего зла и допускает привлечение насилия ее устами: «Вот скажу дедушке – он те кожу-то спустит!» («Детство») [13, с. 84].
Поскольку мальчик в конце концов притерпелся к непрестанным телесным истязаниям, ушел и страх перед опасным дедовым «богом»: «<…> разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки». [13, с. 270].
На склоне лет писатель уточнил свой детский пантеон: «Лет восьми я знал уже трех богов: дедушкин – строгий, он требовал от меня послушания старшим, покорности, смирения, а у меня все это было слабо развито, и, по воле бога своего, дедушка усердно вколачивал качества эти в кожу мне; бог бабушки был добрый, но какой-то бессильный, ненужный; бог нянькиных сказок, глупый и капризный забавник, тоже не возбуждал симпатий, но был самый интересный. Лет пятнадцать-двадцать спустя я испытал большую радость, прочитав некоторые из сказок няньки о боге в сборнике "Белорусских сказок" Романова. По сказкам няньки выходило, что и все на земле глуповато, смешно, плутовато, неладно, судьи – продажны, торгуют правдой, как телятиной, дворяне-помещики – люди жестокие, но тоже неумные, купцы до того жадны, что в одной сказке купец, которому до тысячи рублей полтины не хватало, за полтинник продал ногайским татарам жену с детьми, а татары дали ему полтину подержать в руках да и угнали его в плен, в Крым к себе, вместе с тысячей рублей, с женою и детьми» («О сказках», 1935) [27, с. 401].









































