Текст книги "Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала ХХI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934"
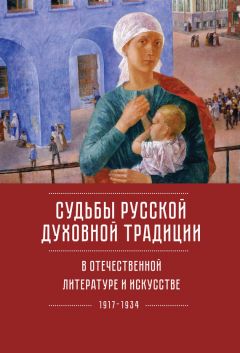
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Враждующих скорбный гений
Братским вяжет узлом,
И зло в тесноте сражений
Побеждается горшим злом.
Взвивается стяг победный…
Что в том, Россия, тебе?
Пребудь смиренной и бедной —
Верной своей судьбе.
Люблю тебя побежденной,
Поруганной и в пыли,
Таинственно осветленной
Всей красотой земли.
Люблю тебя в лике рабьем,
Когда в тишине полей
Причитаешь голосом бабьим
Над трупами сыновей.
Как сердце никнет и блещет,
Когда, связав по ногам,
Наотмашь хозяин хлещет
Тебя по кротким глазам.
Сильна ты нездешней мерой.
Нездешней страстью чиста,
Неутоленною верой
Твои запеклись уста.
Дай слов за тебя молиться,
Понять твое бытие,
Твоей тоске причаститься,
Сгореть во имя твое.
(«Россия», 17 августа 1915 г.)
Нетрудно заметить, что терпящая поражение родина в творческом мировосприятии Волошина оказалась в роли того самого погибающего существа, с которым поэт мечтал соединиться в подвиге любовного сострадания, преодолев, тем самым, начинавшую его тяготить индивидуалистическую «грань меж собой и людьми». Действительно, преодолением подобного состояния является обнаружение «вовне» такого «другого», которое было бы опознано как ценность помимо ценностных представлений индивидуалиста, т. е. безусловно. Этим «другим» может быть божество, человек, животное, религиозная или общественная идея, фетиш (например, картина или почтовая марка) и т. д. – бытие которых в глазах субъекта оправдывает само себя и стоит, потому, выше бытия самого субъекта. Поэтому формой преодоления индивидуализма является любовь, а критерием этого преодоления – возможность смертной жертвы.
На самом расхожем, бытовом уровне опыт преодоления индивидуализма усваивается человеческим большинством в опыте эротической страсти и материнства (отцовства), хотя, разумеется, далеко не исчерпывается им. В частности, в жизни Волошина обстоятельства складывались таким образом, что, при всем внешнем благоприятствовании, бытовые переживания очень долго не давали ему достаточной «подъемной силы» для выхода из замкнутого круга личных переживаний. В мемуаристике это повторяется многократно: очень милый, интересный, невероятно общительный человек… совершенно закрытый как личность, непроницаемый для окружающих настолько, что его «надмирность», отчужденность от «житейских волнений, которые переносим мы» вызывает некоторую робость, даже страх. И вот, наконец, искомый «импульс» пришел, – имея источником не персону или идею, а… страну, ощущение принадлежности к которой сообщало Волошину возможность следовать в своем патриотическом энтузиазме «даже до смерти, и смерти крестной» [Флп. 2; 8]39.
Это новое переживание абсолютной ценности России и всего, связанного с ее бытием (никогда не свойственное Волошину, ранее, в своих заграничных странствиях утрачивавшего «соединение» с родиной до того, что единственным связующим звеном оставались лишь неизменно любимые книги Достоевского), возникнув, разрушало прежние «декадентские» мировоззренческие установки, развивалось и было действенным. В апреле 1916 г. поэт, окончательно утратив интерес и к журналистике и к европейским военным страстям, рискуя жизнью в разгар подводной охоты германских субмарин за транспортами «Антанты», совершает в качестве дипломатического курьера морской переход из Франции в Россию. К этому времени, усилиями императора-главнокомандующего и собранного им ансамбля талантливых военачальников, был достигнут перелом в неблагоприятном ходе боевых действий и Россия, разгромив турок под Эрзерумом и австрийцев под Луцком, казалось, шла к победоносному завершению войны. Однако Волошин, томимый, против всеобщего оживления соотечественников, самыми тягостными предчувствиями, «затворяется» в Коктебеле, не желая иметь никакого касательства ни к политике, ни к общественности и полностью переключившись на исследования готики. Из своего крымского «затвора» он появляется вновь лишь после поразившего всех внезапного падения российской монархии (в феврале-марте 1917 г., сразу вслед за «победоносной» Петроградской конференцией союзных держав, утвердившей устройство послевоенного мира!). В эти трагические дни, возмущенный чудовищной ложью деятелей анекдотической «февральской революции» и понимая губительность для народа и страны этой грандиозной политической провокации, Волошин испытывает второй в своей жизни духовный переворот, конгениальный тому, что произошел с ним некогда в азиатских пустынях:
Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали «бескровную революцию», как было принято выражаться в те дни… На Красной площади был назначен революционный парад в честь Торжества Революции. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под Кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова «Без аннексий и контрибуций». Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной Книге и об Алексии Человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня <…> эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция и оставались только Кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного времени («Россия распятая»)
Именно с момента пережитой на Красной площади пророческой «эпифании», как говорил сам Волошин, «темой моей является Россия». О волошинском «послеревоюционном» творчестве (равно как и о героическом поведении в годы Гражданской войны) на настоящий момент существует обширная литература. Собственно именно грандиозный историософский лироэпический цикл «поздних» художественных текстов, обращенных к судьбам родины, и утвердил за Волошиным то выдающееся место, которое он ныне занимает в «большой» отечественной словесности, ввел его в школьные учебники и хрестоматии и обеспечил непременное присутствие в живом читательском обиходе: все, созданное ранее, при незаурядном художественном мастерстве и остроумии, осталось лишь изящной страничкой истории серебряного века, ценимой немногочисленными знатоками. Не видя необходимости неоправданно расширять тематические границы настоящего очерка, скажем лишь, походя, что волошинские характеристики присущей русскому народу «культуры взрыва», требующей, соответственно, исключительно жесткую государственную «форму», могут многое прояснить как в нынешних общественных спорах о пресловутой «вертикали власти»:
В анархии всё творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несём культуру взрыва.
Огню нужны – машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда – тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Пётр – стрельцу, как Аввакуму – Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своевольи, и в самодержавьи.
И нет истории темней, страшней,
Безумней, чем история России —
так и в обострившейся в последнее время полемике о цивилизационном взаимодействии отечественного бытия с ценностями европейских демократий:
В России нет сыновнего преемства
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Курить в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя – заморского болвана
Тащить к реке привязанным к хвосту.
Зато в нас есть бродило духа – совесть —
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного. В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, – рядом
С любым из европейцев – человек.
(«Россия», 1924).
Оставив на этом неисчерпаемую тему волошинских историософских интуиций и прозрений поздних лет творчества, следует сосредоточиться на его духовно-религиозном аспекте. В настоящее время широко бытует эффектная формулировка, многократно повторенная в работах В. П. Купченко: «"Примеривший" в молодые годы все мировые религии, западные и восточные, Волошин под конец вернулся „домой“ – к православию»40. Тут кажутся необходимыми некоторые уточнения.
Как уже упоминалось, Волошин, мало заботясь о приведении своего образа жизни в соответствии с правилами православного домостроительства, тем не менее, никогда не обнаруживал не только намерений публично разорвать с русской Церковью (как, например, Лев Толстой), но даже вступить с ней в сколь-нибудь заметный конфликт на идейной или общественной почве (как Д. С. Мережковский). К этому следует добавить неизменное доброжелательное внимание к новозаветной проповеди:
Каково бы ни было отношение к Евангелию как к книге человеческой или к книге божественной, евангельский рассказ незыблемыми кристаллами лежит в душе каждого. Язык нашего морального чувства возник из Евангелия, и каждое евангельское имя, каждый евангельский эпизод, каждая евангельская притча стали гранями нашей души41.
С другой стороны, и Церковь в лице своих тогдашних пастырей, мало сочувствуя «упадническим» настроениям литературной эпохи, никогда не возвышала голос непосредственно в адрес Волошина – в этом плане его творчество на общем фоне серебряного века внимание к себе просто не привлекало. Поэтому представлять православие Волошина в годы революции и Гражданской войны как «возвращение домой» неверно, ибо «дом» он, строго говоря, и не «покидал». По крайней мере, младенческое крещение в православной киевской Железной церкви во всех духовных и жизненных странствиях явно не было в тягость. Другое дело, что отношение «позднего» Волошина к природному вероисповеданию радикально переменилось. «Нужен был „Октябрь“, – писал С. К. Маковский, – нужны были трус и глад, и мор революции, воспринятые Волошиным со щемящей болью и мистическим смирением (но не соблазнившие его социальными иллюзиями как скольких писателей), нужно было потерять Россию, ту благословенную, чудотворную Россию, которую „Октябрь“ втаптывал в кровь и грязь, чтобы он обрел ее в себе… И вдруг забили в нем какие-то изглуби русские истоки: он вырос в эти революционные годы…»42.
Известно, что Волошин в разгар гражданских распрей и террора постоянно внешне как-то демонстрировал свою принадлежность к русскому Православию (очевидно – публичным троеперстным крестным знамением, подчеркнуто уважительным общением со священнослужителями и т. п.), причем делал это крайне настойчиво, так что окружающим бросалось в глаза. Осип Мандельштам, побывавший в 1919 году у Волошина в Крыму (и не очень расположенный впоследствии к хозяину Коктебеля), иронически уверял, потому, что «христианство Максимилиана Волошина будто бы тоже от его всегдашней потребности эпатировать. Мол, Волошину в себе самом нравится то, что он – христианин»43. Понятно, что подобный «эпатаж» в складывающихся тогда условиях смело может быть приравнен к исповедничеству (в это же самое время, в «Красном Петрограде», точно так, неспешно и публично, осенял себя крестным знамением перед каждым встреченным храмом обычно целомудренно-скромный во внешних проявлениях православности Николай Гумилев). Кроме того, для Волошина в 1918–1922 гг. подобные «жесты» являлись не только важной для него лично манифестацией моральной солидарности с «отверженной» и «гонимой стороной». Можно с документальной точностью утверждать, что «сторону» русской Церкви в эти годы Волошин всецело принимал, по меньшей мере, в плане общественном. Следует помнить, что на Поместном Соборе 1917–1918 гг. была упразднена синодальная форма церковного управления и место обер-прокурора в православной иерархии вновь занял Патриарх – свт. Тихон (Белавин, 1865–1925), прославляемый ныне с Собором новомученников и исповедников Российских. Восстановление канонически правильного руководства отечественным Православием не только упраздняло двухвековую причину отчуждения просвещенной части российского общества от «казенного ведомства по делам вероисповеданий» (в том историческом контексте это было малоактуально), но, главное, превращало Церковь в самостоятельную консолидирующую силу в расколотом гражданской войной русском мире. Поэтому некоторое время Волошин делал на православную общественность политическую ставку, заявляя об этом, опять-таки, открыто и публично. «Не случайно, – писал он в декабре 1918 года, – русская церковь в тот самый момент, когда довершался разгром русского государства, была возглавлена патриархом. Не случайно большинство Собора, бывшее против патриархата, тем не менее установило его, интуитивно повинуясь скрытому гению русской истории. При развале русского государства патриарх, естественно, становится духовным главой России. Как в то время, когда насущной исторической задачей момента было разрушение России, проводимое последовательно и неуклонно по гениальным планам германского Генерального штаба, лозунг момента был прекрасно формулирован Лениным в его книге „Вся власть – Советам!“, так теперь, когда дело идет о воссоздании единой России, лозунгом должна стать формула: „Вся власть Патриарху“»44. Разумеется, подобная позиция была утопической, но подобное выступление является неопровержимым свидетельством полного общественного единства Волошина именно с русским Православием (если угодно, единства «партийного»).
У «позднего» Волошина была еще одна – творческая – причина переосмыслить свою принадлежность к Православию. Религиозная доктрина всегда воспринималась им своеобразным «ключом» к основам культурного бытия любого народа, без внимания к которой невозможно понимание его исторической миссии (в частности – в сфере искусства). Пребывая в «декадентские» годы «гражданином мира», «чужаком по всему складу мышления, по своему самосознанию и по универсализму художнических и умозрительных пристрастий» (С. К. Маковский), Волошин никак не выделял (если не сказать больше) Россию среди занимавших его творческих «тем» и, соответственно, неизбежно обходил вниманием духовные мотивы, вдохновлявшие во все времена творческие усилия собственных соплеменников. И с той же неизбежностью после «патриотического переворота», свершившегося с Волошиным в 1914–1917 гг., радикальное доминирование «русской темы» вело к творческому обращению к Православию. Результатом, в частности, явились великолепные художественные тексты, обращенные к православным святыням:
В раскаленных горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений,
Явленных искусством, – он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век, —
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междуусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ твой над Русью вознесенный
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный.
(«Владимирская богоматерь», 1929)
И все же религиозный облик «позднего» Волошина сложен. Моральные соображения, общественно-политические пристрастия, творческие установки не могут, разумеется, его исчерпать-средоточием тут оказывается непосредственное участие в живом церковном бытии, личная воцерковленность, суждение о которой можно составить сейчас с большим трудом и весьма приблизительно. В этой связи необходимо упомянуть «волошинский эпизод» в популярном среди православных читателей сборнике советских «самиздатовских» очерков об эпохе церковных гонений «Отец Арсений»:
В 1924 г. в наш храм по окончании литургии вошел среднего роста коренастый человек с большой бородой, огромной шевелюрой, довольно широким лицом, лучистыми добрыми пытливыми глазами. Все это, конечно, я увидел, когда он подошел ко мне. Подойдя, сказал: «Отец Арсений! Я к вам на разговор, где мы можем спокойно поговорить?» – «Пройдемте», – и я провел его к скамье, стоявшей у одной из стен храма, предназначенной для престарелых прихожан. Мы сели, я взглянул в лицо пришедшего. Что-то знакомое проступало в его чертах, но я знал, что встреч с ним не было. Видел, что он не знает, с чего начать разговор, и несколько растерян. Решил помочь ему и неожиданно для себя сказал: «Максимилиан Александрович! Я слушаю вас». – Он вздрогнул и, несколько волнуясь, спросил: «Откуда вам известно мое имя?» Я не знал, что ответить, ибо имя возникло в моей голове внезапно, видимо по произволению Господа. Видя мое молчание, он начал свой рассказ:
"Я действительно Максимилиан Александрович, фамилия Волошин, по «профессии» – поэт, художник-акварелист, не совсем удачный философ-мыслитель, вечный искатель истины, ходатай по чужим делам, выдумщик и человек с не очень удачной (сумбурной) личной жизнью; по своей природе – поэт, художник и мечтатель, любитель красоты, в том числе и женской, и ощущаю свою греховность перед Богом. Живу в Крыму, в Коктебеле, приехал в Москву по делам и для того, чтобы зайти в Ваш храм и переговорить с Вами. Мне это посоветовал Сергей Николаевич Дурылин, человек верующий и мой добрый знакомый. Я, отец Арсений, все время ищу Бога, ощущаю Его близость и даже неоправданную ко мне Его милость и снисхождение, но я – большой грешник".
Говорил внешне спокойно, но я чувствовал его внутреннюю напряженность. Я читал ранее многие его стихи, любил их внутренний смысл, знал о его необычайной доброте и о спасении им многих людей от расстрела и заключения. Рассказывали, что он склонен к эпатированию (самовыставлению перед окружающими), но сейчас передо мной сидел усталый, взволнованный и чем-то огорченный человек. <…>
Мы пошли на мою квартиру, где Анна Андреевна, хлопотливая старушка, моя хозяйка по дому, начала нас кормить чем-то средним между завтраком и обедом. С Максимилианом Александровичем проговорили почти до самой вечерни, и это была исповедь, рассказ о своей жизни, в которой он жил, и о его окружении. Конечно, содержание исповеди рассказывать не буду, но многое мне тогда было непонятно, только восемнадцатилетнее пребывание в "лагере смерти" научило меня, по соизволению Господа, понимать человеческую душу.
Многое было как у каждого человека, но поражала необыкновенная чистота его души, словно это была душа ребенка. Временами, слушая мои слова, он восклицал: "Конечно, так, верно, я так и думал". Выслушав исповедь, я спросил: "Максимилиан Александрович, Вы исповедовались, бремя греха снято, скажите, будете стараться не совершать вновь тех ошибок, в которых приносили покаяние?" – и он честно, как-то совсем по-детски, ответил: "Отец Арсений! Конечно, буду бороться сам с собой, но боюсь, что по своей природе слишком приземлен, и где-то и когда-то, в сложившихся ситуациях споткнусь, не совладаю с собой".
Смотря на Максимилиана Александровича, я понял всю чистоту его души и искренность ответа, отпустил его грехи и причастил.
С 1924 г. до самого моего первого ареста в 1927 г. Максимилиан Волошин приходил ко мне, когда приезжал в Москву, и наши отношения перешли в дружбу45.
Разумеется, подобное свидетельство, будучи документально достоверным, снимало бы все вопросы. Однако сами издатели сборника предупреждают о некоей «литературной обработке» вошедших в него материалов, равно как и о том, что «подлинность описываемых событий» – «отчасти скрыта именными именами и названиями»46. Между тем, не вызывающее никаких сомнений автобиографическое признание самого Волошина, относящееся или к тому же 1924 году, или к началу 1925-го, существенно осложняет восприятие вышеприведенной картины горячей исповеди поэта православному духовнику и «церковного» отпущения грехов:
Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов – и, в то же время, не могу его мыслить вне Христа.
Как бы ни интерпретировать подобное откровение, для православного восприятия в нем есть нечто «невместимое». Неслучайно потому, о. Сергей Карамышев на сайте «Русской народной линии» опубликовал к 135-летию со для рождения поэта статью (имевшую большой резонанс в русском интернете), где призывал… анафемствовать Волошина, имеющего ныне «воздействие почти религиозное на многих творческих людей» – «дабы прекратить соблазн его творчества среди верных чад Русской Православной Церкви» («Это будет, несомненно, проявлением любви по отношению к самому поэту, ибо чем меньше соблазна станет производить его осужденное Церковью творчество, тем меньше он будет истязуем на поистине Страшном Суде Божием»)47.
Понятно, что подобный призыв о. Сергея можно расценить лишь как риторическую гиперболу, хотя бы потому, что никаких собственно «литературных» отлучений до сего момента тысячелетняя история русского Православия не знала и создавать подобный сомнительный прецедент нет никакой нужды48. Но нельзя и игнорировать тот очевидный факт, что в сформировавшейся после 1917 года творческой позиции Волошина, действительно, имеется – если посмотреть на нее под православным углом зрения – некий «еретический» изъян, восходящий к нарушению общехристианского запрета на «идолотворчество» («Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» [Исх. 20: 4–5]). Между тем, в творчестве позднего Волошина образ и идея России стали именно «кумиром» – к этой теме, так или иначе, сводились все его художественные усилия, ей была подчинена вся остальная тематика его тематического репертуара этих лет. Не стала исключением и «тема Православия», что, естественно, радикально сместило духовные акценты в волошинских произведениях. Высшей ценностью тут оказывается Россия, а Православие – лишь одним из ее атрибутов, важных для Волошина, прежде всего, как «ключ» к постижению исторической нравственной и культурной «русской идеи». Любовь к Родине он ставил выше любви к Истине.
Поэтому, если у Николая Гумилева и Анны Ахматовой, протагонистов Максимилиана Волошина по великой «православной триаде» поэтов серебряного века, религиозно-духовное начало в творчестве служит элементом побудительным, динамичным и вдохновляющим («И счастием душа обожжена / С тех самых пор. Веселием полна / И ревностью, и мудростью. О Боге / Со звездами беседует она…»49) – у Волошина наличие православной тематики оказывается, наоборот, существенным ограничителем творческой свободы, источником внутреннего конфликта, «бременами тяжелыми и неудобоносимыми» [Мф. 23: 4]. Осознав в 1917 г. свою причастность к России с такой неотразимой силой, он не мог не осознать затем свою причастность к православной Церкви, переосмыслив содержание природной религии. Но, таким образом, вместо «Столпа и утверждения Истины» (быть хранительницей чего призвана Россия), – русская Церковь оказалась в творческом мировосприятии позднего Волошина лишь неким «обязательным приложением» к процессу художественного постижения «русской идеи». Более того – «приложением» раздражающим, грозящим постоянно разрушить гармонию сложившегося за все годы «блужданий» художественного мира, сохраняющего следы и языческой, и теософской, и антропософской символической образности. И, главное, в своей патриотической экзальтации Волошин плохо различал истинное, вненациональное и альтруистическое содержание исторической миссии его обожаемой и боготворимой России: быть «третьим и последним Римом», сохраняющим правую веру среди катастроф и отступничества «последних времен». А вне этой духовной миссии все красоты национальной культуры и историософские откровения теряют свой смысл: Истина выше Родины.
«Это – кающийся», – сказал некогда о. Амвросий Оптинский о Достоевском, который занимает в современном православном художественном чтении столь выдающуюся роль. Волошин, место которого в этом чтении также весьма велико, несомненно, был «сомневающимся» вплоть до пустынной могилы (til августа 1932 г.) на Карадаге – едва заметной каменной насыпи без креста, надгробия, ограды. Об этом следует помнить, обращаясь к творчеству Максимилиана Волошина, – равно как помнить и о том, что именно ему удалось сформулировать credo, определяющее и по сей день все бытие патриотической творческой элиты:
Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
(«На дне преисподней», 1922)
Примечания
1 Этот храм, возведенный в Киеве в 1867–1871 гг. близ Еврейского рынка на Галицкой площади, называли еще «Железной церковью», т. к. в основу его легла оригинальная железная конструкция, созданная инженером А. А. Никкельсом, который пытался решить задачу сооружения храмовых зданий заводским «поточным методом». Несмотря на то что в «Железной церкви» летом стояла невыносимая жара, а зимой – холод, техническая новинка какое-то время была популярна у киевлян. Однако металлический каркас скоро пришел в негодность, и храм приходилось постоянно реставрировать и укреплять. В 1934 г. Иоанно-Златоустовская церковь, лишенная Наркомпросом статуса исторической ценности, была снесена при реконструкции Галицкой площади (с 1952 г. – Площадь Победы). В настоящее время на месте крестильной церкви Волошина находится Национальный цирк Украины. Из «Свидетельства» Киевской духовной консистории явствует, что, согласно записи № 99 в метрической книге Старо-Киевской Иоанно-Златоустовской церкви сын коллежского советника Александра Максимовича Кириенко-Волошина (1838–1881) и его жены Елены Оттобальдовны (урожденной Глазер, 1850–1923), родившийся 16 мая 1877 года, был крещен «июня двадцать пятого» того же года: таинство крещения совершал свящ. Николай Успенский, воспреемниками же были дед и бабка будущего поэта – статский советник Максим Яковлевич Кириенко-Волошин и «вдова статская советница Надежда Григорьева Глязер».
2 Во время единственного сознательного свидания с киевской родней (в августе 1886 г., когда Елена Оттобальдовна приезжала с сыном принимать дарственную на часть капитала), на юного Волошина произвел сильное впечатление их патриархальный уклад, а также – одна из молитв бабки Евгении, начинавшаяся словами «Господи, прокляни…». В 1926 г. он зафиксирует эти детские воспоминания во время психоаналитических сеансов.
3 Датировка обращает на себя внимание: это время резкой эскалации революционного террора народников. Объявленная 28 августа 1879 г. Исполнительным Комитетом «Народной Воли» «охота на царя» вызвала бурную реакцию в русском обществе. В частности, история литературы в эти годы знает многочисленные «идейные» семейные конфликты и драмы, омрачившие детство и юность будущих писателей серебряного века и судьбы их родителей (напр., семейства Мережковских, Горенко, Вяч. Иванова и др.). Можно предположить, что коснулось это и Волошина: в материнском круге деяния народовольцев обсуждались интенсивно и горячо. По крайней мере, в своей автобиографии (1925) он подчеркивает: «Первое впечатление русской истории, подслушанное из разговоров старших – „1-е марта“» (т. е. убийство Александра II). А, двумя годами ранее, переезд Елены Оттобальдовны с маленьким сыном от брошенного в Таганроге мужа в Севастополь состоялся буквально под гром динамита: 19 ноября 1879 г. при следовании Александра II в Москву был взорван свитский поезд, а 5 февраля 1880 года Степан Халтурин поднял на воздух Желтую столовую Зимнего дворца (император в обоих случаях чудом остался цел).
4 Волошин Максимилиан. Записи 1932 г. (Электронный ресурс] http://az.lib.ru/w/ woloshin_m_a/text_0300.shtml (дата обращения 18.06.2015).
5 См.: Купченко В. История дома Е. О. Кириенко-Волошиной («дома Юнге») в Коктебеле [Электронный ресурс] http://sites.utoronto.ca/tsq/06/kupchenko-dom06.shtnnl (дата обращения 18.06.2015).
6 «Иногда на средах Вячеслава Иванова появлялась и мать молодого писателя, имевшая пристрастие одеваться в мужской костюм, к ней, вследствие полноты этой дамы, не шедший. Встретив впервые m-me Волошину, я принял ее сначала за какого-нибудь сектантского пастора с бритым, несколько оплывшим лицом…» (Кондратьев А. А. М. А. Волошин. [Электронный ресурс] http://silverage.ru/kondrvol/ (дата обращения 18.06.2015)).
7 «Пра – от прабабушки, а прабабушка не от возраста – ей тогда было пятьдесят шесть лет, – а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии) <…> Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутливое – Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода – так и не осуществившегося. Праматерь – Матриарх – Пра» (Цветаева М. И. «Живое о живом (Волошин)»).
8 Гончарова Е. И. «Революционное христовство» // «Революционное христовство»: письма Мережковских к Борису Савинкову. СПб., 2009. С. 7.
9 Немецкий врач, философ и естествоиспытатель Людвиг Бюхнер (Buchner, 1824–1899) был одним из ярких представителей т. н. «социального дарвинизма» – европейского направления общественной мысли, пытавшегося объяснить социальные процессы с помощью учения Дарвина о борьбе за существование как основном механизме естественного отбора. Естественно, что подобная «биологизация» жизни человеческого общества оказывалась возможной только в том случае, если сам человек воспринимался как «биологическая особь», неспособная к активному восприятию действительности и действию, основанному на интеллектуально-волевом ее осмыслении. Л. Бюхнер отрицал свободу человеческой воли и видел в человеческом сознании такое же пассивное (зеркальное) отражение действительности, как и в мировосприятии млекопитающих животных, реагирующих лишь на непосредственные сиюминутные «вызовы среды», прежде всего – на угрозы их бытию. Не более чем «физиологический механизм» человеческое мышление представляло собой и в трудах немецкого физиолога и философа Якоба Молешотта (Moleschott, 1822–1893). Подобный «дарвинизм» приводил его сторонников к вульгарному материализму, в котором не было места не только идее Бога, но и собственно «идеализму» даже по отношению к человеческому мышлению, поскольку любое его действие, с этой точки зрения, диктовалось лишь «внешними обстоятельствами». Крайние теологические выводы из подобных мировоззренческих установок были сделаны выдающимся немецким богословом и философом Давидом Фридрихом Штраусом (Straup, 1808–1874), который в своей книге «Жизнь Иисуса» (1835–1836) попытался трактовать образ Иисуса Христа, как историческую фигуру античного философа-морали-ста. Иисус помещался здесь в ряду таких «учителей жизни», как Сократ, Платон, Сенека и др. Признавая высокую ценность христианских морально-этических установок для современных гуманистических учений, Штраус отрицал достоверность Евангелий, а собственно христианство с его метафизикой считал историческим «пережитком», обреченным на исчезновение по мере развития науки и роста просвещения в народных массах. Все упомянутые мыслители были очень популярны в кругах российской разночинной интеллигенции XIX в.









































