Читать книгу "Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2017"
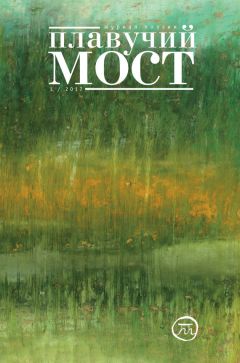
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дочке Маше
Дотянуть бы до Жиздры,
До жаркого лета —
Чтоб нагрелась холодная,
Злая река.
Сколько взрослых лежит,
Сколько детских скелетов
Под дубовым настилом
Её топляка.
Говорила покойная
Бабушка Поля: —
Чтоб на Жиздру один
Никогда не ходил.
Что закрутит воронка,
Как смерщь в чистом поле
И утянет тебя
Под дубовый настил.
Я на Жиздру хочу.
Я хочу искупаться.
Вам, наверно, почудился
Сдавленный крик.
Я на Жиздру хочу!
Я хочу испугаться —
Чтоб во мне испугался
Живущий старик!
Будут долго давить
Мне на клетку грудную,
Изо рта постепенно
Фонтанчик забьёт…
Оживу!
И почувствую жизнь молодую,
Когда врежет мне в зубы
Парень в майке «Речфлот»!
Эфиопия
Не спрашивайте, да иль нет —
Любое глупое растенье
Так тонко чувствует, где свет,
А у меня сейчас цветенье.
Чтобы другую жизнь начать,
Нужна бессмыслица такая,
Что остаётся лишь молчать,
Своим желаньям потакая.
Тот, кто задумался, – пропал!
Вот потолок любой культуры.
Но есть в поэзии запал
Забраться выше верхотуры!
О, дети грозные мои!
Не поминайте меня лихом,
Я сжёг сомнения свои
В цветенье дерева великом.
И так, не говоря «прости»,
От дел своих не торжествуя,
Я продолжаю вверх расти,
Уже почти не существуя.
«А электричка шла до Одинцова…»
Последнее царство на свете,
Последний убогий приют,
Где ходят голодные дети,
Где выстрелы спать не дают.
Ты станешь, как я, чернокожим,
И наш эфиопский монах
В служенье, на ваше похожем,
Прогонит прожорливый страх.
Ты станешь сильнее Салтана,
И даже укрытый в гробу,
Увидишь над озером Тана
Летающего марабу.
Первая ученица
А электричка шла до Одинцова,
И вспомнил я про графа Воронцова:
Какой в Алупке у него дворец,
Я вспомнил сатанинский крик павлиний…
Стекло вагона разукрасил иней
Пересеченьем стрелок и сердец.
Любовь, прошедшую на Южном берегу,
Я и сегодня в мыслях берегу.
И снова, как старательный анатом,
Перебираю чувства каждый атом,
Обрывки непонятных сердцу фраз…
Не думал гениальный ловелас,
Жену у графа тайно отбирая,
Что, может быть, навек лишался рая.
Он так безумно близости хотел,
Что не смогла вина коснуться тел,
Укрывшихся в приморской теплой мгле.
Вина сейчас явилась на земле,
Как молния, ударив в электричку,
И стало страшно, страшно за себя.
Когда ж оставлю я проклятую привычку
Любить не думая и думать не любя?
Дочке Вере
Хотелось света больше, чем обеда,
Хотелось лучезарности, когда
От громкого названия «Победа»
Осталось окончание «беда».
В костре горели доски… и страницы,
Чтобы была ещё контрастней мгла,
И на тетрадь примерной ученицы
Спускалась невесомая зола.
Любой ценой, но захотелось света!
Чтобы не тело, чтобы душу грел!
И ученица прочитала Фета —
Там… что-то… где-то… кто-то там сгорел.
«Там человек сгорел!» Вот, дорогая, —
Золой прикрыто слово «человек»!
Она в огонь смотрела не мигая,
Он ей напомнил солнечный Артек.
Вера, моя Вера,
Кончилось кино…
Левого эсера
Хлопнули давно.
Избы все сгорели,
Все ковбои спят,
И висит на ели
Чей-то автомат.
Вера, моя Вера,
Дай мне силы жить,
Снова чувство меры
В сердце мне вложи.
Татьяна Вольтская
Стихотворения
Родилась и живет в Петербурге. Поэт, эссеист, автор девяти сборников стихов – «Стрела» (СПб,1994), «Тень» (СПБ, 1998), «Цикада» (СПб, 2002), «Cicada» (London, Bloodaxe, 2006), «Trostdroppar», (Стокгольм, 2009), «Письмо Татьяны» («Геликон Плюс», 2011), «Из варяг в греки» («Геликон Плюс, 2012), «Угол Невского и Крещатика» (Киев, «Радуга», 2015), Избранное (СПб, «Геликон Плюс», 015). В 1990-е годы выступала как критик и публицист, вместе с Владимиром Аллоем и Самуилом Лурье была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум». Стихи переводились на шведский, голландский, финский, итальянский, английский языки. Лауреат Пушкинской стипендии (Германия) и премии журнала «Звезда» (Санкт-Петербург). Работает корреспондентом радио «Свобода/Свободная Европа».
«Так иди, иди за морозной своей звездой…»«Вот и к нам пришли холода…»
Так иди, иди за морозной своей звездой
Сквозь машинный храп, сквозь подлую дрожь коленей,
По дороге, знакомой до запятой,
Да привычной ямы не перекрестке, до nota bene,
Посиневших от холода на полях
Текста, вызубренного до рвоты.
Иди, иди, не задерживайся. Этот шлях
Не тобою вытоптан. Никого ты
Не удивишь, не разжалобишь. На хрена
Тебе эта жалость? Поделом вору и мука.
Ты же всегда берешь чужое, какова б ни была цена,
Так что вслед тебе все равно понесется – сука!
Вот и иди по своей Владимирке, позванивай в кандалы,
Приплясывай, как на углях, на снегах и льдинах,
В час, когда капли толпы, ни добры, ни злы,
Выливаются из театров и магазинов,
В час «Прощанья славянки» в переходе метро, жулья,
Поглощенного выручкой, в час, когда пахнет жженым
Сахаром и корицей в кофейнях, когда мужья
С глазами побитой собаки возвращаются к женам,
А бомжи перед сном перетряхивают тряпье,
И город сочится рекламой, как лицо позорной
Девки – дешевой косметикой, – в сущности, как твое:
Вы – двойники. И когда багровые зерна
Габаритных огней ссыпаются в закрома
Дворов, – не говори, что холод
Дошел до сердца. Впаяна в лед корма
Васильевского. Ты не была верна
Никому из своих любимых. Не гнется повод
У коня на мосту, и является во плоти
Снег в фонарном луче – с блуждающею усмешкой.
Бог дает тебе голос, но всегда говорит – плати! —
Вот и я говорю – не жалуйся и не мешкай,
Не просись малодушно в тепло, на постой,
Не хоронись за углом, за деревом, за колонной:
Все равно о тебе никто не заплачет – иди за своей звездой,
За бесстыжей, голодной звездой каленой.
«Ночь. Березы висят, как дымы…»
Вот и к нам пришли холода.
Окна матовы. У канавы
В пух и прах из тонкого льда
Разодеты сухие травы.
Лес не дышит, не видит снов.
Я – смотри – не боюсь мороза:
Вся я в золоте твоих слов —
Ярче утра, богаче Креза.
«Нам в Рождество дарован свыше снег…»
Ночь. Березы висят, как дымы
В твердом воздухе, срубленном крепко
Средь наждачной мерцающей тьмы
И в грудной настороженной клетке.
Тучи, поднятые, как мосты,
Сосны, вбитые в землю, как сваи.
В доме духи огня и воды,
Словно сердце и мозг, оживают.
Стены дышат, стреляют не в такт,
Появляются белые знаки
На окне. Я прижмусь к тебе так,
Как замерзшая буква к бумаге.
«Звезды вышли и встали рядом…»
Нам в Рождество дарован свыше снег,
И черное, как видишь, стало белым.
И ходит благодарный человек,
Большой свече уподобляясь телом.
Шаги скрипят, и в валенках тепло,
И праздничной резьбой какой-то мастер
Одел и сад, и крышу, и стекло.
И Ель идет навстречу – Богоматерь.
И тает воск лица, и рук, и ног,
Бегут колеса звезд, мелькают спицы,
И кажется, вот-вот родится Бог
Во тьме души. И мир от слез двоится.
«Ковш небесный танцует на ручке…»
Звезды вышли и встали рядом
Среди сада, плечом к плечу.
Снег. Мороз. Говорить не надо.
Молча светят, и я молчу.
Дома пышет печное чрево,
Скачут красные языки,
Машут вправо и машут влево
Скоморошеские колпаки,
И дитя, разомлев у печки,
Над страницею склонено.
Пар над чаем плетет колечки.
Звезды молча глядят в окно.
Так молчали они на Калке,
Подо Ржевом и на Неве.
У калины, как у гадалки,
Карты красные в рукаве.
Не ходить же к ней, как Саулу,
Не по росту мне царский грех.
Печь погасла, дитя уснуло,
Перед сном помолясь за всех.
«Нравится мне зима с накрашенными губами…»
Ковш небесный танцует на ручке,
Точно рыба на мокром хвосте.
А мороз-то все круче и круче.
Мчится в санках опальный поручик,
На плечах у него – по звезде.
В голове рассыпается фраза,
Как метель, шелестящим «прощай»,
Снег скрипит, из ущелий Кавказа
Мгла глядит на него в три глаза,
Вожжи крутятся, как праща
Неудачливого Давида.
На весь мир нестерпима обида,
Бог – на небе, а царь – для виду,
Чтобы только оформить судьбу —
Подорожную, ссылку – и с тем он
Удаляется, а уж следом
На крыло поднимается Демон:
Как певца успокоить в гробу —
Дело техники. Версты да версты.
Кто увидел его – тот мертвый,
С пулей в сердце, с печатью на лбу.
Дай-ка снежную розу сорву,
Брошу вслед – лепестки сырые,
Лепеча возвышенный вздор,
Осыпаются – как Россия,
Начиная с Кавказских гор.
«Если в твоих полях, в стране твоей голубой…»
Нравится мне зима с накрашенными губами, крутыми кудрями,
Выбеленными морозной перекисью, с дымящимися потрохами
Торговых центров, лежащих, как павшие лошади, у дороги,
Снег в отпечатках змеиных шин, а еще – надышанные берлоги
Комнат с чаепоклонниками, склоненными перед стаканом,
Нижние юбки метели, беззвучно вспененные канканом,
Вспоротая подушка неба, крутящиеся пух и перья,
Низкий гул за окном – разваливающейся империи,
Пар от лопнувших труб, ворчанье кортежа очередного бонзы,
Дикие шкуры дымов. Метаться скорей западло, чем поздно,
Слушая треск перекрытий, обнимешься – и вставать не надо,
Глядя через плечо на огни, раскатившиеся, как зерна граната.
«Ай – слово мушмула…»
Если в твоих полях, в стране твоей голубой
До тебя долетает звук – ты слышишь мой голос,
Но не узнаешь, ибо он другой:
Все, что в нем звенело, плакало и боролось,
Ты унес с собой. Я еще продолжаю петь,
Но это другая музыка, щелкающая, как плеть.
Запахнув с головой, как в медвежью полость,
Она гонит меня прочь от жилья,
Осыпая снегом, сбивая иней
С мерзлых деревьев, – может, это уже не я, —
Слышишь хриплую нотку, волчью? Впору отбросить имя,
Сдернуть, как с луковицы золотистую шелуху,
Лишние тряпки с души – ну, как она без прикида,
Едкая суть у нее – ангелы наверху
Расплачутся от обиды.
Я не знаю, слышишь ли ты этот бег
Сквозь хрустящий, как яблоко, воздух, морозный, манкий,
Сквозь густые тяжелые ветки, в снег
Целиком закутанные, как мусульманки, —
Бесконечно долгий. И когда потом,
Подвывая сипло, глотая сопли, кашляя и икая,
Все-таки доползу на брюхе, с перебитым хребтом, —
Это буду уже не я – другая.
«Ты говоришь, я горевать умею…»
Ай – слово мушмула
Зачем-то в снег влетело,
Шершавинкой шмеля
Хлопочет обалдело
По мерзлому стеклу,
Подшептывает вьюге
И сердится в углу,
И крылышками в ухе,
Как в розе, шелестит
Все сладостней, все глубже,
Смешит, щекочет, льстит.
Тифлиса ли, Перуджи
Слетели небеса
В застывшие осинки.
Замерзшая слеза,
Под языком кислинка,
Тарелка за стеной
Заснеженных черешен.
А город – простыней,
Как памятник, завешен.
Ты говоришь, я горевать умею —
Вот и учи меня радоваться, учи.
По мостовой поползли ледяные змеи,
Звякнули капли, как выпавшие ключи.
Как ни печальна смерть, но игра – прекрасна,
Главное – просыпаться, не важно, с кем,
Чтобы струилась прохладная рябь соблазна
Вдоль по каналу мимо кудрявых стен,
Чтоб на бульваре, где тополя срубили,
Между машинами потными и толпой
Колкой, пеньковой – ария Керубино
Быстро вплеталась ниточкой золотой.
Хлещет уха ледяная, ботинки мочит,
Смерть пролетает низко, свистя косой,
НА тебе яблоко, милый, поскольку Моцарт
Гонится следом – ливень его косой
В блеске локтей и талий, объятых шелком,
Словно огнем.
И правда, навел тоску б
Мир – не прижмись мы вовремя к узкой щелке
Музыки, к тесной щелке сомлевших губ.
Ну, а прижмешься – и голова-то кругом:
Катит Радищев в вечном своем возке,
Хлебников в ситцевой наволочке Фейсбука
Нянчит стихи, иголка торчит в виске.
НА тебе яблоко. Спелая эта шкурка
Лопнула, но пока мы еще в раю.
Видишь, канал в проталинах и окурках
Тащит к Неве пожелтевшую чешую.
Константин Комаров
Стихотворения
Род. в 1988 г. в Свердловске. Поэт, литературный критик, литературовед. Окончил Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук (тема диссертации – «Текстуализация телесности в послереволюционных поэмах В. В. Маяковского). Автор литературно-критических статей в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Лонглистер (2010, 2015) и финалист (2013, 2014) премии «Дебют» в номинации «эссеистика». Лонглистер поэтических премий «Белла» (2014, 2015), «Новый звук» (2014), призер поэтических конкурсов «Критерии свободы» (2014), «Мыслящий тростник» (2014). Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Бельские просторы», «День и ночь», различных сборниках и альманахах, на сетевом портале «Мегалит», в антологии «Современная уральская поэзия» и др. Автор нескольких книг стихов. Участник и лауреат нескольких поэтических фестивалей. Живёт и работает в Екатеринбурге.
«Под облаком что вид имеет ватный…»Константин Комаров не задумывается: для чего? почему? кому? как? и где? когда? и куда? Он не может не петь. Как истинный поэт он рассекает скудное время, добиваясь иного – подлинного. Комарову-поэту трудно, больно и тяжело: разводить пласты разрубленной артефактуальности в стороны для того, чтобы сотворить Проём – выход и вход, подходящие по размерам вечности, которая появляется только там, где просто поют – сквозь артефактуальность, чтобы оборонить главное – природное, не испоганенное, проданное и преданное человеком потребительствующим. Просодический феномен К. Комарова, прежде всего, выражается в многоголосости, в его полиинтанационности, в его многомыслии и многочувствовании, но все эти оппозиции (имманентные, имплицитные) систематизируются и скрепляются воедино моноинтенциональностью. Поэтическая доминанта К. Комарова заключается в движении – не броуновском, но шаровом, где в центре комаровской поэто-сферы дрожит, вибрирует, источает энергию (мощную: «Не влезай – убьёт!» – надпись на столбах электропередач), расщепляет себя и мир и синтезирует его множественное ядро: поэт – ангел – сердцевина мира.
Юрий Казарин, зав. отделом поэзии журнала «Урал».
Футбол на зимнем безлюбии
Под облаком что вид имеет ватный
целуя тихо мокрых губ края
той, что в обход иных именований
ты называешь «девочка моя»,
задумайся, в чём конструктивный принцип
сюжетных сбоев девичьей мечты,
когда на фоне белоконных принцев
вдруг возникаешь безлошадный ты
с бумажной горстью сочинённой боли,
с тоской не в толк и с радостью не в рост,
но в общем весь такой на расслабоне,
в котором зреет низменный невроз.
И вот уже вы вместе в день весенний
и этим днём не делитесь ни с кем.
Найди 15–20 объяснений
и нарисуй 15–20 схем.
Во избежанье горестной потери
подумай захмелевшей головой,
что главный вашей близости критерий —
не первобытной страсти голый вой,
а нечто милой шалости попроще,
но гуще, чем совместная слюна.
И ты поймёшь. И ты её попросишь:
«Останься».
Вот тогда уйдёт она.
«Сколько ещё мне оттачивать одинокую власть…»
Зима змеится, а земля гола,
и мёрзнут ноги, и осипло горло.
С тобой мы доиграли до гола,
хоть правильнее говорить – «до гола».
Не зли меня. Подумай о простом,
о том, о чём тебя никто не спросит.
Бог бьёт помимо нас «сухим листом»,
свисток судьи заканчивает осень.
Пуста штрафная, во вратарской грусть,
шампанское уносят в раздевалку…
Ты прикрывала сердце, а не грудь,
когда тогда боялась раздеваться.
Пора уж посмотреть в глаза ребят,
которым проиграл я так убого.
Я не любил футбол сильней тебя,
но вряд ли ты ушла из-за футбола.
Ведь ты не зверь, бегущий на ловца,
скорей ловец, зовущий зверя – ау —
ты та, кто может превратить офсайд
в один сплошной и беспросветный аут.
А мне российский снег в лицо плюёт,
лежу, как мяч – катайте да пинайте —
и вспоминаю вылет из плей-офф
и проигрыш по серии пенальти.
Пойти бы к тренеру, но там уже и.о.,
он будет и обласкан и оставлен,
но может быть, его сместят, иль он,
не дожидаясь, сам подаст в отставку.
Мне снится матч. Я слеп и нем и глух.
Я только мяч возьму с собой в могилу,
но воспитать в себе командный дух —
прости, родная, мне уж не под силу.
Всё холоднее. И звенит плафон.
Я понимаю разумом нездешним,
что не пора ещё идти на фол
последней безнадёжнейшей надежды.
Что на стену не надо вешать бутс
(на старте я рассчитывал на то ли?).
Что сбудется. Что чей-то нежный бюст
ещё расшевелит мои ладони.
Придут другие – веселы, стройны,
попросят, чтоб им время уделяли.
И, может, сборная моей больной страны
однажды победит на мундиале.
Всё перемелется и станет толокном.
Налить рюмаху, покурить, покашлять.
И пацанва горланит за окном,
живущая игрою лишь пока что…
«Куда бы звук меня ни вывел…»
Сколько ещё мне оттачи —
вать одинокую власть,
чтоб автоматной отдачей
в грудь ты мою ворвалась?
Сколько наружных пожаров
смертной стерпеть белизне,
чтобы ко мне ты прижалась
сердцем, стучащим извне.
Тяжесть пространства сырого
рвёт мой сустав плечевой,
это не слишком сурово,
если бы знать – для чего,
если бы ведать, не пряча
слёз в циферблатный салат
(в жанре похмельного плача
жалок и слаб мой талант)
чтогдекогда там с тобою,
как твоё время течёт:
что-то небесный таблоид
стал скуповат на сей счёт —
знать, артефакты гортани
не безупречно честны…
Долго ещё мне оттаи —
вать до победной весны
от лихорадки гриппозной,
мозг загоняющей в клинч,
только из речи уж поздно
этот вытравливать клич.
Но от таких зазываний,
злобно горчащих слюну,
волк разве что зазевает
на шерстяную луну.
Мне ж до наждачного донца
мыслей жрать жареный лёд,
веря, что ждущий – дождётся,
что дожидаемый – ждёт.
«Сон – это лёгкая вода…»
Куда бы звук меня ни вывел,
в какой ни бросил бурелом,
я знаю, что случится вывих,
а может даже перелом.
И буду я в молчанья гипсе,
дыханье роя и роя,
беззвучных слов пустые гильзы
в листву бумажную ронять.
И будет выдох мой разрежен,
когда я заявлюсь туда,
где гипс молчания разрежут
и голос вправят навсегда.
«Предел, положенный на вещи…»
Сон – это лёгкая вода,
её утяжелять
мне было некогда всегда
и тем утешен я.
А пробуждение – затон,
его зыбучий ил
грозит расплатою за то,
что злую воду пил.
Лишь рыбья утренняя прыть
да скользкая кровать
пророчат тонущему плыть
и брюхом вверх всплывать.
И только сизый водный мрак
мне виден сквозь окно,
пустой и непреложный как
бутылочное дно.
Весёлым грифельным веслом
он непреодолим
и молчалив, и невесом,
как сом или налим.
Да будет твой нарядный сон
вовек неопалим.
Да будет Твой нарядный сон
вовек неопалим!
«Всё – ничего. Слова прилипли к нёбу…»
Предел, положенный на вещи,
в них убивает суть вещей,
и вещь, расставшись с ней навечно,
становится ещё нищей.
А дух становится богаче
и в горло голое орёт,
что только так, а не иначе,
мы слово двигаем вперёд.
И эти волшебство и сила —
мощнее Круглого Стола
и круче, чем посредь Тагила
река текилы бы текла.
Да, эта магия нагая
когда-то обессмертит нас,
пока ж нам лучше нет награды,
чем ломкой речи первый наст.
И мы пока не облажались.
Не умерли. Цветём, как мирт,
себя в себя преображая
и тем определяя мир!
«Был я мальчиком-паинькой…»
Всё – ничего. Слова прилипли к нёбу.
Они не ладят больше с языком.
И только окон призрачную робу
Молчание колышет сквозняком.
Прошу тебя: уволь, не тиражируй
Пустых улыбок и дешёвых фраз.
Мне это всё уже не по ранжиру,
Невыносимо это мне сейчас.
Я приобщился к монолитной тверди,
Где ангелы шатаются одни
По тем краям, в которых смысл смерти
Бессмысленности жизни не сродни.
Здесь осетра не выловишь из Леты,
Да и рыбалка – только лишь предлог,
Пока дымка последней сигареты
Не встретил бесконечный потолок.
Устало, как поля и перелески,
Как фотки перелесков и полей,
С пустых страниц Казарин и Гандлевский
Глядят в меня, меня не веселей.
«Мой белый свет, мой свет до боли белый…»
Был я мальчиком-паинькой,
но – такая херня —
когнитивная паника
одолела меня.
И хожу я, и мучаюсь,
проклиная себя,
только совесть дремучая
заедает, любя.
Безнадежности крапины
расцвели по весне,
даже воздух царапины
оставляет на мне.
И подвижная психика
обездвижила жест,
и не сдриснуть мне тихенько
из гнилых этих мест.
Это тонкая кожица —
заставляет, мыча
что-то злое, тревожиться
и не спать по ночам.
А в мозгу, как в песочнице,
лепит звон куличи —
скоро всё это кончится,
дотерпи, помолчи…
Воздух полнится плесенью
и – упавший с лица —
я хриплю эту песенку
до конца, до конца.
«Я молчу…»
Мой белый свет, мой свет до боли белый,
былинный мой бумажный троглодит.
С лихого бодуна продравши бельма
косматый космос на меня глядит.
Я понимаю, что смотреть не надо,
но не предпринимаю ничего,
и закипает костный мозг от взгляда
бессмысленного этого его.
Как будто с Этной спарился Везувий,
такая лава, что мертвы слова,
еще в зачатке их парализует
и сладострастно плавит голова,
уставшая от полуночных бдений
на пару с зеркалом, где отраженья нет…
И я умру. И снова будет день и
снова будет белый-белый свет.
Я молчу. Всё, что сказано ранее
обложило ангиной язык.
И молчанье моё волком раненым
хорошо для безродных борзых.
Но проблема взаимной рецепции
предстаёт перед беглой душой,
как соитие без контрацепции
с непокорною речью чужой.
Разве трудно быть малость гуманнее,
чтоб грамматики тёмной стрела
к онемению непонимания
хоть единожды не привела.
Неизменные правила-кривила
по бескровным обочинам рта
тормозят, чтобы речь меня вывела
к темноте, словно к солнцу – крота.
И мечом нависает дамокловым
и работает, как арбалет,
нашпигованное недомолвками
и закрытое на шпингалет
беспонтовое слово базарное —
серединное, словно среда.
И глаза наполняются заревом,
закрывающим их навсегда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























