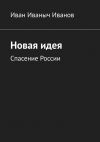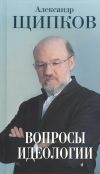Текст книги "Философия и идеология: от Маркса до постмодерна"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Было бы неверно утверждать, будто Мераб не готовился к лекциям. Основательно готовился – я был тому свидетелем. Вместе с тем его лекции никак нельзя назвать заготовленными. Он позволял своей мысли течь непредвиденно и, случалось, только в аудитории впервые находил решение прежде задуманной проблемы. Но как раз это зажигало в слушателе встречную мысль, вызывало эффект понимания, которого Мамардашвили прежде всего добивался. «Помочь акту мысли родиться – вот дело философии, выполнив которое она может отойти в сторону и замолчать», – зафиксировал он в «Записной книжке (1970)»[55]55
Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер. М., 2016. С. 97.
[Закрыть].
Важной составляющей этого прилюдного умственного поиска было обращение к классическим философским текстам. Великие мыслители вызывались на помощь «попроблемно» и в качестве «вечных современников»: никакое положение «на лестнице времени», никакая «кумуляция учений» во внимание не принимались. И оказывалось, что именно такое обращение с наследием обеспечивает максимальное воздействие на мировоззренчески обеспокоенного слушателя и наилучшим образом утоляет пробудившийся в нем философский интерес.
Мераб не стремился обзавестись школой – учениками и последователями. Скорее заботился о том, чтобы с его помощью каждый из слушателей отыскал среди философов-классиков своего собственного, неповторимо мудрого собеседника и учителя.
В организации своих оригинальных лекционных курсов Мамардашвили был несомненным наследником Ильенкова. Замечательная характеристика Эвальда Васильевича как преподавателя, вышедшая из-под пера Л.К. Науменко и только что мною процитированная, может быть без единой поправки наложена и на Мераба Константиновича.
Ильенков и Мамардашвили сходятся, далее, в определении главных примет философии как идеологии. Первой из них Ильенков, если помните, считал «бездумный оптимизм», «оптимизм до первой беды». У Мамардашвили этому соответствует беспощадная критика надежд, энтузиастических состояний, романтичных мобилизующих упований (как оказалось – профилактическая прививка от перестроечной эйфории).
Сильвана Давидович (итальянский театральный и литературный критик) свидетельствовала: Мамардашвили ненавидел слово «надежда». Он ассоциировал надежду с ощущением, что завтра придет нечто такое, что избавит тебя от необходимости сейчас, сию минуту сделать то, что ты должен сделать для реализации своей судьбы.
Вторую стойкую примету философии как идеологии Ильенков видел в менторстве. В лекциях и публикациях Мамардашвили мы находим проработанный аналог этой темы, хотя осмысляется она в терминах, никогда не использовавшихся Ильенковым и ильенковцами.
Менторство в понимании Мераба зиждется на гипостазировании рациональных очевидностей. Таково важнейшее измерение «классической рациональности». На мой взгляд, в критико-полемическом построении Мамардашвили это понятие изоморфно понятию «формальная логика» у Ильенкова. Поначалу (1970–1971) «классическая рациональность» была предъявлена как парадигма «классической [буржуазной] философии».
Речь шла о характерной для всей эпохи Просвещения уверенности в том, что, «выделяя рационально очевидные образования в составе внутреннего опыта, мыслящий индивид одновременно усматривает и основные, фундаментальные характеристики мира “как он есть”»[56]56
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классическая и современная буржуазная философия (опыт эпистемологического сопоставления) // М.К. Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб., 2010. С. 136. Будучи одним из авторов этой статьи, я выделяю и цитирую только фрагменты, написанные М.К. Мамардашвили. Общую историко-философскую оценку статьи я оставляю на будущее, соглашаясь с ее исходной характеристикой, данной Н.В. Мотрошиловой, – см.: Мотрошилова Н.В. Отечественная философия 50–80 гг. ХХ в. и западная мысль. М., 2012. С. 269–274.
[Закрыть].
Сама того не подозревая, классическая философия XVII–XVIII вв. готовила себя к превращению в идеологию, ибо конституировалась как абсолютная инстанция единоразумного «самосознания вообще»[57]57
См.: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч. С. 136–140.
[Закрыть].
Рождалась «убежденность в том, что голова интеллектуала есть особое, богом освященное место, где мир раскрывает свои последние тайны, претворяется в знание, представительное и абсолютное»[58]58
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч. С. 152.
[Закрыть]. В итоге само общество мыслилось как разделенное «на сознательное меньшинство и бессознательную массу, опекаемую этим меньшинством от лица “Истины”, “Добра”, “Красоты”, “Человека”, “Истории”, “Прогресса”»[59]59
В статье с прекрасным названием «Маркс без марксизма (Мераб Мамардашвили в 60-е гг.)» Виктория Файбышенко выразит это так: «классическая модель сознания, прозрачного для самого себя и потому могущего судить мир» (Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер. С. 90). Ср.: Mannheim K. Ideologie und Utopie. Bonn, 1929. S. 6–7.
[Закрыть].
Эти тексты Мамардашвили (пожалуй, самые впечатляющие и яркие в отечественной философской публицистике начала 70-х гг.) – тексты, восстанавливающие против элитарной опеки, звучали как «второй голос» к гневной мелодии Ильенкова, осуждавшего догматическое наставничество. Работая над ними, Мераб нашел простое и точное определение самого идеологически-философского дискурса: «Мысль производится абсолютно и однозначно – за других и для других – и транслируется пассивному приемнику, осваивающему готовые, завершенные духовные образования»[60]60
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч. C. 169.
[Закрыть].
Читая это, нельзя было не подумать о «философской педагогике», которую вынашивал Эвальд Васильевич.
Но не только о ней. Встретившись с выражением «мышление за другого», квалифицированный историк философии не мог не вспомнить о Канте и его статье «Ответ на вопрос: что такое просвещение?».
Рассуждая об опекунстве, Кант-публицист иронически восклицал: «Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, думающая за меня (курсив мой. – Э.С.) то я не нуждаюсь в том, чтобы утруждать себя». Рядом с «книгой, думающей за меня», он ставил «духовника, совесть которого заменяет мою»[61]61
Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. I. Трактаты и статьи (1764–1796). М., 1994. С. 127.
[Закрыть].
Так же, как и Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили в начале 70-х еще не знает статьи «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». И так же, как Ильенков, всем смыслом своих текстов рвется к основной идее этой статьи – идее автономии и умственного совершеннолетия. В восьмидесятых он встретит русское издание статьи как давно ожидаемую, в нем самом уже созревшую философскую декларацию. Текст Канта он проаннотирует поразительно кратко и точно, эталон-но для мирового кантоведения: «Просвещение есть чисто негативное понятие, т. е. понятие, не обозначающее какую-либо совокупность позитивных знаний, которые можно было бы просто распространять и передавать[62]62
Я позволю себе так разъяснить эту важную констатацию Мамардашвили: просвещение, а не просветительство.
[Закрыть]. Просвещение, говоря словами Канта, это взрослое состояние человечества, когда люди способны думать своим умом и поступать, не нуждаясь для этого во внешних авторитетах и не будучи водимыми на помочах. Так спрашивается: просвещены ли мы?»[63]63
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. С. 149.
[Закрыть].
* * *
Э.В. Ильенков и М.К. Мамардашвили едины в понимании «истинного просвещения» (термин Канта) и роли философа в раздувании и поддержании этого социокультурного критико-идеологического очага. Последнее чрезвычайно важно.
Вместе с тем нельзя не заметить, что в отстаивании этого единого понимания Мамардашвили более решителен, более радикален.
В 70-е гг. Эвальд Васильевич считал, например, вполне допустимым, чтобы ильенковцы участвовали в преподавании официального, кафедрального диамата, шаг за шагом – пусть прикровенно и с хитростями – отвоевывая пространство для разъяснения и утверждения своей теоретической программы.
Мераб Мамардашвили настоятельно рекомендовал своим приверженцам отказаться от обучения студентов кафедральному диамату и истмату. Насущный хлеб следует зарабатывать преподаванием истории философии и логики или в журналах, издательствах и НИИ. Читать же философию позволительно только в кружках или в формате спецкурсов, которые могут посещать те, кто действительно этого желает.
В 1989 г. он обнародовал полный смысл этой давно продуманной позиции. В ситуации, когда кафедральный диамат-истмат обнаружил свою полную теоретическую негодность – когда стали срочно лепиться проекты его «коренной перестройки», – Мераб заявил, что вся эта «философская учеба» никакой перестройки не заслуживает. На вопрос «что с этим делать?», говорил он, «я бы ответил так: “Ничего не делать!” Только начни – и тотчас будешь вовлечен… в реанимацию окоченевших, отживших представлений, и ни во что это не выльется, кроме очередной схоластики и дробления костей. Делать же нужно свое дело, а для этого следует признать право на индивидуальные формы философствования. И чем больше появится людей с личностным опытом философствования, читающих свободные философские курсы (курсив мой. – Э.С.), тем скорее оздоровится атмосфера в стране, долгое время находившейся под давлением унифицированных идеологических структур»[64]64
Мамардашвили М.К. Сознание – это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть // Вопр. философии. 1989. № 7. С. 115–116.
[Закрыть].
Расхождение между Ильенковым и Мамардашвили яснее всего обозначилось в обсуждении вопроса о судьбе идеологий.
Эвальд Васильевич не ставил под сомнение марксистский «формационный» стандарт: идеологии возникают вместе с делением общества на классы и будут жить до тех пор, пока существуют классовые конфликты; по мере приближения к бесклассовому обществу они отомрут.
Мераб Константинович уже в начале 70-х публично высказал иную точку зрения. То, что «ложное сознание есть продукт деления на классы… и появляется при делении общества на классы», говорил он, «мне не кажется правильным». Работы позднего Маркса позволяют увидеть, что он «шире понимал ложное сознание». Маркса интересовала «функциональногенетическая роль [последнего] в общественной структуре». – «Понятие “ложного сознания”, с точки зрения Маркса, применимо и к доклассовому обществу, традиционному или ритуально-фетишистскому». Конечно, ложное сознание еще не выделено здесь в «особое социальное образование»[65]65
Мераб, мне думается, имеет здесь в виду его доктринальное и институциональное («надстроечное») оформление.
[Закрыть]. Но ведь «в случае примитивного общества мы говорим о сознании [просто] как о языке реальной жизни». «Термин “ложное сознание” в смысле идеологии, – заключает Мамардашвили, – гораздо шире, чем общество, имеющее классовое деление»[66]66
Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер. С. 51.
[Закрыть].
Эта констатация сразу наводила на мысль о том, что идеологии выходят за рамки классового общества в пространство не только прошлого, но и будущего. На редколлегии центрального философского журнала, в сложнейшей идеологической обстановке начала 70-х гг., Мераб Константинович не мог этого озвучить. Однако участники заседания (Б.А. Грушин, Ю.А. Замошкин, В.А. Карпушин) хорошо расслышали непрозвучавшую тему.
* * *
Где-то к 1975 г. в советском обществе иссякла надежда на приближение бесклассового общества и отмирание идеологий. Стало ясно, что «конца идеологий» придется ждать… без конца. Социального устройства, не нуждающегося в идеологии, не увидит не только «нынешнее поколение советских людей», но и поколения грядущие, которые, скорее всего, мало будут от него отличаться. «Конец идеологий» лежит за пределами социально предвидимого будущего. Он не более, чем «мечта отцов», революционеров-ленинцев, и как таковой уже не может войти ни в какие программы реального действия (экономического, социального, политического) даже в значении ориентира.
Этот декаданс социальных ожиданий был по-разному воспринят и пережит Ильенковым и Мамардашвили.
Сознание того, что идеология (в частности и прежде всего догматизированное марксистское учение) вовсе не собирается сходить с исторической сцены, было одним из ферментов тотального отчаяния Ильенкова, завершившегося трагически и страшно[67]67
21 марта 1979 г. Эвальд Васильевич покончил с собой.
[Закрыть].
Мамардашвили сумел преодолеть резиньяцию и помог другим справиться с нею. Он добился этого ценой отказа от марксизма, которым вдохновлялся на протяжении двух десятилетий.
Знаменательно, что от марксистской неоортодоксии философов-шестидесятников Мераб отошел «по кантианской тропе». Совершившаяся в нем «умоперемена» отчетливее и ярче всего запечатлена в спецкурсе о философии Канта, зачитанном в Тбилиси и в Москве в конце 70-х гг. и опубликованном (уже после смерти Мераба Константиновича) под названием «Кантианские вариации». Слово «вариации» он употреблял в том же смысле, какой вкладывают в него музыканты-импровизаторы («вариации на темы Шуберта», «вариации на тему Бизе»).
Одна из тем спецкурса (неслаженного, эскизно неряшливого, но на редкость выразительного) – кантовское «als ob» («как если бы»): обсуждение вопроса о возможности отстраненно-условного (в пределе – иронического) отношения к концептуальным построениям и поведенческим актам.
Но об этом чуть позже. Сперва я хотел бы привлечь внимание к тому, что в конце 70-х гг. Мамардашвили основательно проработал проблему стоического отстранения от объективно-принудительных форм общественного сознания. Под отстранением он понимал непримиримое отвержение идеологий, считающееся, однако, с необходимостью непредвидимо длительного сосуществования с ними – сосуществования мирного, отвечающего максимам терпимости (толерантности)[68]68
Об отношении непримиримости и интолерантности, о терпимости как добродетели непримиримых см.: Соловьев Э.Ю. Толерантность как новоевропейская универсалия // Демоны мира и боги войны. Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. Киев, 1997. С. 97–113.
[Закрыть].
В сущности говоря, деидеологизация трактовалась Мамардашвили как общая эмансипация сознания, принципиально не отличающаяся от любой другой эмансипации, то есть от непредвидимо длительной борьбы за гражданские права, которую приходится вести в государстве, еще далеко не являющемся правовым.
Еще раз просмотрев книгу «Как я понимаю философию», оживив в памяти слышанные мною лекции Мераба, припомнив нашу работу над когда-то нашумевшей «тройственной статьей»[69]69
Имеется в виду: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Указ. соч.
[Закрыть], наконец, наши личные беседы, я вижу, что в 70-е гг. Мамардашвили немало потрудился и над своего рода «моральным кодексом», отвечающим позиции стоического отстранения.
Вот как могли бы звучать три его важнейшие негативные максимы: 1. Вступая в бой с идеологиями, не надейся на спасительную миссию каких-либо партийно сплоченных коллективов, оформляющих особую социальную принадлежность. Из-под власти идеологий людей нельзя вывести общественными группами, то есть классами, сословиями, прослойками, этносами и другими социальными множествами.
Деидеологизация в основе своей может быть только персональной. Ее не достигнешь без негарантированного, упорного самовоспитания, и эффективные контридеологичные коллективы чаще всего появляются на свет как объективный побочный результат автономных усилий, предпринятых многими и многими социально разъединенными людьми.
2. Не спеши громить идеологии. Их надо прежде лишать приверженцев, начав с самого себя. Аудитория, ввергнутая в сомнение теми, кто сам радикально сомневался и ловил себя на заблуждениях, – это самый серьезный урон, который могут понести идеологии. Это парализующий эффект неэкспансивной критики. Первая задача, которая стоит перед философски грамотным противником идеологий, – снижение степени заангажированности зараженных ими людей – степени самоотдачи[70]70
Термин «самоотдача» был введен в публицистику выдающимся критиком коммунистической идеологии А. Кестлером, одним из любимых писателей Мераба Мамардашвили. «Всех семи грехов, – писал Кестлер, – опаснее восьмой – ложно ориентированная самоотдача» (Цит. по: Рубцов А.В. Постмодернизм в политике – просто беда. URL: http://www. ng.ru/stsenarii/2014-03-25/14_ chaos.html.).
[Закрыть].
3. Не позволяй втягивать себя в идейную борьбу, ведущуюся в режиме идеологической холодной войны; не участвуй в пропагандистских и контрпропагандистских акциях, рассчитанных на стравливание соперников. Победы, достигаемые в идеологической «холодной войне», – это временные, а иногда и пирровы победы. Чтобы избежать последних, надо запретить себе популистский дискурс: никогда не приноравливать свою мысль к речевым стандартам массового сознания, расчлененного и расквартированного по «социальным интересам».
* * *
Теоретическим ответом Мамардашвили на застой и ползучую ресталинизацию было все более пристальное вглядывание в позднего Маркса и проработка темы «превращенных форм».
«Ложное сознание» (акцентирую это еще раз) – не просто лживые фразы и концепции, кем-то надстроенные над действительными отношениями, но также (причем в глубинном слое своем) объективно заданные иллюзии, встроенные в эти отношения. – Наличные превратности одновременно и разом и бытия, и сознания. Никакие политические инициативы, никакие высокие решения не могут их смести или выкорчевать. От человека, который уже увидел ложность ложного сознания, требуется поэтому умение ждать, умение сосуществовать с уцелевшими компонентами наспех атаковавшейся идеологии.
Мамардашвили видел, что где-то к 1970 г. (к началу застоя) в стране уже появилась большая масса людей (партийных и беспартийных), не доверявших коммунистической идеологии и недовольных ею. Но подобное самосознание явно препятствовало элементарной социальной адаптации, затрудняло участие человека в устоявшейся жизни общественных коллективов.
Как свидетельствовали многие, диссидентское разрешение ситуации отнюдь не казалось Мерабу единственно правильным. Нормальное, нравственно приемлемое отношение к уже неавторитетной, но все еще влиятельной и институционально властной идеологии он и увидел в отстраненном исполнении предусмотренных ею процедур и штампов. Такое поведение Мамардашвили называл «ритуальным» или «церемониальным» следованием «превращенной форме». На неминуемо случающуюся при этом абсурдность происходящего надо просто не обращать внимания. Так, например, как это делает человек, который подымает стакан с водкой за здоровье, прекрасно понимая, что водка и здоровье суть «вещи несовместные». С таким же «выключенным мышлением» (в пределе – с холодной иронией) можно идти на демонстрацию «вместе со всей бригадой», «со всей лабораторией» и даже (коли тебе поручили) нести транспарант с портретом Ленина и его неистовым пророчеством: «Победа коммунизма неизбежна!».
Последнее не может помешать тому, чтобы лояльный демонстрант в идейно-теоретических спорах со всей непримиримостью критиковал ленинский коммунистический фатализм. Однако и в спорах он обязан вести себя «политкорректно», то есть ни в коем случае не оскорблять чувства верующих в Ильича.
* * *
Э.В. Ильенков и М.К. Мамардашвили – два оригинальных, совершенно непохожих друг на друга мыслителя. Но оба они – наши отечественные неомарксисты, и между ними существует богатая, многоплановая и чрезвычайно продуктивная перекличка. Самое же удивительное заключается в том, что, перекликаясь друг с другом, они перекликаются еще и с третьим, великим мыслителем – с Иммануилом Кантом[71]71
Удивительное на этом не кончается: только что обозначенная мною перекличка позволяет разглядеть принципиальную совместимость (возможно, необходимую взаимодополнительность) концепций сознания, разрабатывавшихся Кантом и Марксом. Неомарксизм Ильенкова и Мамардашвили тяготеет к тому, чтобы быть «кантомарксизмом». Я ввожу это выражение по аналогии с «фрейдомарксизмом», уже прижившимся наименованием одного из самых ярких течений на подиуме современных теорий идеологии (напомню о Л. Альтюссере, Ж. Лакане и С. Жижеке).
[Закрыть].
Представить Ильенкова, Канта и Мамардашвили как трех над-временных соавторов – затея, которая кажется совершенно надуманной. И все-таки в завершение всей этой публикации я – как историк философии – именно ее намерен реализовать. Я попытаюсь публицистически аннотировать совместный труд Ильенкова, Мамардашвили и Канта, увиденный мною еще где-то в середине 70-х гг. минувшего века, а затем снова и снова обдумывавшийся. Я постараюсь изложить их концепцию кратко, декларативно и напрямую от себя (если угодно «за своей подписью»), не ссылаясь больше на тексты Ильенкова, Мамардашвили и Канта, которые в предыдущих разделах этого очерка цитировались и пересказывались достаточно щедро. Я сделаю это, прорабатывая разъясняющие определения трех понятий, которые вошли в заголовок моей публикации, а именно – «идеологии», «критики» и «философии».
Идеология – это доктринально оформленное ложное сознание, которое, как правило:
а) выдает известный частный, особенный интерес за всеобщий;
б) предъявляет относительные, исторически обусловленные истины в качестве безусловных и даже абсолютных («истин в последней инстанции»);
в) сообщает своим определениям и ключевым констатациям амбицию руководящих текстов.
Еще раз напомню и подчеркну: термин «идеология» был введен для обозначения особого рода обмана (лжи и фальши). Это термин-пейоратив, то есть осудительно-негативное выражение. Именно в данном значении оно со времен Маркса вошло в культуру и сохраняется в ней. Выражения «научная идеология», «философская идеология», «достойная идеология» суть такая же семантическая нелепость, как, скажем, «научная демагогия», «добросовестная фальсификация» или «достойная проституция».
Может ли идеология содержать в себе истинное знание (научное, философское, теологическое)? – Может и, случается, содержит его в большом объеме.
Но все дело в том, что истинное знание присутствует в идеологии как задействованное – как вмонтированное в обман. Объем участвующего в идеологиях истинного знания – это сплошь и рядом просто мера ловкости, хитрости и лукавства работавших над ними идеологов.
Осудительно-негативное отношение к идейным образованиям, обнаруживающим приметы и признаки идеологий, можно назвать презумпцией, которой должны следовать и наука, и философия, и выстраданная религиозная вера. Никакие фрагменты истинного знания в составе влиятельных идеологических построений презумпции этой (презумпции недоверия) ни отменить, ни поколебать не могут. Идеологии подлежат аналитической проверке как доктринальное целое и, покуда она не состоялась, не могут быть выведены из-под подозрения.
Но тут же встает другой, чрезвычайно трудный вопрос. А ведет ли аналитическая проверка (верификация) идеологий – пусть самая тщательная и строгая – к их крушению и умерщвлению? Теряют ли они свою силу и власть подобно уличенным сплетням, фальшивым деньгам или сфабрикованным компроматам?
Со времен Маркса накоплен и проанализирован огромный материал, свидетельствующий о том, что никакая разоблачительная, верификационная работа не обеспечивает изничтожения идеологий. Они когнитивно неодолимы. Они выстаивают, возрождаются и являются на свет в новой форме. Это происходит прежде всего потому, что доктринально оформленные идеологии опираются, как на свой преднайденный базис, на стихийно складывающиеся и объективно заданные (если угодно, «протоидеологические») структуры сознания: на видимости и социальные фетиши.
Великая заслуга Маркса состояла в том, что он разглядел эти структуры и обрисовал когнитивную неодолимость идеологий. Последние не сойдут с исторической сцены, пока существуют сами отношения людей, порождающие, производящие объективные видимости. Единственно надежный путь к устранению (более точно – к отмиранию) идеологий Маркс усматривал поэтому в социальной революции, предполагающей и крутую ломку политической системы, и изменение всего режима собственности, и массовую подвижническую практику, радикально обновляющую самого человека. Тотальный обновительный процесс казался ему исторически подготовленным, близким и краткосрочным.
Это утопическое ожидание (хотя, как я уже объяснял, его и можно считать исторически оправданным) было безжалостно опровергнуто в последующие полтора столетия[72]72
См.: Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Ч. I // Филос. журн. 2016. Т. 9. № 4. С. 15–16.
[Закрыть].
Следует ли отсюда, что сама Марксова теория идеологии просто перечеркнута историей и что в философии и культуре XVIII–XIX вв. не было материала, пригодного для ее корректировки и целительной ревизии? Уверен, что не следует.
На момент, когда основоположники марксизма предъявили миру свою трактовку идеологии, уже наметилась иная (некогнитивная) версия аналитической проверки видимостных образований, совместимая с постулатами Маркса. Говоря в общих чертах, речь шла об «испытании видимостей на подлинность». Более точно: о возможности отношения к видимостям как к самообманам – о восприятии их как таких структур сознания, которые сродни искушениям и соблазнам и задаются обманывающемуся человеку не без собственного его содействия (не без его сопричастности и вины). Не обеспечивая напрямую ни изничтожения идеологий, ни даже их отмирания, позиция эта позволяет, однако, персонально высвобождаться из-под власти идеологий – позволяет всякому, кто ее выбрал и выдерживает со стоическим упорством. Она во многом подобна аутотерапии в трактовке психоанализа, а философски подготовлена кантовским пониманием сознания и мышления.
Разъясняя этот тезис, я должен перейти ко второму понятию, вошедшему в заголовок моего доклада, – к понятию критики.
В высказывании «философия как критика идеологий» оно имеет в виду очищение сознания.
Последнее может осуществляться в двух режимах: как критика в обычном смысле слова (я буду называть ее «экстериорной») и как самокритика (я буду называть ее «интериорной»).
Экстериорная критика ложного сознания – это критическое нападение на чужое сознание: частно-индивидуальное, групповое и, наконец, общественное. Такой критике постоянно подвергают друг друга сами враждующие идеологии. Ее (через экспертизу) то и дело ведет наука. Прежде всего – социальная наука. Особенно активно, квалифицированно и целенаправленно – социология знания.
Что касается интериорной критики, то это – работа по очищению моего собственного сознания от взращенных или усвоенных мною заблуждений. Раньше всего – от самообманов.
Эталонным образом интериорная критика представлена в религии, в непременно предполагаемом и культивируемом ею страдательно-креативном усилии раскаяния – по-гречески «метанойя» (умоперемена).
Смысловую компоненту «метанойи» содержит в себе и философское понятие критики, зародившееся в позднем немецком просвещении и отчеканенное в кантовском проекте «критики чистого разума».
«Критика», как ее понимает Кант, имеет в виду самоочищение разума от порождаемых им же самим заблуждений и иллюзий; она замыкается на немыслимое для раннего просвещения понятие «дисциплины самого разума» и подпадает под метафору выплавки метала из руды[73]73
См. об этом подробнее: Соловьев Э.Ю. «Не дай мне Бог сойти с ума…» (максима самосохранения разума в антропологии Канта) // Историко-философский ежегодник. 2011. М., 2012. С. 214–218.
[Закрыть].
Критика, трактуемая по-кантовски, позволяет увидеть феномен науки, постоянно сталкивающейся с ею же порожденными псевдонаучными построениями (К. Ясперс назовет их «научными суевериями»)[74]74
Знаменательно, что первый, кто зафиксировал и обстоятельно проанализировал этот феномен, был… К. Маркс. В «Теориях прибавочной стоимости» он уделил много внимания описанию и осуждению вульгарной политэкономии, которая может быть с полным основанием определена как идеологизированная экономическая наука.
[Закрыть]. Далее – феномен философии, вынужденной вести борьбу с псевдофилософскими учениями (неокантианцы начала XX в. именовали их «популярной остаточной метафизикой»). Наконец – феномен теологии, которой приходится сражаться с богословски оснащенным лжеверием (в протестантской неоортодоксии – например, у Д. Бонхёффера – оно обозначено как «идеологизированная религия», иногда – просто как «религия»).
Но, пожалуй, самое существенное заключается в том, что критика, трактуемая по-кантовски, делает возможным следующее позиционирующее утверждение: философская критика идеологий – это такого рода усилие, в котором экстериорная критика непременно должна быть продолжением интериорной. Или просто: это усилие, где критика в обычном смысле слова является продолжением самокритики и подымается на ее дрожжах.
Можно сказать, что философская критика идеологий стоит под евангельским девизом, рекомендующим удалить бревно из собственного глаза, прежде чем станешь искать и выковыривать соринку в чужом. Философия начинается с удивления.
Философская критика идеологий отвечает своему понятию только там, где она начинается с горького и обескураживающего удивления, что я, со всеми моими рациональными очевидностями, пребываю тем не менее под властью бытующих иллюзий, как правило, тенденциозных. Где нет этого горестного первоимпульса – implicite содержащего в себе лютеровское “mea culpa” («моя вина»), – критик идеологий не может подняться до исследовательской свободы и смелости, которые одни только позволяют нанести идейному противнику разящий удар. Критика, не базирующаяся на раскаянии и самоочищении сознания, чаще всего оказывается просто бесплодной бранью. И уж в этом случае никто не сочтет ее философской, какие бы чистопородно метафизические категории бузотер (резонер-скандалист) ни употреблял.
Что же такое сама философия в соотнесении с задачей критики идеологий? – Философию в этом контексте можно определить как теорию сознания (дефиниция, которую М.К. Мамардашвили озвучил в конце 70-х гг., хотя, на мой взгляд, к ней уже отначала тяготела вся «философская оттепель», безграмотно и огульно подведенная под понятие «гносеологизма»). Какой вид, какой тип философии наиболее необходим, наиболее пригоден для критики идеологии?
Я не знаю ни одного выдающегося философа, наследие которого не имело бы отношения к теории сознания и, соответственно, не могло бы быть привлечено к обсуждению проблематики идеологий.
Но, пожалуй, самое калорийное топливо для такого обсуждения доставляла и доставляет философия истории.
Утверждая это, я, однако, должен сделать существенную оговорку.
Время наивысшего влияния философии истории – это XIX в. Но именно он оказался и временем наивысшего подъема историософской спекуляции, которая породила одно из самых прельстительных и коварных идеологических образований, а именно – историцизм. Сегодня философия истории пригодна для критики идеологий лишь в той мере, в какой она преодолевает историцизм и подчиняет себя проекту открытой истории[75]75
Об этом достаточно много сказано в первой части настоящей публикации – см.: Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Ч. I. С. 12–14.
[Закрыть].
Однако главное для темы идеологий – не то, как философия определяется по предмету и как ее затем расчленяют на течения, направления, проблемно-тематические области философского знания. Главное здесь – как общество относится к самому занятию философией, как философия осваивается, преподается, культивируется. И я хотел бы акцентировать мысль, которая контрапунктом проходила через весь мой доклад: ситуация воинствующего идеологизма, в которую забросило нас современное информационное противоборство, требует самого пристального внимания к состоянию всего современного образования, к положению философии в этом образовании и ставит перед вопросом: что такое просвещение в XXI веке?
Именно это делает предельно актуальным тот подход к проблеме идеологии, который был впервые обрисован Э.В. Ильенковым в работах 60–70-х гг. и обозначен такими его понятиями, как «социальная педагогика» и «философская педагогика». Исключительно значимым при этом делается непреднамеренное, надвременное созвучие текстов Ильенкова и замечательной статьи Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». Кантовский девиз «Sapere aude» («имей мужество мыслить сам») в работах Ильенкова подымается до понимания того, что самостоятельное мышление не может утвердиться в современном образовании без культивирования расположенности и способности к философским занятиям.
И вот тезис, который я считаю одним из ключевых: философия в ее противостоянии идеологиям – это прежде всего просто философствование, то есть увлеченное автономное размышление отдельного конкретного человека (любого и всякого) над явившимися ему смысложизненными вопросами. И отдадим себе отчет в том, что вопросами этими – о смерти и бессмертии, о боге и космосе, о космополисе и о родине, о морали и праве – во все времена (и, конечно же, сегодня) обеспокоены тысячи и тысячи людей.
В течение более полувека выражение «философствование» встречалось у нас не иначе, как презрительной усмешкой. – Усмешкой пролетариата над интеллигенцией и усмешкой советской интеллигенции над интеллигенцией «западной», «мелкобуржуазной», – пестрой и немобилизованной.
Сегодня, слава богу, можно, не опасаясь конформистского погрома, утверждать, что философствование есть одно из достойнейших человеческих занятий. И, что особенно важно, видеть в нем интеллектуальную деятельность, которая при господстве массмедиа и пропагандистско-идеологическом беспределе становится «условием сохранения самого разума» (выражение И. Канта). Используя Марксово понятие свободного времени[76]76
Свободное время как мера подлинного общественного богатства.
[Закрыть], можно утверждать, что перед угрозой общей умственной деградации, которую таит в себе информационное противоборство, время это должно бы затрачиваться прежде всего на философствование как определяющую компоненту истинного просвещения. Эта задача более настоятельна, более понятна и осуществима, чем творческий труд и всестороннее развитие личности, под которые свободное время было подведено в Марксовом идеале коммунизма[77]77
Тем, кто все-таки склонен видеть в ней всего лишь мечтательный и кабинетный проект, я хотел бы напомнить, что замысел возможно более раннего приобщения молодежи к целенаправленному и свободно организованному философскому размышлению все чаще и во многих странах включается сегодня в программы общего образования (см.: Юлина Н.С. Философия для детей. М., 1996).
[Закрыть].
Философствование есть непременный духовный запрос каждого мыслящего человека, тем более настоятельный, чем сложнее условия его социальной и интеллектуальной жизни. Используя термины, прочно вошедшие в «постклассический» лексикон, можно сказать, что философствование – это прежде всего экзистенциальная аналитика, направленная на выработку стойкой философской веры[78]78
При этом необходимо сразу заметить, что экзистенциальная философия и экзистенциализм – далеко не одно и то же. Более того, экзистенциалистские концепции, как показывают исследования последних двух-трех десятилетий, вовсе не являются наилучшим примером фиксации и осмысления смысло-жизненных (экзистенциальных) проблем. Это хорошо показано в последней книге Т.А. Кузьминой: Кузьмина Т.А. Экзистенциальная философия. М., 2014.
[Закрыть].