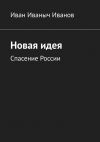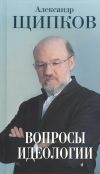Текст книги "Философия и идеология: от Маркса до постмодерна"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Однако, на мой взгляд, куда более существенна другая сторона проблемы: сама эта невостребованность свидетельствует о достоинстве людей нашего интеллектуального цеха. Среди философов, достигших профессионального признания, я, право же, не вижу никого, кто пришелся бы по вкусу нынешним начальникам Киселева или Бабаяна, – никого, кто годился бы в актеры запланированных информационно-пропагандистских скандалов, где отвечают бранью на брань, компроматом на компромат, высокоправдоподобным обманом на обман менее правдоподобный. Публичное пространство философии (тема, столь пристально прослеженная нами в минувшем году) не может быть пространством информационной войны. И я уверен, что большинство наиболее уважаемых нами коллег ответило бы отказом на приглашение к участию в этой войне. Скажу больше: многие из них могли бы, пожалуй, нравственно-философски обосновать свой отказ, как бы развертывая своеобразный кодекс идеологического неучастия.
Но не означает ли это, что сама критико-полемическая активность философа ставится под сомнение и даже блокируется? Думается, что нет. Позиция идеологического неучастия препятствует ангажированию философа в партии, организующие борьбу идей, но вовсе не предполагает, что его выступления как тексты нравственной, политической и социальной критики перестанут быть актуальной публицистикой, сделаются менее непримиримыми, менее острыми, менее травмирующими.
Здесь можно говорить об известном сходстве с концепцией непротивления злу насилием. Последовательный ее приверженец не участвует в работе органов насилия, равно как и в общественных объединениях, нацеленных на насильственное сопротивление насилию. Это, однако, вовсе не мешает ему свободно осуждать любые акции насилия и делать это столь решительно и безоглядно, что в контексте реальной жизни, в паутине материально-экономических зависимостей и карьер, конформистских престижей и обструкций его правдивое осуждение делается подобным физическому удару. Или, если выразиться просто: в стихии правдивого, честно верифицированного слова непротивленец что зверь. По щеке он не ударит, но его выверенное высказывание может оказаться обиднее пощечины и опаснее, чем затрещина, отвешенная медвежьей лапой.
Последнее особенно важно помнить, когда дело касается массмедиа, опускающихся до насильственного насаждения обмана и имморализма. Вот любопытное свидетельство (мало известное «Не могу молчать!») из эпохи младенчества таких массмедиа. В дневнике Л.Н. Толстого, в записи, сделанной 24 ноября 1888 г., мы находим следующую реплику, относящуюся к «губительству каждодневной печати»: «Уже давно эта мысль приходит мне: написать обзор одного номера [газеты] с определением значения каждой статьи. Это б[ыло] б[ы] нечто ужасающее. Прошел пас[с]ажем – страшно, как посещение сифилит[ической] больницы»[19]19
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 50: Дневники и записные книжки 1888–1889. М., 1952. С. 4.
[Закрыть].
Я думаю, Лев Николаевич с безжалостной откровенностью выразил здесь желание, которое обуревает многих людей, осаждаемых сегодняшней прессой, радио и телевидением. Уже выборочный критический обзор соответствующей продукции позволил бы рассмотреть неприглядный характер всего образа мысли современных массмедиа, а далее, мне думается, стимулировал бы профессиональное недовольство политологов, социологов, правоведов, психологов. И наконец, логическое возмущение, о котором говорила Н.С. Юлина. На мой взгляд, именно оно как базисная настроенность должно направлять философскую критику идеологий, распоясавшихся на арене информационного противоборства.
Если бы я обладал высокой логической квалификацией, то, отложив прочие дела, рискнул бы «пройти пассажем» по одной из наших известных телевизионных передач (скажем, по нескольким выпускам «Прошу слова!»). При этом свою первоочередную задачу я видел бы вовсе не в том, чтобы опровергнуть аргументы одной из враждующих партий и поддержать аргументы другой, а в том, чтобы, расчленив общий галдеж на отдельные недоговоренные высказывания, выявить и продемонстрировать поразительное сходство в аргументации обеих сторон – софистическую однотипность всей полемики.
Я, вероятно, был бы рад, если бы в ходе подобной работы мне удались крутые обвинительные вердикты. Однако в первую очередь я опять-таки стремился бы вовсе не к ним.
Логическое разбирательство правильнее всего вести в формате горького компетентного недоумения. Это, мне думается, позволило бы довести скольнибудь широкую и влиятельную читающую аудиторию до понимания того, что современное TV остро нуждается в независимой, непримиримой, но политически корректной научно-академической экспертизе[20]20
Нуждается оно и в образцово доказательных телепередачах – в хорошо заснятых продуктивных диалогах, методично нацеленных на хотя бы скромный истинный результат. Хочется напомнить об успешной попытке создания такой передачи. Я имею в виду «Философские беседы», организованные в 1988 г. акад. И.Т. Фроловым, а затем в течение короткого времени руководимые В.С. Степиным.
[Закрыть].
* * *
Другой важнейшей продукцией информационного противоборства являются, как я отметил, воодушевляющие проекты (сплошь и рядом – логически притязательные и продуманные). Ценность воодушевляющих проектов определяется их способностью индуцировать единомыслие, энтузиазм и готовность к лишениям и жертвам.
Воодушевляющие проекты достаточно точно отвечают понятию миссии, и дискурс соответствующей агитации и пропаганды может называться «миссионистским». На арене современной идейной борьбы доминируют концепции национальных миссий.
В России конца ХХ – начала XXI в. воодушевляющие проекты выразительно представлены различными версиями русской национальной идеи. В 1995 г. их размножение было стимулировано поощрением президента Б. Ельцина. Многие восприняли его как заказ на построение новой господствующей идеологии, как давно ожидаемое верховное попрание замечательной 13 статьи (пункт 2) Конституции РФ[21]21
Никогда не упускаю возможности процитировать его текст: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
[Закрыть]. Миссионистские сценарии то и дело отправлялись прямо на адрес Кремля.
Нельзя отрицать, что тексты русской идеи содержали немало интересного и правильного, особенно – когда речь шла о трагичности переживаемой ситуации или о своеобразии и богатстве отечественного духовного наследия. И все-таки уже в 1997 г. авторитетная экспертная комиссия вынуждена была признать, что проработка русской национальной идеи в прессе не дала результатов, существенно значимых для определения политической и экономической стратегии, установления национального консенсуса и преподавания истории в школе. После этого, насколько мне известно, руководство страны не посылало никаких сигналов, свидетельствующих о существовании госзаказа на национальную идею.
Между тем вера в его наличие по-прежнему не затухает. На свет появляются новые и новые версии российской миссии, адресованные Кремлю. Таковы, например, утопия «русского мира», или (это, увы, не шутка) русская идея китайского пути развития, или достаточно откровенные мечтания о царстве «сталинизма с человеческим лицом». Стимулированные разными формами ностальгии и превратной диалектикой информационного противоборства, проекты эти приноровляются к новым геополитическим страстям и становятся допингом для новых форм нетерпимости.
* * *
Чем же может ответить на подобные процессы философия как критика идеологий?
Декларации о миссиях – это особый жанр историософии, хотя, как правило, в вульгарном ее варианте. Это род спекуляций (в расхожем, критикопублицистическом значении данного выражения) и реликт романтического образа мысли, вышедшего далеко за предел XIX столетия, где ему полагалось бы оставаться. В XX в. всякая версия национальной миссии замыкается (и не может не замыкаться) на историцистскую трактовку общественной эволюции, то есть – на понимание истории как поступательного прогресса по осмысленному плану. Поэтому общая ориентация критики современных воодушевляющих проектов не может не быть антиисторицистской.
Но за антиисторицизмом второй половины XX в. стоит давняя и хорошо проработанная скептическая культура.
Важнейшая интенция скептицизма, известная со времени Секста Эмпирика, – это блокирование слабо обоснованных упований (благодушных ожиданий и надежд). В жизненной практике именно они прежде всего выбраковываются аргументированным сомнением.
Эта требовательная верификация ожиданий поднимается на высокий уровень в скептицизме Нового времени (М. Монтень, П. Бейль, Вольтер, Д. Юм). Его финальным аккордом можно считать скептико-агностическую философию Канта.
Кант – «величайший скептик Нового времени», справедливо замечал Э.В. Ильенков[22]22
Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 116.
[Закрыть]. Одно из удивительных новаторств Канта заключалось в том, что он поставил под сомнение благодушный прогрессизм предшествующего Просвещения. Скажу больше, в эклектичной философии истории, вышедшей из-под пера И.Г. Гердера, Кант сумел расслышать концепт разумной необходимости в гегелевских его очертаниях. Поставив этот концепт под отрезвляющую иронию, Кант оказался упреждающим критиком историцизма, пришедшим из скептического лагеря. В статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» разумная необходимость предзамещена удивительным понятием «высшая задача природы для человеческого рода»[23]23
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // И. Кант. Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М., 1994. С. 18.
[Закрыть]. Это ориентир, стоящий перед непредопределенной, открытой, рискованной исторической практикой[24]24
Образ мысли, предъявленный в кантовской «Идее…» родствен антиисторицизму ХХ в. (Л. Витгенштейн, поздний Тойнби, К. Ясперс, К. Поппер). Благодаря этому сочинению, мы можем увидеть, что концепт «открытой истории» есть один из видов квалифицированной скептической философии.
[Закрыть].
Не менее интересно, что «Идея всеобщей истории…» открыла возможность для наложения на масштабные исторические ожидания важнейшего различения кантовской эпистемологии – различения мира феноменов и мира ноуменов.
Оригинальность кантовского агностицизма (до сих пор не всегда понимаемая) – в его соотнесенности, с одной стороны, с эталоном послегалилеевской опытной науки, а с другой – с вопросом о предметностях веры, как он прорабатывался в напряженной протестантской теологии, не чуждой мысленному эксперименту.
Кант как никто решительно требует, чтобы знание держалось в границах опыта. Он ставит под сомнение (больше того – под радикальное научное недоверие) всякое сверхопытное умствование, всякую рациофикацию фантазий и грез.
Вместе с тем сверхопытная предметность все-таки понимается им как умополагаемая и умопостигаемая. Она подлежит суждению и обсуждению, предполагает разумное целеустремление и оценку. Строго говоря, умопостигаемыми, в отличие от познаваемых, Кант признает лишь реальности потусторонние – в экзистенциально-религиозном смысле выражения «потустороннее» – а именно Бога, бессмертие души и свободу воли. Однако и в некоторых рассуждениях самого Канта, и далее в кантианских и неокантианских концепциях граница между познаваемым и умопостигаемым приводится внутри посюстороннего мира. Она (граница) разделяет, например, опыт известной эпохи или периода, известного региона или страны, известного сословия или страты и бесконечно длительный опыт всего человеческого рода (интернациональной планеты, космополиса). В предельном выражении это будет различие между программой и идеалом – между планом, выстраиваемым на основе исследования, расчета, предварительных опытно-практических проверок, и ориентиром, в отношении которого возможен лишь ценностно-нормативный анализ.
О чем идет речь, легче всего проиллюстрировать на примере разделения партийной «программы минимум» и партийной «программы максимум», которое в последней трети XIX в. ввели немецкие и австрийские социалисты. «Минимум» и «максимум» мыслились ими как принципиально различные времена; подчеркивалось, что у «максимума» еще недостижимое на практике интернациональное пространство; что надо уметь обсуждать его на дистанции, избегая исчисления и планирования идеального будущего.
Полной противоположностью этой кантиански-скептической культуры были большевистские двустадийные программы строительства социализма (затем – социализма и коммунизма) в одной отдельно взятой стране. Крушение надежд на мировую революцию привело к удалению интернационализма из идеала и ориентира. Ожидания замкнулись на насущные заботы государства и на его геополитический успех. Достижению последнего подчинилась вся подсобная интернациональная суета. «Минимум» и «максимум» стали трактоваться «фазово» и «этапно». Одобрялись любые попытки приближения коммунистического будущего. Повсюду отыскивались и имитировались его ростки, зачатки и провозвестия. Твердая уверенность в достижении «максимума» сделалась мерой лояльности.
Хочу подчеркнуть, что программа построения социализма и коммунизма в одной отдельно взятой стране была не чем иным, как коммунистическим вариантом русской национальной идеи, причем образцовым по определенности, обдуманности и прямоте.
Упадочная и вульгарная ее версия появилась в 1961 г., когда на XXII съезде КПСС было объявлено, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Потребовалось всего 15–20 лет, чтобы партия предстала перед народом как нарушительница своего программного обещания и началось стремительное скукоживание всякой политической веры.
Миссионистские версии русской национальной идеи, наводнившие страну в последнее двадцатилетие, грешат смешением программ и идеала. Их создатели, за редким исключением, не понимают, что у программы и идеала разная темпоральность, что план не может не отличаться от ориентира своим историческим реализмом, а сам ориентир не может и не должен выполнять мобилизационную функцию.
Ответом на нынешнюю ситуацию должна стать культура скептической верификации упований и надежд, непременно акцентирующая открытость истории и опасность прямых регрессий к варварству, вызванных износом и крушением амбициозных, искусственно взвинченных ожиданий.
Эта ответственная задача весьма трудна для России, где философский скептицизм издавна принимался с недоверием. Решая ее, мы можем, однако, вдохновляться тем, что первый выдающийся манифест скептикостоического антиисторицизма был предъявлен миру русским философом А.И. Герценом в его гениальных очерках «С того берега». В последние годы это сочинение неслучайно вызывает повышенный интерес у историков русской общественной мысли.
Я думаю, Институт философии сделал бы большое дело, если бы собрал гуманитариев разного профиля вокруг организуемого им (Институтом) фундаментального критико-аналитического исследования, посвященного двадцатилетнему опыту сочинения национальной русской идеи. Это была бы работа post festum, полет совы Минервы, которая отправляется на охоту в сумерках, по прошествии бурного дня. Речь идет о критике, помогающей опомниться, очнуться – выйти из длительного галлюцинаторного состояния нашей философии истории. О критике, которая позволила бы повысить реалистичность проектов, претендующих быть программами, а для идеалов открыла бы формат условной, нравственно обоснованной и вместе с тем эстетически свободной утопии, от которой не исходит никакой угрозы утопизма.
* * *
В ходе информационного противоборства в конфликтующих идеологиях складываются сходные, однотипные представления об организации сознания людей, о самой идеологии. Представления эти можно было бы назвать «вульгарной социологией знания» (в том смысле, в каком Маркс говорил о «вульгарной экономической науке»).
В ХХ в. социология знания была одной из самых живых и плодотворных теоретических дисциплин. В ее разработке участвовали и такие социологи милостью божьей, как Э. Дюркгейм, и исследователи, отмеченные недюжинным философским талантом (как М. Шелер, Х. Плесснер и Т.-В. Адорно).
В последнюю четверть века дисциплина эта находится, однако, в тяжелом состоянии. Как и прежде, не испытывая недостатка в талантах, она вместе с тем представляет собой говорение без консенсуса – коллаж оригинальных теоретических мнений, податели которых не только не стремятся к какому-либо критически выверенному диному суждению, но просто не слышат друг друга. Ситуация усугубляется распространением постмодернистских дискоммуникативных поветрий – режимом перманентного дискуссионного скандала, который блестяще зарисован Александром Рубцовым в недавних публикациях, посвященных постмодерну в политике и архитектуре[25]25
См., например, упомянутую выше работу: Рубцов А.В. Постмодернизм в политике – просто беда. URL: http://www.ng.ru/stsenarii/2014-03-25/14_chaos.html.
[Закрыть].
Если консенсус где-то еще и существует, то в справочных изданиях, пособиях и руководствах по социологии знания. В этих компендиумах (кстати, совершенно однотипных у нас и за рубежом) и оседают представления, которые я пометил выражением «вульгарная социология знания».
Компендиумы по социологии знания задают ценностно-нейтральное восприятие и понимание идеологии. Ее стандартная дефиниция такова: идеология – это так или иначе концептуализированный набор идей, предлагаемый с интонацией обоснованной истины и санкционирующий либо сохранение status quo, либо, наоборот, отвержение и радикальную перестройку господствующего порядка. Далее говорится, что представления, входящие в идеологию, могут быть как научными, так и ненаучными; как обоснованными, так и необоснованными; как истинными, так и ложными. В целом же она должна приниматься в качестве образования неистинного и неложного (или – столь же истинного, сколь и ложного). От читателя требуют, чтобы он занял по отношению к идеологии позицию отстраненного наблюдателя и исследователя.
Авторы социологических компендиумов просто отказываются видеть, что феномен идеологии интересует отнюдь не только аспирантов, готовящих соответствующие научные рефераты, но и множество людей, на сознание которых идеологии претендуют и которые уже находятся под воздействием хотя бы одной из них. Весь дискурс этих компендиумов подостлан снобистским равнодушием к социально обеспокоенному рядовому участнику общественной жизни, которого часто называют субъектом обычного сознания. За последним признается психологическая сложность, отображающая сложность породивших его повседневных жизненных обстоятельств. Вместе с тем этому психологически трактуемому сознанию по строгому счету отказано в способности противостоять (или наоборот – осознанно следовать) направленному на него все более организованному, все более целенаправленному потоку массовой информации. В отношении к этому потоку обычное сознание есть беззащитная tabula rasa. Это сознание «простака, встретившегося с обманщиком» (объяснительная модель раннего Просвещения). Это сознание без самосознания, носитель которого не поднимается до понимания своей вины (или хотя бы совиновности) в отношении разделяемого им заблуждения и неспособен преодолевать его (заблуждение) в качестве самообмана.
Вдумываясь в эту ситуацию, я все больше склоняюсь к выводу, что противостоять нынешней дискурсивно расшатанной социологии знания может только актуализированная классическая традиция.
Мне нравится формула «модерн – незавершенный проект», которую Юрген Хабермас бросил в ответ на шабаш постмодернистской риторики. И чем чаще я вижу, как размывается, размазывается понятие «постклассического», тем больше мне хочется обсудить возможности «неоклассической позиции».
В теории идеологии (как и в социологии знания в целом) первый из классиков – это Маркс, хотя «Немецкая идеология» и «Коммунистический манифест» были написаны вовсе не для теоретиков, культивирующих в себе ценностно-нейтральный объективно-отстраненный взгляд на социально влиятельные идеи. Маркс ориентировал в идеологии лидеров растущего рабочего движения, или, если угодно, радикальных граждански-социальных активистов тогдашнего обычного сознания.
Прямая актуализация «Немецкой идеологии» (или, скажем, программномобилизующей XXIV главы первого тома «Капитала») очевидным образом неэффективна. Карл Маркс – величайший мыслитель XIX в., но именно поэтому трагическая судьба его учения яснее всего обозначила, как объективные, непреодолимые видимости этого века подчиняют себе самую решительную теорию.
Маркс полагал, что имеет дело с капитализмом зрелым, системно завершенным. В действительности он жил и мыслил в эпоху продолжавшегося генезиса капитализма. Именно недоразвитость товарно-капиталистических отношений делала эмпирически неопровержимыми такие теоретические декларации Маркса, как:
– сводимость всякой тенденциозной искаженности сознания к классовособственническому интересу;
– закон абсолютного обнищания;
– превращение рабочего класса в класс без собственности;
– понимание свободы от собственности как свободы от идеологических искажений классового сознания (попытка выдать пролетариат за своего рода «святое сословие», которое не подвержено никакой греховной тенденциозности мышления, поскольку экономически «живет не по лжи»).
Уже к началу ХХ столетия стала видна теоретическая сомнительность этих утверждений. Они были отброшены в революционное движение капиталистически неразвитой России, легли в основу совершенно немыслимой для Маркса «пролетарской идеологии», а затем в статусе «марксистско-ленинской идеологии, научной в силу своей революционности и революционной в силу своей научности», активно внедрялись в международное коммунистическое движение.
Эта метаморфоза не отменила ни Марксова материалистического понимания истории, ни такого базисного утверждения его теории идеологии, как зависимость строя идей от строя социально-экономических отношений. Однако после Второй мировой войны актуализация этой теории стала возможной лишь с учетом тех оговорок и поправок, которые успел наметить «поздний Маркс», и тех коррекций и творческих экспликаций, которые предложила неомарксистская и околомарксистская социально-философская мысль.
Давно замеченные ее представители – это Г. Лукач, К. Мангейм, А. Грамши, К. Корш, Э. Фромм, Э. Блох, Л. Альтюссер. Но нам, российским философам, грех было бы не вспомнить о «московском подцензурном неомарксизме» 1950–1960-х гг., о тех, кто всерьез продумывая Марксово понимание сознания и мышления, сделали возможной оригинальную «шестидесятническую» редакцию его теории идеологии.