Текст книги "Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах"
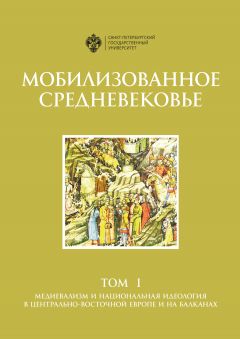
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Историзация славянской общности: легенда о Чехе, Лехе и Русе
Рассмотренные примеры хорошо показывают, что книжное знание не только позволяло наполнить конкретно-историческим материалом архетипическую матрицу этногенетического мифа, но и само по себе служило источником формирования престижных групповых идентичностей. При этом понятно, что ввиду элитарности книжного знания речь идет отнюдь не об обиходной «живой» этносоциальной категоризации, а скорее о том, что Поль Рикёр называл «нарративной идентичностью». В рассматриваемом периоде к нарративным идентичностям следует относить не только такие сугубо книжные обозначения, как «готы», «гунны», «вандалы», но и в известной степени такие надлокальные идентичности, как «венгры» (Hungari), «поляки» (Poloni) и т. д., ведь подлинное этническое самосознание людей Средневековья во многом остается для современных историков terra incognita. Одной из таких надлокальных идентичностей, подвергшихся историзации, была и идентичность славян. В процессе такой историзации большую роль играло не только книжное знание, позволявшее, к примеру, подыскивать славянам библейских первопредков или прокладывать маршруты расселения славян в пределах известной классической традиции ойкумены, но и локальное знание, в качестве которого могли выступать аутентичные славянские названия народов, стран, населенных пунктов и т. д. Таким образом, владевшие вернакуляром славянские книжники нередко дополняли и интерпретировали доступное им книжное знание с помощью своего рода этимологических экскурсов. Впечатляющим примером использования этимологического метода в процессе конструирования прошлого славянской общности является постепенно складывавшаяся в западнославянской средневековой историографии легенда о Чехе, Лехе и Русе.
Первым произведением, где появляется один из персонажей будущей легенды – праотец Чех, является «Чешская хроника» Козьмы Пражского, где, как уже отмечалось, первопредок чехов обозначен как pater Bohemus. Сюжет, впервые изложенный Козьмой Пражским, получил развитие в «Хронике так называемого Далимила», написанной между 1308 и 1314 гг. Данный памятник, созданный в стихотворной форме на чешском языке, отражал историческое сознание чешского рыцарства, этнические параметры которого были актуализированы в условиях утверждения на чешском престоле иноземной по происхождению Люксембургской династии. В хронике Богемус впервые получил имя Чеха, причем о его происхождении говорилось следующее: «В сербском языке есть земля, / Имя ее Харватцы. / В этой земле был лех, / Имя его было Чех»[249]249
Kronika tak řečeného Dalimila / red. M. Bláhová, překl. M. Krčmová, přebás. H. Vrbová. Praha; Litomyšl, 2005. S. 25.
[Закрыть]. Из предложенных в историографии интерпретаций данной фразы наиболее обоснованным представляется мнение тех исследователей, которые интерпретируют понятие «лех» как обозначение социального статуса Чеха: лех в данном случае – это благородный человек, рыцарь[250]250
Хотя, стремясь выявить в рассказе хроники пресловутое историческое зерно, некоторые исследователи обращали внимание на присутствие имени Лех в ранней чешской антропонимии (чешский князь Лех упоминается во франкских источниках в связи с событиями 805 г.), едва ли факт наличия такого имени у западных славян является релевантным при интерпретации фразы: характер оборота «лех по имени Чех» не дает оснований считать определение «лех» личным именем.
[Закрыть]. Хотя, по информации хрониста, Чех прибыл в Богемию из Хорватии вместе с шестью братьями, ни один из них не был назван хронистом по имени. Вместе с тем именование Чеха лехом создало благоприятную почву для появления в сюжете о Чехе еще одного действующего лица.
Выход на сцену легендарной истории брата Чеха по имени Лех свершился в середине XIV в. в «Чешской хронике» Пржибика Пулкавы из Раденина. Это выдающееся произведение чешской исторической мысли эпохи высокого Средневековья содержало в себе интерпретацию чешской и славянской истории, отвечавшую складывавшейся в правление чешского короля (и императора Священной Римской империи) Карла IV официальной идеологии Чешского королевства, причем есть веские основания полагать, что деятельное участие в ее оформлении принял сам император. Важнейшими элементами идеологии, нашедшей отражение на страницах хроники Пулкавы, были артикуляция славянской специфики Чешского королевства в рамках Священной Римской империи, исторического величия и единства славян, а также приписывание Чешскому королевству лидирующей роли в славянском мире и вытекающей из нее миссии по его политической консолидации.
Подобная идеология требовала соответствующего прочтения ранней славянской истории, вследствие чего в «Чешской хронике» было помещено обстоятельное повествование о праотце Чехе, который, несмотря на латинский язык хроники, именуется здесь именно Чехом (Czech), а не Богемусом. По сообщению хрониста, один из братьев Чеха, носивший имя Лех, не остался в Богемии, а отправился дальше на север. Перейдя через покрытые снегом горы, он обосновался со своим родом в стране, прозванной в честь ее полей Полонией, то есть Польшей. Пржибик Пулкава сообщает также, что другие, не названные им по именам представители рода Чеха, отправились еще дальше на север, заселив некую Русию, а также Поморскую и Кашубскую страны на Балтике[251]251
Pulkavova Kronika česká / red. J. Emler, J. Gebauer. Praha, 1893. S. 50.
[Закрыть]. Таким образом, под пером Пулкавы Чех из героя чешской этногенетической легенды превратился в родоначальника всех «северных» славян, что, несомненно, отвечало задаче презентации Чешского королевства, которое в XIV в. окончательно оформило свою власть над Силезией, как политического ядра славянского мира[252]252
Как отмечает М. Благова, до появления хроники Пржибика Пулкавы чешская историография долгое время ограничивалась воспроизведением этногенетического мифа о Чехе: ни Моравия, ни Силезия чешскую историческую мысль не занимали. Впервые об общем происхождении чехов и поляков было заявлено (в самой общей форме) в послании чешского короля Пржемысла Оттокара II, составленном Индржихом из Изернии (Bláhová M. Představy o společném původu Čechů a Poláků ve středověké historiografii // Historia Slavorum Occidentis. 2012. Nr. 2 (3). S. 245).
[Закрыть].
Упоминаемая Пулкавой Русия, расположенная где-то к северу от Чехии, едва ли имела какое-то отношение к Руси: судя по контексту, речь здесь шла о Ругийском княжестве на Балтике – славянском государстве, находившемся до 1325 г. в зависимости от Дании. Между тем, самое это название, несомненно, могло вызывать ассоциации и с восточнославянским этническим пространством. Так или иначе, но третий персонаж легенды, недвусмысленно связываемый с Русью и носивший имя Рус, впервые появляется не в чешском, а в польском историописании – в прологе «Великопольской хроники», где он выступает младшим братом Леха и старшим – Чеха.
Поскольку «Великопольская хроника» долгое время рассматривалась как единое произведение, созданное в конце XIII в., в историографии было распространено мнение, что именно отсюда Пржибик Пулкава заимствовал персонажа по имени Лех[253]253
В современной историографии такую возможность допускает чешский исследователь Р. Антонин (Antonín R. Čech a Lech. Poláci ve světě českých kronik 13. a 14. století // Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám Brno, 2003. S. 295), однако М. Благова справедливо считает это маловероятным (Bláhová M. Představy o společném původu Čechů a Poláků… S. 250).
[Закрыть]. Однако многолетнее изучение памятника привело польских исследователей к заключению, что пролог был создан гораздо позднее основной части хроники, а именно во второй половине XIV в., то есть уже после написания хроники Пулкавы. С ней предполагаемый автор пролога, подканцлер Казимира Великого Янко из Чарнкова, мог познакомиться во время своего пребывания в Праге в 1370-х гг.[254]254
Подробнее см.: Kürbis B. Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w. Warszawa, 1959. S. 100–225; Derwich M. Janko z Czarnkowa a Kronika Wielkopolska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia. 1985. Vol. I. 1985. S. 127–162.
[Закрыть] Этот вывод значительно усилил позицию тех ученых, которые полагали, что в эпоху создания хроники Далимила, то есть в начале XIV в., персонажа по имени Лех еще не существовало. И действительно, в хронике Винцентия Кадлубка, на которую опирался автор «Великопольской хроники» при описании событий польской истории до конца XII в., персонаж по имени Лех отсутствует.
Если персонаж по имени Лех наверняка был заимствован автором пролога из хроники Пулкавы, то появление Руса объяснить сложнее. Логичной, однако, представляется предпринятая в историографии попытка связать его возникновение с восточной политикой Польши. Пролог «Великопольской хроники» создавался в эпоху, когда Польское королевство, расширившее при Казимире III Великом (1333–1370 гг.) свои земли за счет Галицкого княжества, продолжало осуществлять активную восточную политику. Появление Руса могло быть вызвано необходимостью отразить в этногенетической концепции изначальную близость поляков и русинов – в XIV в. жителей «Русского королевства» (условный термин, обозначающий землю «короля Руси», бывшее Галицкое княжество), а с 1434 г. – Русского воеводства (польск. Województwo ruskie) с центром во Львове. Превращение Леха из младшего брата Чеха, каким он представлен в хронике Пулкавы, в старшего брата может быть интерпретировано как модификация сюжета легенды, отвечавшая возросшему могуществу Польского королевства.
Примечательно, что в 1380-х гг. братья Чех и Лех, но уже без Руса, появляются в еще одном важном памятнике средневекового польского историописания – «Хронике польских князей» («Chronica Principum Polonorum»), созданной в силезском городе Бжег каноником местного капитула Петром из Бычины, и отражавшей взгляды на раннюю славянскую историю, циркулировавшие при дворах силезских князей из династии Пястов – Людвика Бжегского и Руперта Легницкого, а также в окружении вроцлавского епископа Вацлава. Распространение легенды в Силезии, находившейся в ту эпоху под верховной властью чешских королей, привело к появлению здесь интересного сюжета о якобы имевшем место основании Лехом крупного силезского города Легницы. Впервые этот эпизод, ярким образом отражающий адаптацию официального общегосударственного этногенетического мифа к локальному этнополитическому ландшафту, встречается в одном из вариантов «Чешской хроники от начала чешской истории», созданном в первой четверти XV в.[255]255
Bláhová M. Představy o společném původu Čechů a Poláků… S. 252.
[Закрыть]
В прологе «Великопольской хроники» история Леха, Чеха и Руса предстает элементом сложной этногенетической концепции, являющейся прекрасным примером соединения книжного и локального знания. По сути, мы имеем дело с новой, позднесредневековой версией «origo gentis Sclavorum», сопоставимой по своей масштабности с похожим по тематике рассказом о происхождении и расселении славян, содержащимся в древнерусской «Повести временных лет». Вот как автор пролога представляет себе рождение славянского мира: «В древних книгах пишут, что Паннония является матерью и прародительницей всех славянских народов, “Пан” (“Pan”) же, согласно толкованию греков и славян, это тот, кто всем владеет. И согласно этому “Пан” по-славянски означает “великий господин” (“maior dominus”), хотя по-славянски из-за большого различия в языках можно применить и другое слово, например “господин” (“Gospodzyn”), ксендз (Xandz) же больше, чем Пан, как бы предводитель (princeps) и верховный король. Все господа называются “Пан”, вожди же войска называются “воеводами” (“woyeuody”); эти паннонцы, названные так от “Пан”, как говорят, ведут свое происхождение от Яна, потомка Яфета. Из них первым, как утверждают, был этот могучий Нимрод, который впервые стал покорять людей, братьев своих, и подчинять своему господству»[256]256
«Великая хроника»… С. 52.
[Закрыть].
Именно сыновьями «великого господина» Пана в изложении автора пролога становятся Лех, Чех и Рус, прародители польского, чешского и русского народов и основатели соответствующих государств. Что же касается библейского Нимрода, то автор конкретизирует его историческую роль в истории славян в пассаже, посвященном происхождению славянских языков: «Языки эти берут начало от одного отца Слава, откуда и славяне. Они и до сих пор не перестают пользоваться этим именем, например Томислав, Станислав, Янислав, Венцеслав и др. Утверждают, что от этого же Слава произошел Нимрод. Нимрод по-славянски означает “Немежа” (Nemerza), что и понимается по-славянски как “не мир” (“non pax”) или “не измеряющий мира” (“non mensurans pacem”), от которого началось среди людей рабство, в то время как прежде у всех была незыблемая свобода. Сперва он безрассудно пытался подчинить своей власти своих братьев; дерзость его безрассудства навлекла закон рабства не только на его братьев из рода славян, но также и на весь мир»[257]257
«Великая хроника»… С. 52–53.
[Закрыть].
Введение автором пролога «Великопольской хроники» библейского Нимрода в славянскую историю посредством его славянизации едва ли является случайным. Согласно библейской книге Бытия, Нимрод, «сильный зверолов пред Господом», был царем Вавилона, Эреха, Аккада и Халне в земле Сеннаар (Быт. 9:10). Существовала и древняя традиция, приписывавшая Нимроду строительство Вавилонской башни. Исследователи подчеркивают, что посредством славянизации Нимрода славянской становилась самая первая в истории человечества империя, гораздо более древняя, чем Римская[258]258
Deptuła Cz. Średniowieczne mity genezy Polski // Znak. 1973. T. XXV. Nr. 11/12. S. 1395; Karp M. J. Więź ogólnopolska i regionalna… S. 218.
[Закрыть]. Вместе с тем стоит все же заметить, что метаморфозы исторического воображения совершенно необязательно объяснять лишь идеологическими запросами. Средневековым автором, славянизировавшим библейского Нимрода, могло двигать и простое желание обнаружить как можно более глубокие корни славянства, используя свое локальное знание (в данном случае – знание славянских языков) для обогащения и дополнения исторической информации, черпаемой из чтения книг.
Историческое воображение Средневековья и путь к медиевализму
Мы рассмотрели исторические представления Средневековья в рамках трех основных структурообразующих дискурсивных пространств – этнического, политического, культурного – причем каждое из них, несомненно, играло важную роль в формировании и сохранении надлокальной идентичности. Эта идентичность по сути была исторической, так как она была немыслима вне исторических категорий. Этногенетические легенды, образы святых, имена правителей и библейских патриархов создавали плотное и насыщенное пространство образов, сложную, но вполне надежную, систему координат, в которой человек Средневековья обретал свою идентичность через ощущение сопричастности к тому, что впоследствии будет именоваться историческим процессом. В целом же можно сделать вывод, что структурно организованное конструирование истории разворачивалось в эпоху Средневековья на нескольких уровнях – уровне актуальной политики, уровне этнической и политической консолидации (идентичности) и более глубоком мировоззренческом (космологическом) уровне.
Возвращаясь к поставленному в начале главы вопросу о тех закономерностях в структурировании и восприятии прошлого в Средневековье, которые были унаследованы модерным медиевализмом, следует в первую очередь констатировать следующее. Подобно модерному медиевализму, в сущности, являющему собой сумму узнаваемых образов «средневекового прошлого», отвечающих культурным и социально-политическим потребностям настоящего, средневековая культура обладала узнаваемыми образами прошлого. Так же, как и в последующие эпохи, эти образы прошлого служили задачам формулирования и сохранения коллективной идентичности, широко использовались в формировании разного рода политических идеологий или просто служили развлечением для пытливых умов. В этом смысле домодерные практики обращения с прошлым, сводящиеся в конечном счете к конструированию и инструментализации тех или иных социально, политически и культурно востребованных образов, едва ли стоит противопоставлять аналогичным явлениям эпохи модерна.
Внимательное рассмотрение этих образов показывает, что они несли в себе элементы социального, книжного и локального знания. В этом смысле аналогия между многими историописцами XII–XIII вв., такими как Гальфрид Монмутский и Саксон Грамматик, использовавшими книжное, локальное и социальное знание для формирования своих эпохалистских образов прошлого, служивших задачам историзации конструируемых ими квазиимперских народов, и авторами классического медиевализма XIX в., писавшими свои национальные исторические нарративы, призванные возвеличить ту или иную «пробудившуюся ото сна» нацию, отнюдь не кажется абсурдной или поверхностной[259]259
Подобные аналогии уже проводятся в историографии (см.: Bailey C. Saxo Grammaticus: History and the Rise of National Identity in Medieval Denmark. Masters Theses. Charleston, 2002. P. 96).
[Закрыть].
Важнее подчеркнуть другое – рассмотренные в настоящей главе средневековые исторические представления о народе, династии и вере были сугубо элитарными и, насколько можно судить, почти не выходили за пределы узко очерченных культурных сред, связанных с теми или иными церковными центрами или дворами знати.
Об историческом сознании народных масс, то есть разного рода неэлитных локальных сообществ, практически не обладавших книжным знанием, судить сложно, но можно допустить, что основную роль в его формировании играли те самые вневременные архетипические сюжеты и образы, которые характерны для архаических мифов. В эти архетипические сюжеты рано или поздно неизменно вплетались элементы книжного знания, почерпнутого, однако не напрямую из книг, а из сред, в которых это книжное знание функционировало. Роль транслируемых элитами исторических образов в обеспечении реальной социальной сплоченности выявить довольно сложно: для этого потребовалось бы внимательно изучить механизмы культурной диффузии, социальную инфраструктуру знания и т. п. Однако мы едва ли ошибемся, если допустим, что ключевую роль в процессе интеллектуальной трансмиссии играла церковь. Впрочем, даже в случае проникновения элементов элитарных исторических представлений в среду локальных сообществ, эти сообщества далеко не сразу стали придавать им то значение, какое они имели в элитных кругах, так как в отличие от последних они не обладали тем социальным знанием, каким обладали социальные и политические элиты.
Одним из элементов этого социального знания, как уже отмечалось выше, и был средневековый этнический дискурс, первоначально функционировавший почти исключительно в кругах социальной элиты. В свое время Энтони Смит, проводя линию преемственности от средневековых «nationes» к модерным нациям, использовал термин «этния» («ethnie») для обозначения домодерных общностей, обладавших этническим самосознанием. В отличие от «этноса» в том объективистском понимании, в каком это слово использовалось, в частности, в советской науке, «этния» Смита – это именно группа, обладавшая самосознанием вне зависимости от того, насколько такая группа может быть социально ограниченной. Думается, что возникновение таких «этний» в Средневековье легко объясняется характером их социального знания: принципиально надлокальный кругозор элит давал возможность формировать более широкую квазиэтническую идентичность и соответствующим образом структурировать социальную реальность.
Подобным же образом дело обстояло и с сугубо политическими – династическими и квазигосударственными – дискурсами, то есть со всеми теми способами упорядочивания социальной реальности, которые рождались в условиях интеграции больших территориальных пространств и соединения под одной властью большого количества людей. В том виде, в каком эти этнические и политические дискурсы находили отражение на страницах средневековых письменных источников, они нередко создавали довольно далекие от реальности нарративные идентичности, объективируя которые будущие историки эпохи модерна будут создавать свои образы якобы издревле существовавших наций и национальных государств. Именно интеллектуальные конструкты средневековых авторов, а отнюдь не бесконечная вариативность социальных практик живой, динамичной и многоликой эпохи, каковой являлось реальное Средневековье, послужат основой для его «мобилизации» в модерную эпоху.
Глава II. Протомедиевализм. Историческое воображение и идентичность во второй половине XV – середине XVIII века
Ведь наши славянские сарматские народы, помещенные в зимние полночные края, всегда были склонны к распрям, к войне, к жестокости и к захватам чужих земель, а не к свободным наукам. И все это по причине и по воле неласкового неба над этими странами и господствующих там созвездий: скандалиста Сатурна или ядовитого Скорпиона, заслонившего большую часть русских земель. Из-за этого многие деяния наших предков пропали во мгле темной ночи и сгинули в вечном мраке пещер и неведомых безднах, откуда взор потомков и достижения науки извлекают ныне примеры рыцарских подвигов, способные дать верные представления и сведения о своих славных предках, соседних народах и о себе самих – к великому и славному осознанию собственного призвания[260]260
Стрыйковский М. Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси. Книга четвертая / пер. А. Игнатьева. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Stryikovski_2/text4.htm (дата обращения: 10.06.2020).
[Закрыть].Мацей Стрыйковский
Протонациональный дискурс и образы прошлого в раннее Новое время
Среди культурных явлений эпохи Ренессанса, оказавших непосредственное влияние на развитие представлений о прошлом, особое место принадлежит становлению протонационального дискурса, ставшего своего рода ментальным ответом интеллектуалов-гуманистов на потребность в новых формах коллективной идентификации, отвечавших менявшемуся мировоззрению социальной элиты. Народы, которыми в это время стали населяться пространства на ментальных картах, уже не вмещались в политические и сословные рамки позднесредневековых «nationes». Такие критерии национальной принадлежности, как общее происхождение (в рамках нового ренессансного, значительно более упорядоченного чем прежде, видения корней человечества) и языковое единство стали составлять существенную конкуренцию линиям разграничения, основанным на подданстве и сословно-корпоративной принадлежности.
Ренессансный протонационализм, легитимизировавший европейские вернакуляры и апеллировавший к широким этноязыковым общностям, вполне может быть осмыслен как новый стиль воображения социальной реальности, распространившийся первоначально в среде гуманистов. С течением времени возникшие идеологемы были усвоены более или менее широкими социальными элитами, и этот стиль вышел за пределы узких кругов интеллектуалов. Вместе с тем его природа далека от однозначности. Лучше всего о сложностях в понимании данного феномена свидетельствует непрекращающаяся в науке полемика по вопросу о времени начала формирования европейских наций: была ли это эпоха позднего Ренессанса или только рубеж XVIII и XIX вв., то есть момент появления современного национализма как мировоззренческого, идеологического и политического принципа?
Конечно, кардинальным отличием протонациональных общностей XVI–XVII вв. от формировавшихся с конца XVIII по XIX в. современных наций является принципиальная ограниченность распространения протонационального дискурса в социальном пространстве раннемодерной Европы. На протяжении всего периода с XVI по XVII в. протонациональный дискурс оставался достоянием узких интеллектуальных кругов, и лишь ситуативно и фрагментарно в зависимости от обстоятельств (политическая конъюнктура, потребность в адекватной репрезентации социального и политического статуса и т. п.) мог быть востребован более или менее широкими группами социальной элиты. Вместе с тем в новейшей историографии справедливо отмечается, что жесткая привязка модерного нациестроительства к процессам социально-экономической модернизации ведет к неоправданной маргинализации собственно культурного элемента в формировании национального воображения[261]261
Blažević Z. Ilirizam prije ilirizma. Zagreb, 2008. S. 160.
[Закрыть], а ведь именно господствующие культурные конвенции, а не какие бы то ни было социальноэкономические факторы, были непосредственно ответственны за формирование национальных проектов XIX в., ясно обозначивших контуры будущих европейских наций.
Так, хорватская исследовательница Зринка Блажевич в своем фундаментальном новаторском исследовании иллиризма как ключевой идеологемы, определявшей национальное воображение в южнославянских землях эпохи Ренессанса и барокко, не без оснований оспаривает представление модернистов, согласно которому в XVI–XVII вв. сфера национального характеризовалась бессистемным набором идей, которые свою национально-интегративную и мобилизационную силу обретут лишь в XIX столетии. Как отмечает историк, идеологема иллиризма уже в наиболее ранних своих формах функционировала как эффективное средство политической рефлексии, мобилизации и пропаганды[262]262
Blažević Z. Ilirizam prije ilirizma. Zagreb, 2008. S. 171–175.
[Закрыть].
При выведении на первый план собственно культурных аспектов нациестроительства, а именно всего того, что относится к национальному воображению в его временны́х и пространственных координатах, отделить ренессансные и барочные протонациональные концепты от позднейших национальных проектов становится еще сложнее. Не стоит ли в этом случае вовсе отбросить приставку прото-, содержательность которой на этом фоне как будто становится сомнительной, и, солидаризировавшись с перенниалистским видением феномена нации, рассматривать формирование национального воображения исключительно в перспективе большой длительности, охватывающей как минимум пару веков до времен Французской революции?
Думается, на этот вопрос все же стоит ответить отрицательно. При всем формальном сходстве критериев выделения наций в Европе в раннемодерную и модерную эпохи принципиально различным является социальное знание этих двух эпох, включая и такой важный его аспект, как историческое воображение. Прекрасной иллюстрацией важности этой разницы может служить сам феномен медиевализма, который, как уже отмечалось выше, начинает формироваться лишь на исходе XVIII столетия. Медиевализм возникает не тогда, когда возникает потребность в выделении отдельного исторического периода между Античностью и Возрождением, а лишь тогда, когда этот период обретает специфическое, легко узнаваемое и культурно значимое «лицо», то есть некую совокупность устойчивых характеристик в дискурсивном пространстве исторического воображения.
Вместе с тем понятно, что это «лицо» не возникло в одночасье, оно формировалось постепенно под воздействием постоянно накапливающейся информации и постоянно меняющегося под воздействием множества факторов представления о мире. Это и позволяет нам, коль скоро можно вести речь о предшествующем рождению национализма протонациональном дискурсе, условно говорить о протомедиевализме как соответствующем протонациональному дискурсу комплексе представлений о далеком (в том числе средневековом) прошлом, определявшемся спецификой исторического воображения ренессансной и барочной эпох. Подобно позднейшему медиевализму, ренессансный и барочный протомедиевализм играл важную роль в конструировании, артикуляции и репрезентации коллективной идентичности.
Однако ввиду нехватки в историческом воображении эпохи тех элементов, которые позднее приведут к появлению медиевализма в собственном смысле слова, условный протомедиевализм не может быть описан как целостный феномен. По сути, мы можем вести речь лишь об отдельных сферах историзации коллективной идентичности, которые могут условно рассматриваться как его проявления. Таковы в первую очередь открывшие дорогу позднейшим национальным историческим нарративам протонациональные мифы (иллиризм, готицизм, сарматизм и т. п.), являвшиеся в эпоху раннего модерна важнейшим средством исторической легитимизации этнической и политической общности и формой исторической репрезентации соответствовавшей ей идентичности. К этим мифам тесно примыкали разнообразные династические и генеалогические легенды, игравшие похожую роль в отношении отдельных знатных родов и династий.
Уже беглого взгляда на эти мифы и легенды достаточно, чтобы понять, что, в отличие от медиевализма в собственном смысле слова, образу Средневековья, существовавшему в историческом воображении Ренессанса и барокко, явно не хватало самодостаточности: библейское, античное и собственно средневековое все еще были в них тесно переплетены, что хорошо видно не только в историописании, но и в различных вариантах визуализации этих мифов в художественной культуре. Вместе с тем, как будет видно из более подробного рассмотрения различных образцов историзации идентичности в раннее Новое время, в ренессансном и барочном историческом воображении уже наметились некоторые черты, которые позднее станут важными характеристиками медиевализма. К их числу относится прежде всего реабилитация истории «варваров» (которая для авторов протонациональных мифов становится фактически столь же исторически ценной и культурно значимой, как история греков и римлян), эстетизация неклассической архаики (истории и мифологии готов, гуннов, сарматов и других древних варварских народов), повышенное внимание к народным языкам и топонимике как аутентичным следам прошлого и важным аргументам в выстраивании линий исторической преемственности. В связи с чрезвычайной обширностью материала в настоящей главе будут рассмотрены лишь некоторые примеры таких легенд и связанных с ними исторических образов Центрально-Восточной Европы. При этом основное внимание будет уделено самой логике формирования мифов, соотношению в них библейского, античного и собственно медиевального контента.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































