Текст книги "Литературоведческий журнал №41 / 2017"
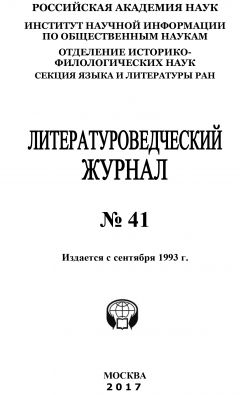
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Стиль книг РХ подчеркнуто не академический, даже антиакадемический. Историк-медиевист по специальности, впитавший в себя почтенные традиции германской университетской науки, один из самых образованных людей своего времени, – РХ (как и его друг, рано умерший, но гораздо больше известный и почитаемый на Западе религиозный мыслитель Франц Розенцвейг (1886–1929)), непочтительно называл современный университет «каменным веком» и пытался превратить традиционные академические дисциплины – филологию, историографию, философию, теологию, социологию, политэкономию, лингвистику и статистику – в некоторое междисциплинарное синтетическое учение, излагаемое, по определению самого РХ, «третьим стилем», в жанре философской публицистики, адресованной не столько профессионалам и экспертам (менее всего – «расе мыслителей», по его мнению, радикализовавшей в Новое время греческую метафизику в ущерб христианскому Откровению, а потому ответственной за катастрофу культуры и расовую идеологию нацизма4747
См.: Розеншток-Хюсси О. Раса мыслителей, или Голгофа веры // Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. Цит. изд. – С. 7–35.
[Закрыть]), сколько околонаучной публике и «человеку с улицы». В духе Ницше (и против Ницше) РХ «философствовал молотом», но его антиакадемизм и риторика – обманчивы: этого мыслителя легко цитировать, но не так легко понять (и уж никак не «человеку с улицы»). Дистанцировавшись от академической науки как института, РХ – вполне в духе его же «экзистенциального диалогизма» – в ответ был отвергнут академической наукой: в Европе и в США на него не принято ссылаться (т.е. вводить в научную дискуссию). Впрочем, в области духовно-идеологического творчества тезис «нет человека – нет проблемы» не всегда верен: дело не в человеке самом по себе, но в проблемах, которые он пытался помыслить и разрешить4848
Подробнее об этом см.: Махлин В.Л. Что значит говорить (Несколько комментариев для читающих О. Розенштока-Хюсси) // Махлин В.Л. Второе сознание. Цит. изд. – С. 312–340.
[Закрыть].
* * *
В Розенштоковой4949
Необычность фамилии «Розеншток-Хюсси» объясняется тем, что Розеншток, женившись, присоединил к своей фамилии фамилию жены-швейцарки.
[Закрыть] концепции Русской революции целесообразно выделить и прокомментировать основные ходы мысли, дающие подступ к пониманию внешне фрагментарного целого. На фоне известных истолкований революции 1917 г. философами русской эмиграции (Н.А. Бердяевым, Ф.А. Степуном, Г.П. Федотовым и др.) концепция РХ выглядит одновременно и знакомой, и чуждой; возможно, как раз в этом качестве она может заинтересовать отечественного читателя даже сегодня, и как раз сегодня.
1. По РХ, две главные духовные силы, или «источника», определяют и предопределяют историческое развитие и судьбу любой нации: это религия в ее отношении к нерелигиозным областям человеческого опыта (например, экономике или политике), с одной стороны, и образование в его отношении к религиозным народным верованиям и национальным традициям – с другой. РХ никогда не был в России и не знал русского языка, но его поездка в Болгарию в 1927 г. (с болгарских впечатлений начинается «русский» раздел его книги) послужила для него ключом к пониманию феномена Русской революции. В самом богатом и посещаемом православном монастыре, где в спальных помещениях было черно от клопов, мух и москитов, настоятель уверял приезжих, что Создатель любит насекомых так же сильно, как и человека, а в «псевдо-западных отелях» поражало обилие «духовных инородцев» – ученых, интеллектуалов, подчас высококвалифицированных, которые не находили спроса и применения у себя на родине и вели полунищенское существование. Современность нации, по мысли РХ, была такой не в силу экономических или политических факторов самих по себе, но в силу незримо-очевидного давления всей толщи духовной истории («традиций»):
Мертвая церковь и класс интеллектуалов, мыслящих по-иностранному, – вот проклятие стран, лежащих к востоку от римских и протестантских вероисповеданий. Один Бог знает, чтó любой из нас принужден был бы делать в условиях, когда оба источника одухотворения – религия и образование – уродуют себя в одинаковой степени (33).
С точки зрения РХ, в результате разделения Восточной и Западной церквей (1054) Православие дорого заплатило за свои преимущества, довольствуясь иконопочитанием и обрядоверием в сочетании с полным подчинением земной власти. Большевики в своем иконоборчестве на свой лад сохраняют и продолжают народное иконопоклонство, т.е. веру в то, что тот, кто поклоняется иконам, тот и христианин (39). Поэтому великая русская мечта созданной Петром интеллектуальной элиты – войти в историю, прорубив окно в европейскую цивилизацию, – во время Русской революции неизбежно должна была принять характер антицерковной и антирелигиозной, но тоже веры, а именно: веры в европейское просвещение и науку, в обратное официальной церкви и Царству Божьему царство Знания, которое, согласно Ф. Бэкону, «есть сила».
Различие в историческом бытии между Россией и Западом, по мысли РХ, собственно, и стало (и остается) событием взаимоотношения между ними – духовно-идеологическим и культурно-просветительским событием, обусловившим Русскую революцию как следствие и даже предвосхищение западноевропейской современности.
2. Воплощением и выражением двустороннего «уродства» в религии и в образовании, по мнению РХ, неизбежно оказалась русская интеллигенция («духовные инородцы»), причем в своих лучших проявлениях – стремлениях и страданиях, в своем само-заклании. «Чингисхановская» жестокость Ленина и большевиков в отношении собственного народа, считает РХ, – это ответная реакция на безмерные страдания не столько идеализированного интеллигенцией «народа» или «пролетариата», сколько самой интеллигенции. Марксизм учит тому, что люди в своей общественной жизни руководствуются преимущественно классовыми интересами, но, по выражению РХ, «подземный крестовый поход» русской интеллигенции против своего государства, начавшийся задолго до 1917 г. и задолго до отрицания собственности, был прямым отвержением каких-либо собственных интересов: «Что случилось с этими людьми, что они действовали против своих собственных интересов в течение более чем столетия?» (47). В предварительном виде ответ РХ гласит:
С 1825 по 1880 два поколения интеллигенции страдало за право думать, читать и писать. К 1880 конфликт с правительством стал непримиримым. По этой причине русская Революция была неизбежна уже в 1880. <…> Как поток, разделившийся на рукава, распалась жизнь русского общества. Один рукав тëк по поверхности, другой повернул в новое русло – глубоко под землей (61).
Вестернизированная интеллигенция должна была неизбежно стать – в лице наиболее идейных и догматичных своих представителей – «орденом людей, отказавшихся от всех нормальных потребностей социальной жизни» (59), поскольку русская интеллигенция – в отличие от западного Университета – не вырастала из общих социальных, религиозных и образовательных потребностей, а напротив, порывала со своею же почвой и обретала сплоченность именно благодаря своей неукорененности, беспочвенности, которая у революционеров имела характер сознательного, выстраданного бунта против своего национального прошлого. Так возник специфически русский тип «нигилиста», воспитанный на западных идеях и авторитетах, лучшей питательной средой которого была эмиграция в центрах европейского либерализма, в Швейцарии, Париже или Лондоне. Этот тип –
студент, интеллектуал, конспиратор и политик, сплавленные в одно целое, – но прежде всего человек, говорящий «нет» существующему порядку. Эти люди не хотели пропустить свой призыв в мировую историю (51).
Между образованным слоем и революционными активистами, естественно, были противоречия, но не было принципиального различия в отношении к самодержавию, которое, в большинстве случаев, только репрессиями могло отвечать на необходимость общественных перемен. РХ ссылается на парадоксальный случай из биографии Ленина: сестра его тещи, в течение 30 лет заведовавшая женской гимназией в Новосергиевке, завещала все свои сбережения сестре, а та отдала эти сбережения дочери и ее мужу, которые во время мировой войны оказались в тяжелом материальном положении: «По иронии судьбы вышло так, что старая заведующая гимназией экономила всю жизнь на еде, для того чтобы революционер, ненавидевший все, что она любила, мог вести антивоенную пропаганду за границей» (54).
3. «Подземное» революционное движение в царской России, по мысли РХ, приобрело исключительное своеобразие и остроту благодаря легальной печати. В самодержавно-феодальном государстве XIX в., где не было «гражданской» гласности, публичности и общественного мнения в западном смысле, их заменяла литература:
В других странах Европы цивилизация есть, так сказать, результат всех социальных и политических схваток корпораций и классов. В России происходило наоборот: политическая жизнь начиналась через культуру. В Европе партии основываются на базе корпоративных социальных интересов. Группы со сходными интересами избирают и основывают свои органы. В России пресса и литературные органы были тем, что вызывало новые партии к жизни и позволяло им существовать. В то время как в Европе каждый реально действующий индивид представлял профессию или корпорацию и поддерживался своей группой или привилегиями группы, в России индивид мог преуспеть лишь как индивид – и никогда как представитель своего социального слоя (47).
Иначе говоря, литература была не одним из каналов коммуникации, определявших общественную жизнь, но, в сущности, единственной публичной сферой и формой общественного сознания, в которой осуществлялась самоидентификация «критически мыслящей личности». Цензура только обострила и углубила отрицательное отношение образованного общества к действительности:
Жестокость Петровских реформ и формирование персонала путем отправки молодых людей за границу или обучения их иностранцами привели к тому странному результату, что литература в России началась с сатиры, с критики существующего общества. У нее были отстраненные глаза, как глаза иностранца, и перо, которое следовало негативной и дидактической линии (48).
Изнанкой литературных мечтаний и литературоцентризма, героического или анархического культа «личности» и литературных «властителей дум» была аморфность социальных структур, неразвитость и пустота общественной жизни и, как следствие, чудовищный разрыв между индивидом и его окружением, между сознанием и бытием, между словом и делом. Это, а главное, неспособность власти реформировать и сплотить вокруг себя общество – стало естественной питательной почвой революционных настроений:
Неудивительно, что все образованные люди бросились в социализм. Социализм делал литературу пропагандой. Социалисты претендовали на выражение классового сознания пролетариата. Но в России не существовало пролетариата. Здесь основную тяжесть классовой борьбы нес не рабочий-пролетарий, которого Маркс и Энгельс видели голодающим на хлопковых фабриках Ланкашира. Хотя русские были первыми переводчиками «Капитала» с немецкого, атаки на капитализм, содержащиеся в этой книге, вызывали энтузиазм у не-капиталистов и не-пролетариев. Члены феодального класса посвятили себя изучению Маркса с той же готовностью, которая за 20 лет до того привела Толстого к изучению школьной системы гётевского Веймара, с той же увлеченностью, с какой любители музыки в царской России кинулись поклоняться западной музыке и музыкантам (50).
В силу всех этих предреволюционных предпосылок в России стало возможным то, что до 1917 г. представлялось скорее невозможным и немыслимым, а именно: захват власти большевиками и построение – под знаменем марксизма и мировой революции – псевдосоциалистического, псевдопролетарского, псевдосоветского государства, чуждого европейскому социализму и «европейскому человеку», но ими инспирированного в плане идейном по онтологически-событийной логике «вопроса» и «ответа» – примерно в том же смысле, в каком в плане экономическом английский флот в XVIII в. был построен из русского леса (36).
4. РХ называет современное ему государство «Советов» – «евразийской фабрикой овсянки» (таков иронический заголовок всей «русской» части его книги). Вышеупомянутая «грандиозная карикатура на западную цивилизацию» интересует РХ не столько своей плановой экономикой и громогласной статистикой двух первых пятилеток, сколько внешне победоносной и впечатляющей, но внутренне катастрофической и комической драмой большевизма, победившего в России и вопреки и благодаря Марксу, западному социализму и самой русской интеллигенции.
Согласно РХ, именно большевики – а не куда более многочисленные и популярные до 1918 г. эсеры с их культом деревни и мужика – в условиях проигранной войны, распада и хаоса нации могли дать русскому народу (и дали, во всяком случае, на время) реальную духовно-идеологическую и экономическую, «тотальную» перспективу в большом контексте европейской и мировой истории. Большевики сумели привить народным массам и примитивно радикализовать – под маской «научной идеологии» марксизма – традиционную русскую интеллигентскую мечту «догнать и перегнать» якобы загнивающий Запад экономически и идеологически, а тем самым реализовать старинное православно-славянофильское упование на то, что именно русский народ спасет Европу и весь мир от капиталистической эксплуатации и приведет человечество к светлому будущему бесклассового коммунистического общества:
Это была не русская, и не пролетарская, но европейская мысль, что страдала в России. Будучи европейскими мыслителями, читателями и учениками, русские интеллигенты оказались спрессованы в бесстрашный батальон. Они были не чем иным как разочарованными европейцами (57).
Таким образом, по мысли РХ, большевизм довел до предела диалектику самоотрицания-самоутверждения русской интеллигенции как «разочарованных европейцев». Сталин, победив в партийно-гражданской войне еще верившего в мировую революцию интернационалиста Троцкого, пошел более традиционным, более национальным, более понятным широким массам путем построения социализма «в одной отдельно взятой стране» и, уничтожив соратников по большевистской партии, одновременно продолжает и подрывает дело Русской революции в своей «грандиозной карикатуре» на Маркса и на марксизм. Ибо Маркс – это «последний по времени протест против существующего порядка вещей» – протест, совершенно органичный для «западного человека», свобода которого «никогда не была убаюкана и усыплена каким бы то ни было порядком вещей» (62); тогда как для православных русских, взявших на вооружение «единственно верное», упрощенное учение Маркса, «протестный» склад мышления внутренне скорее чужд и внешне лишь навязан вестернизованной интеллигенцией и ее революционным авангардом и могильщиком – большевизмом. Но теперь [а РХ, не будем забывать, пишет (переписывает) свою книгу в 1937–1938 гг.] сам уничтожается в контексте так называемого возвращения вытесненного – ресентимента исторически искаженных, «смердяковских» традиций прошлого (религиозных и культурных):
Максим Горький в 1934 г. официально провозгласил на съезде писателей поворот к восстановлению чистоты языка русских классиков. Это показывает, что Россия вступает сейчас в свой период Реставрации. Уничтожение, самоубийство или ссылка всех прежних соратников Сталина говорит о том же. Коммунизм восстановил царизм минус его союз с западным капитализмом. И Петр Великий, реабилитированный в советском кино, свидетельствует о том, что революционный период, символизировавшийся Троцким, закончился (62).
* * *
Мы, постсоветские постсовременники разразившейся 100 лет назад Русской революции, даже не соглашаясь или корректируя хлесткие формулировки автора книги «Из Революции выходящий», думается, в новом столетии, в новой (в сущности, пост-революционной, если не «постисторической») ситуации во всем мире должны согласиться с ним, по крайней мере, в одном принципиальном отношении. Мы, сегодняшние, сами – из Революции выходящие, но бессильные из нее выйти, «оволить». Современная временнáя «вненаходимость» давнему и недавнему прошлому не гарантирует, что мы способны дать по-настоящему ответственный ответ на вопросы, усилия и утопии прошлого. Это тот случай, на фоне которого приходится совсем не риторически признать себя наследниками русских «разочарованных европейцев» XIX и ХХ вв. – почти независимо от того, как мы сами оцениваем и понимаем это наше наследие. Традиционное представление, в соответствии с которым там, на Западе, наступила беспросветная «европейская ночь» – представление, парадоксально сближающее славянофила Хомякова и западника Герцена в позапрошлом столетии, а русских эмигрантов в советский век5050
См. проникновенный анализ этого мотива: Бочаров С. «Европейская ночь» как русская метафора: Ходасевич, Муратов, Вейдле // Бочаров С. Вещество существования. – М., 2014. – С. 312–325.
[Закрыть], – вот, похоже, стержневая духовно-историческая причина новой очередной «трагедии интеллигенции» в наше время – как в России, так и на Западе. Для особо продвинутых западных интеллектуалов, унаследовавших «протест» против капитализма и западной цивилизации, пресловутый «свет с Востока», возможно, окончательно, по выражению из Достоевского, «погас в уме» после краха СССР, тогда как современный Запад, даже с поправкой на новый очередной виток антизападной патриотической пропаганды, уже не может предоставить готовых образцов, на которые ориентировались (как положительно, так и отрицательно) поколения русских «разочарованных европейцев».
Иначе это можно выразить так: все привычные, догматизированные «парадигмы» духовно-идеологического прошлого – исчерпаны; отсюда, похоже, своеобразная пустота и глубокое молчание современности после конца Нового времени в прошлом столетии. Позитивная сторона общеевропейского кризиса, может быть, в том, что открывается потребность в каком-то новом «новом мышлении», новом повороте в старом «споре древних и новых». Не где-нибудь, а в «русском» разделе обсуждавшейся книги о великих европейских революциях читаем:
Устойчивые процессы наших оценочных суждений часто сохраняются неизменными в изменившихся обстоятельствах. Ученому (a scholar) труднее изменить свои методы, чем целой нации – сменить религию (90).
1917 Год: прорыв в будущее или катастрофа?
В.Л. Курабцев
Аннотация
В статье анализируются черты онтологических аспектов событий 1917 г. Причины утраты христианских ценностей в России и ряд существенных событий в СССР оцениваются как катастрофа. Это проявляется в признании атеистических и аморальных ценностей (после 1917 г). В статье подчеркнута необходимость радикального (христианского) переосмысления ценностных установок России.
Ключевые слова: катастрофа 1917 г., идолопоклонники, «русская идея», развитие России, православие, духовная цивилизация.
Kurabtsev V.L. 1917 year: Breach in the future or disaster?
Summary. The ontological aspects of the events of 1917 year are treated in the article. The loss of Christian valuables in Russia and substantial events in the USSR came as spiritual disaster. The atheist and immoral valuables prevailed after 1917 year. The article also indicates the necessity of Christian rethinking of accepted values in Russia.
С лязгом, скрипом, визгом
опускается над Русскою Историею
железный занавес [19, 427].
В.В. Розанов. Апокалипсис нашего времени
Он сказал: довольно полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
О. Мандельштам
Мы почти все в трагическом 1917-м провалились. По словам И.А. Ильина, это «бедствие» «равновелико по своей глубине и по своим последствиям разве только татарскому погрому, хотя развертывается в совершенно иных формах. Как тогда, так и теперь дело идет о самом бытии России, об ее исторической судьбе, о субстанции ее духа» [10, 294].
Мы почти все в трагическом 1917-м оказались нечисты. «Нечистый, – т.е. имеющий вражду к ближнему, или ненависть, или зависть, или осуждение» [6, 337].
Была и вражда, особенно обездоленных к «буржуям». Была и ненависть, разжигаемая революционерами. Была и зависть – к образованным и богатым людям. Было и осуждение – к тем, кто «несправедливо» правил или служил «несуществующему» Богу. Немудрено, что мы соблазнились новым проектом «Царства Небесного» на Земле, ища Правды, Справедливости, Лучшего и доверяя яростным обличителям неправды Российской империи. Доверяя тем, кто потакал исконной «русской жажде абсолютного» (Н.А. Бердяев).
И мало кто понимал, что интернационализм – скорее утопическая иллюзия, особенно в условиях войны; что коммунистический гуманизм – это «крайний антиперсонализм», с отрицанием духовности и свободы личности (Бердяев). А безбрежный коммунистический нигилизм (отрицание Бога, общечеловеческой морали, частной собственности на средства производства, национальных чувств и др.) потребует массовых расстрелов, насилий, концлагерей; настоящей социальной войны и настоящего геноцида по социально-сословным и идеологическим признакам.
Нечистота накапливалась, прежде всего, в разночинной интеллигенции. Еще в начале XIX в. просвещенный поэт А.С. Пушкин мог позволить себе написать вот такие строки (подобное писал в ХХ в. Демьян Бедный):
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим [19, 348].
И они вряд ли проходили незамеченными в умах читающей публики, в умах интеллигенции, в умах русской элиты. Для Пушкина (автора также «Гаврилиады» – об архангеле Гаврииле как «любовнике» девы Марии) и для многих интеллигентов эта православно-антиправославная раздвоенность была едва ли не нормой. Она вырастала, как написал С. Нилус в начале ХХ в., «из того душевного язычества, которым в наши времена так глубоко, почти с пеленок, заражен так называемый «интеллигентный» слой русского общества» [15, 44–45].
И эти душевно-языческие интеллигенты приходили в организации (народовольцы, РСДРП, эсеры), сражавшиеся за «счастье народа». Все они были жителями «интеллигентского города Безумие, интеллигентского города Высокомерие, интеллигентского города Нигилизм, интеллигентского города Самомнение, интеллигентского города Страсть» [2, 4]. Эти «горожане», в ситуации несовершенной реализации мещанского благополучия в России и острой бифуркации 1914–1917 гг., нашли «новый священный текст».
«Писание» было неотразимым: всемирная коммунистическая революция; тотальное освобождение пролетариата и беднейших слоев; всеобщая справедливость, равноправие, счастливая жизнь с переходом в «светлое будущее». И Россия в этом «тексте» «прочла свою судьбу» [17, 100]. Но многим эта судьба была навязана, причем с неотвратимой жестокостью. Можно было только или без надежды сопротивляться, или эмигрировать, или пристраиваться к новому порядку (если ты не запятнан ненародным происхождением или борьбой с новой властью).
Как написал архимандрит Иоанн (Крестьянкин), «высшая степень овладения нами помыслом именуется страстью» [1, 203]. То есть душа, подогреваемая бесовской силой, «воспламеняется» неким помыслом не от Бога и начинает свою страстную душевную «агрессию против духа» [1, 93]. И уже не заповеди Божьи важнее, а какая-либо «единственно научная» мысль, свежая идея, «нужная» идеология. Наука успешна и эффективна, а следование заповедям – малопонятно, и эффективность его (особенно небесная или трансцендентная) сомнительна.
Важнее наука и выбор своего из науки. Важнее проявить себя, возможно, и непризнанного гения. Важнее решиться на бунт, и пойти наперекор «отжившим» традициям. А.П. Чехов заметил среди актеров большое число людей, полагающих, что они – непризнанные гении. Но их, скорее всего, было достаточно и среди обычных русских интеллигентов. А когда у «дяди Вани» не получается в художественном творчестве, то есть надежда, что получится в творчестве политическом, социальном, революционном.
Зло накапливалось в разных слоях, сословиях и даже в самом, как-то заметно дехристианизированном народе. Снова встрепенулся, почувствовал свободу и захотел быть «как боги» русский человек. Св. Иоанн Кронштадтский написал об этом времени так: «Церковь стала для многих чужой. <…> Но зато рядом с этим безбожным поколением (курсив наш. – В. К.) стоит великая живая стена из право и искренно верующих людей – русский простой народ, которого не поколеблет наша интеллигенция, наши… толстовцы» [21, 393]. Но в целом Россия накануне 1917 г. была скорее «безобразным зрелищем страстей человеческих».
Многие как бы православные люди на рубеже XIX–XX вв. поддались миру с его «всякой распущенностью, бесстрашием, свободомыслием, своеволием, огульным пьянством и блужением» [21, 318]. Супруги «сплошь и рядом» нарушали супружескую верность; дети оставлялись «распутными отцами или матерями на произвол судьбы» [21, 393]. Нередки были случаи самоубийств (топились, стрелялись, отравлялись); и так далее. Все это происходило и в XIX в. и осмыслялось в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского. Описано св. Иоанном Кронштадтским; в русской литературе, например у Л. Андреева, у М.А. Булгакова, у А.П. Чехова (пьеса «Иванов»; рассказы).
Уже с XVIII–XIX вв. в России наблюдались процессы секуляризации в разных слоях общества. Н.А. Бердяев удачно пошутил по поводу книги Г.В. Флоровского «Пути русского богословия»: ее нужно было назвать «Беспутья русского богословия». Петр I не понимал – как это монахи «молятся за всех». «Ведь все молятся!» – говорил он и планировал сделать из монастырей полезные светские учреждения. А Екатерина II не видела почти никакой разницы между лютеранством и православием (см.: Флоровский, Пути русского богословия). А в результате, согласно св. Иоанну Кронштадтскому, сложилась почти постхристианская ситуация: «Характер людей XIX в., второй половины, – самообожание, самозаконие (автономия), материализм в жизни и духовный скептицизм (неверие)» [21, 77].
Люди охлаждались в вере и теряли ее по разным причинам. И восставали так, что становились врагами Богу. Эти люди описаны Ф.М. Достоевским в образах Федьки Каторжника, Смердякова, Кириллова, Ставрогина, Федора, Ивана и Дмитрия Карамазовых и других. И в жизни происходило то же самое: известный мыслитель Добролюбов «теряет веру, пораженный злом, несправедливостью, страданиями жизни» [3, 41]. А выходец из семьи священника гуманист В.Г. Белинский готов был из сочувствия к страданиям народа «снести голову хотя бы сотням тысяч». Чем он гуманнее очевидных и беспощадных революционеров – Нечаева или Бакунина? Ф.М. Достоевский записал после прослушивания речей М.В. Бакунина в 1867 г. в Женеве: «Бакунин – старый, гнилой мешок бредней. Ему легко детей хоть в нужнике топить» [11, 25]. Для Бакунина-«революционера», как он сам об этом вещал, было вообще ничего не «жалко в этом мире».
Но и Белинский не слишком далеко отошел. Н.А. Бердяев даже сделал вывод: «Белинский предшественник большевистской морали» [3, 34]. Для таких неправославных русских, ставших подлинными идолопоклонниками, человек сам по себе уже ничего не значил (хотя за его «счастье» они как бы и боролись). Ум Маркса или Ленина был непомерно выше, а, главное, научнее и «нужнее», нежели Ум несуществующего Бога. Божий Промысел и Божья кара для таких личностей уже не существовали.
Тем более если речь о радикалах – большевиках. Они воистину непреклонные, эти «монахи» бога по имени «Коммунизм». Их орден, «зачатый в подполье, накопивший в нем гнезда незабываемых обид, изголодавшийся по власти» [10, 129], шел к «величайшему насилию и величайшей лжи» [10, 93]. Среди них оказалось множество представителей разных народов России, в том числе евреев, интеллигентов и полуинтеллигентов, из среды обиженного царским правительством «избранного» народа. «Мессианский темперамент еврейства, несомненно, повлиял на формирование большевизма и придал его революционаризму черты исступленной апокалиптики» [17, 97].
Идя на каторги и страдания, идя на преследования и лишения, они боролись и умирали «за правое дело». Горели «религиозной» страстью и силой духа, уничтожая «отжившую» старую Россию. Среди революционеров были по-настоящему сильные личности, например безбожник и коммунист Н. Спешнев, входивший в кружок петрашевцев, который, вероятно, послужил «Достоевскому поводом к созданию образа Ставрогина» [3, 28], главного «беса» известного романа.
Им тайно помогала воевавшая с Россией Германия и другие заинтересованные силы. Эта «холодная» и нехолодная война продолжается и в XXI в.: «Все делается целенаправленно для развала страны, ровно, как и в 1917» [13, 67]. И большевики оказались теми твердыми прагматиками и решительными насильниками, которые, воспользовавшись стимулированной ими же революционной ситуацией, сменили тип Русской цивилизации.
Есть также особое мнение, что их красная пятиконечная звезда – «каббалистический знак»; что мавзолей построен с использованием «символики престола сатаны» [11, 9]. По мнению Марка Леона, только поняв Моисея Гесса, существенно повлиявшего на Маркса и Энгельса, «можно понять сатанинские глубины коммунизма» [11, 18].
Н.А. Бердяев предположил, что мессианскую идею еврейства Маркс перенес на пролетариат: «тот же драматизм, та же страстность, та же нетерпимость» [17, 94]. С обязательным незамечанием явных улучшений жизни пролетариата Европы. С «энергетикой величайшего нетерпения и страсти» новых избранных. С поголовным уничтожением «гоев» – «дворянства, купечества, казачества, единоличного крестьянства» [17, 96] и других сословий России.
Кончилась «Русская История» (опустился «железный занавес», как выразился В.В. Розанов) и родилась в скоротечных муках новая Советская цивилизация. Как написал Розанов, «Россия слиняла в два дня». И началась чудовищная переоценка. «Переоценка всех ценностей – таков сокровеннейший характер всякой цивилизации» [22, 537] (О. Шпенглер). Советская цивилизация тоже творила свое, небывшее, принимая «наследство больших действительностей» [там же] и многое из наследства разрушая «до основанья».
Опустился тяжелый занавес над династиями Рюриковичей и Романовых (так, что даже в советских учебниках по истории о них говорилось немного и искаженно), над родовитыми дворянскими семьями, над многими гениальными и талантливыми людьми, над русским офицерством и героями Первой мировой войны, над старым русским православием и другими конфессиями, над русской моралью, историей, ценностями. Может быть даже, что закончилась не только Русская История, но и Русская Идея (православная, по своей сути). Или она очень сильно трансформировалась.
Согласно мнению А.С. Панарина, «в советский строй» была «втайне вмонтирована… русская идея» [16, 675]. Панарин во многом парадоксально прав, потому что Империя перешла из рук в руки с неизбежной преемственностью. Перешла и мессианистическая заданность России, детерминированная величайшими масштабами страны, вопросами сильной обороны (во враждебном окружении), геополитическими, идеологическими и другими интересами СССР. Была даже мечта о всемирном советском государстве. Был, скорее всего, и Божий Промысел. Да и православие, уничтожаемое и притесняемое, никуда окончательно не исчезло, как почки на деревьях, появляющиеся еще зимой.









































