Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 1"
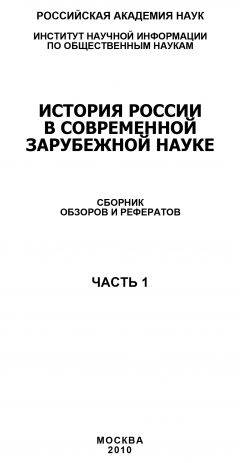
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Попыткам ослабить рост недовольства в деревне и разработать аграрную программу, отвечающую чаяниям крестьян и всего общества, помешали разногласия внутри самого правительства. давление сверху породило значительное сопротивление реформе и подорвало доверие крестьян (95, с. 68–69). По К. Годэн, сопротивление реформам во имя традиции – «важнейшая часть российской истории, но это сопротивление шло от самых высоких государственных уровней, а не со стороны крестьянства» (52, с. 211).
Историки уделяют внимание и тому, как изменялось отношение крестьян к понятию собственности. Мэйси (15) выясняет нюансы понятий «личная» и «частная» собственность и отмечает, что Столыпинские реформы были программой не приватизации в сегодняшнем смысле этого слова, а индивидуализации и интенсификации. Собственность, в понимании Коцониса (74), выступала в качестве символа и показателя потенциально возможного роста гражданской зрелости крестьянства. Джаедонг Чой (57) отмечает, что особенность России накануне Столыпинской реформы заключалась не только в устойчивости общинного землевладения, но и в сохранении принципа семейной собственности, которая резко отличалась от европейской личной собственности. В ходе Столыпинской реформы семейная собственность заменялась личной, что, по мнению автора, являлось самым важным моментом реформы, так как он затрагивал глубинные основы жизни и сознания крестьян. Между тем этому аспекту Столыпинской реформы «до настоящего времени историография не уделила должного внимания, сосредоточившись в основном на изменениях в землепользовании, т.е. на проблеме перехода от общинного землепользования к хуторским и отрубным хозяйствам» (24, с. 43–44). Автор подчеркивает двойственный характер укрепляемых земельных наделов, которые, с одной стороны, являлись личной собственностью, а с другой – подчинялись действию правил о надельных землях. Поскольку специальных правил наследования выработано не было (обсуждавшийся законопроект о наследовании так и не вступил в силу), постольку данную сферу регулировали гражданское право и местный обычай, которые принципиально различались. Это вызвало хаотическое положение при завещании и наследовании наделов на местах.
Определенные сдвиги произошли в западной историографии по поводу применения силы во время столыпинского реформирования деревни. Мэйси (15) пишет, что правительство никогда не санкционировало применение силы для проведения реформ. Напротив, оно всегда поддерживало добровольную модель преобразований. ошибочно объяснять стратегию правительства только на основании того, что для проведения реформы неоднократно применялась сила.
Правительство всячески старалось избегать силового давления, расследуя каждый инцидент и восстанавливая справедливость. Существенным направлением его политики по отношению к своим чиновникам и к крестьянству были просвещение и пропаганда. Крестьянское сопротивление реформам нашло отражение главным образом в крестьянских жалобах и, в меньшей степени, в крестьянском движении.
Один из самых разработанных аспектов процесса осуществления реформ связан с ролью, которую сыграли в этом процессе земские деятели, агрономы, статистики. По мнению Мэйси (15), далеко не являясь исполнителями правительственной программы, которая, как обычно считают историки, проявлялась в насилии, они, скорее, действовали самовольно, вне сферы правительственного контроля, в некоторых случаях преследовали свои личные интересы, намеренно саботируя реформы. И, напротив, были случаи чрезмерного усердия земских начальников.
Д. Дэрроу (37) отмечает огромную роль в сборе, обработке и подаче материала, которую сыграло земство, в самых отдаленных уголках страны собиравшее данные о состоянии сельского хозяйства России. статистические исследования позволяли и оппозиции, и правительству более обоснованно судить о дальнейшем развитии страны. Однако К. Годэн (51) считает, что статистические данные фактически игнорируют очень существенные частности, которые трудно учесть, но которые очень важны. Каждый район отличался и по качеству земли, и по количеству едоков на единицу земельной площади и т.д. Везде требовался особый подход и учет местных специфических особенностей.
Для современной историографии Столыпинских реформ характерна меньшая политизированность исследований, большая взвешенность в оценках, в анализе негативных и положительных сторон реформы. Мэйси (15) отмечает, что Столыпинские реформы были направлены на достижение компромисса между индивидуализмом и коллективизмом, между рынком и опекой. В работе Уолдрона (111) Столыпин предстает как искренний сторонник нововведений, основанных на соблюдении законов, не ущемлявших гражданских прав населения. оценки реформ как «успешных» или «провальных» – слишком категоричные, они не учитывают сложности и многозначности политической, экономической и социальной обстановки тех лет. Реформа была грандиозным по своим масштабам мероприятием, затрагивающим все слои населения, их повседневную жизнь. Уолдрон не затушевывает ни объективно вытекавшие из сложившейся обстановки просчеты Столыпина, ни субъективные помехи правительственному курсу. По его мнению, у всех политических деятелей того времени не хватило ни политического чутья, опыта, ни умения просчитывать последствия своих действий и вовремя выявлять соответствующие приоритеты, чтобы правильно реагировать на череду событий.
Каррер д’Анкосс (6) связывает с усилиями Витте и Столыпина улучшения в сельскохозяйственном производстве. Однако С. Фрэнк5252
Frank S. Confronting the domestic other // Cultures: Lower-class values, practices, and Resistance in late-imperial Russia. – Princeton, 1994. – P. 105–106.
[Закрыть] критически относится к Столыпинским реформам, утверждая, что они создали лишь «маленькие островки трезвости и просвещенности» в темном крестьянском море.
Т. Судзуки (19) считает, что с точки зрения создания самостоятельного хозяйства Столыпинскую реформу следует рассматривать как неудачную. во многих местностях хутора и отруба не стали вполне обособленными: не были преодолены неблагоприятные условия чересполосности (разбросанность земель и их удаленность от усадьбы), не произошло и полного освобождения от общинного порядка, например, при общем пользовании землей (выпас скота и пр.). А. Джоунс (66), используя статистический анализ итогов реформы, показывает, что консолидация крестьянства – не результат реформы, а следствие того, что крестьянство провело Столыпинскую реформу по-своему. Рассматривая земельную реформу и развитие сельского хозяйства в 1905–1914 гг., Дж. Паллот (89) обращает внимание на то, что для крестьян реформы не были разрывом с прошлым, потому что они по-прежнему оставались тесно связанными с общиной.
Реформирование аграрного сектора не было порождением крестьянской инициативы, а навязывалось правительством достаточно жестким административным образом (34). Стремительно меняя традиционный уклад социально-экономической жизни деревни, эта реформа угрожала подрыву власти общины в административной и хозяйственной областях. Множество объективных и субъективных факторов порождало сложности, которые не вписывались ни в какие административные схемы и невиданные ранее в истории аграрных отношений в России противоречия внутри самого сельского сообщества. Административное вмешательство чаще всего лишь осложняло положение в деревне.
По мнению Каррер д’Анкосс (6), крестьяне, страстно желая получить земли, тем не менее не спешили откликнуться на реформу Столыпина. В 1907 г., как и в 1861-м, в реакции крестьян на реформу преобладала некая привычка к существующему порядку. В 1861 г. крепостные крестьяне часто бывали напуганы свободой, им внезапно пожалованной, в 1907 г. они выказывали сдержанность в том, чтобы порвать с общиной (6, с. 158).
Историки изучают характер взаимоотношений внутри общины, ее жизнеспособность, социальное расслоение, половозрастные коллизии в результате культурного обмена между городом и деревней. В последние годы применяется новая методика анализа социальных структур, складывающихся в конкретных семейных хозяйствах (9). Хотя большинство исследователей уделяет внимание процессам, происходящим в общине в 1861–1917 гг., но и совершают экскурс в историю общины дореформенного времени. Так, Т. Дэннисон и А. Карус показывают несоответствие представлений Гакстгаузена о русской крестьянской общине как о своего рода расширенной патриархальной семье, в которой якобы не было серьезных конфликтов и противоречий и в которой царило равенство в земельном обеспечении (38).
Т. Судзуки полагает, что сохранение общинного порядка значило сохранение крепостничества. крестьянская реформа 1861 г. не изменила сущности сельского экономического общинного порядка. Крестьяне вынуждены были прибегать к аренде земли своих бывших помещиков за отработочную ренту, а также становились отходниками на промышленных предприятиях, принадлежавших бывшим помещикам, т.е. сохранялось не только административное, но и экономическое подчинение крестьян их бывшим помещикам (19).
Анализируя причины, побудившие власть ограничить при отмене крепостного права свободу крестьян, Каррер д’Анкосс (6) указывает на несколько искаженное представление о крестьянском сознании авторов реформы. Они считали, что крестьянство привязано к общинному укладу жизни и надеялись, что старая организация сельского мира была еще в состоянии функционировать, хотя в действительности в то время она уже давно была отжившей. Сторонники общинного уклада черпали свои аргументы и в крестьянской психологии, и в склонности крестьян к анархии, которую с трудом могло обуздать крепостное право. Предоставление крестьян самим себе могло привести к различным бедствиям. В сельской общине видели замену, хотя и слабую, но необходимую, власти помещика.
Т. Шанин считает, что государственная власть, чтобы не заниматься вопросами сельской общины, предоставила ей относительную независимость и тем самым породила потенциально мощную структуру для самоорганизации крестьянства. Эта структура и впрямь была удобна для чиновничества, поскольку община облегчила и сбор налогов, и набор рекрутов в армию. Переделы позволяли общине наиболее эффективно использовать имеющуюся в наличии землю и трудовые ресурсы. Община также могла служить той силой, которая сплачивала крестьян при появлении угрозы извне, в том числе в их противостоянии с представителями элиты. В течение 40 лет пореформенного периода община превратилась в относительно независимую от государства силу, способную организовать как повседневную жизнь крестьян, так и их борьбу с ним. Поэтому неслучайно XX в. стал свидетелем крутого поворота российского государства, его идеологов и чиновников, как и помещиков, против общины в процессе так называемых Столыпинских реформ (25, с. 34). Общины и села стали базой Крестьянского союза в 1905–1907 гг. его составили преимущественно делегаты общин и волостей. Это были представители тех, кто не мирился со сложившейся ситуацией и начал организовывать борьбу «снизу» за интересы крестьянства.
Для современной западной историографии характерен отход от представления о переделах земли как главной функции крестьянской общины, актуальным стал и вопрос о совместимости существования общины с развитием сельского хозяйства в условиях ускоренного промышленного развития России.
Мэйси (15) считает, что власть, ставя целью усилить полномочия общины и действенность общинной организации, а также предотвратить расслоение общества и появление безземельных крестьян и деревенского пролетариата, опиралась на традиционные принципы круговой поруки при уплате налогов, практику переделов пахотной земли и существовавшие формы семейного и общинного владения собственностью.
Для Хоскинга (60, с. 278) очевидно, что «круговая порука» чрезвычайно упрощала административные задачи государства. Ее принципы воплощал сход. Такая организация деревенской общины напоминала демократию, но на деле это была традиционная олигархия. Подтверждением тому могут служить тесные связи схода с помещиком, а «черных» крестьян – с ближайшим государственным чиновником. Однако Дж. Бёрдс считает этот механизм более тонким и выделяет в деревенских социальных отношениях такую мощную силу, как «общинное мнение», которое позволяло диктовать крестьянам обычаи, предписывать нормы поведения и наказывать за отклонение от этих норм (34, с. 9–10, 90).
По мнению Годэн (52), надо учитывать то, что крестьянская община и, соответственно, отношение крестьян к земле и собственности развивались в течение полустолетия. На это отношение оказывал влияние процесс взаимодействия крестьян с местными властями, обращение их к закону, к новым юридическим нормам, определявшим их правовое и имущественное положение. А. Джоунс (66) полагает, что великие реформы и крестьянская политика правительства не затронули основ общинной жизни и крестьянское общество не развивалось, а усложнялось в рамках традиционных принципов (66, с. 271– 273). Каррер д’Анкосс (6) считает сельскую общину оковами, которые не позволяли добиться никакого реального прогресса в сельскохозяйственном производстве. Многие западные историки в 1980–1990 гг. (Д. Аткинсон, Т. Шанин, М. Левин, Д. Мэйси и др.) доказывали, что Столыпинские аграрные реформы не оказали (и не могли в ближайшей перспективе оказать) серьезного воздействия на общину.
С точки зрения Дж. Бёрдса (34), в 1861–1905 гг. возникли определенные условия для изменения форм владения землей и перетока земли из одних рук в другие. Однако даже часть собственников земли по-прежнему оставались существенно зависимыми от общины. Бёрдс считает также, что общинные связи являлись для крестьянина, уходящего на заработки, своего рода «сеткой безопасности», страховкой в случае его неудач во внешнем мире (34, с. 2).
Экономические отношения внутри общины были достаточно сложными. Невозможность получения кредитов иным способом, кроме как у богатых односельчан – кулаков, делала значительное число крестьян зависимыми от них, ограничивало свободу их воли. Однако Бёрдс считает, что в литературе слишком преувеличена негативная сторона этих взаимоотношений с «мироедами». Их сложность и неоднозначность возрастали с ростом проникновения в крестьянскую среду рыночных отношений, которые стремительно размывали все прежние социальные связи внутри деревни. Опасения у общинников вызывала и та группа их односельчан, которые были всем известны как пьяницы и неимущие. Эти люди стремились продать свою землю, но не собирались покидать деревню. Общинники боялись, что в этом случае увеличится число «нахлебников», и «мир» за свой счет будет содержать их, т.е. продавцы земли станут бременем для деревни. Включение механизма саморегуляции общины, отмечает автор, вернуло к жизни чрезвычайно важную прежде систему защиты «свой-чужой» и создание системы так называемых «фильтров», отсекающих чужаков.
Прирост крестьянского населения происходил главным образом за счет ранних браков – такая модель обеспечивала высокий уровень рождаемости, отмечает Д. Мун (85). Автор полагает, что таким образом крестьяне реагировали на высокий уровень смертности, в особенности детской. Их цель в данном случае заключалась в том, чтобы обеспечить достаточное количество рабочих рук в хозяйстве и общине (85, с. 35–36). Особенно значительным был прирост населения со второй половины XIX в., который происходил главным образом за счет сокращения смертности как в «кризисные периоды», так и в «нормальные» годы. Главной причиной снижения смертности автор считает наряду с развитием общественного здравоохранения общее повышение уровня жизни в русской деревне, но подчеркивает, что взаимосвязь между экономическим ростом, повышением уровня жизни, улучшением питания и ростом населения является чрезвычайно сложной и требует дальнейших исследований с учетом региональных различий. Рост крестьянского населения в России на протяжении всего периода являлся составной частью процесса общего увеличения населения в Европе, который начался в XVIII в. Однако в Северо-Западной Европе в XIX в. уже наблюдалось снижение рождаемости наряду с общим снижением смертности, что явилось началом так называемого «демографического перехода», который в итоге приводит к исчезновению количественного преобладания крестьянства в обществе. Важным отличием от Европы, считает Д. Мун, было то, что крестьяне в России не пытались ограничивать рождаемость, не бросали занятие земледелием и не мигрировали в промышленные области (85).
О связи между экономическим положением хозяйства и его демографическими характеристиками пишет и Джонсон. Он, в частности, считает, что на экономику крестьянского хозяйства существенное влияние оказывают такие демографические процессы, как раздел, слияние или угасание семей, эмиграция, в результате чего бедные семьи богатеют, а богатые беднеют. Принадлежащие к этому направлению исследователи склонны говорить не о социальной поляризации, а о многонаправленной и циклической мобильности, подчеркивая временность социальных границ и устойчивость гомогенности крестьянства (65, с. 706).
Для прояснения картины автор изолирует крайние (экстремальные) группы и исследует их с экономической и с демографической точки зрения. Он дает портрет типичной богатой и бедной семей, показывает воздействие на благосостояние крестьянского хозяйства таких факторов, как наличие одного, двух или трех поколений в семье, количество взрослых или малолетних детей, разделы, болезни и несчастья (падеж скота, пожар, кража, несчастные случаи и ранняя смерть) (65, с. 723–725).
Об особенностях «демографической дифференциации» как стратегии крестьянского выживания пишет Дж. Бёрдс (34). По его мнению, патриархальная экономика покоилась на способности домохозяйства эксплуатировать продукт труда молодых более старшими членами семьи и общины. Именно при таком положении вещей член общины мог быть обеспечен поддержкой в те периоды жизни, когда он наименее самостоятелен – в детстве, в старости, в болезни. Поэтому вся социальная структура деревенской патриархальной системы была устроена таким образом, чтобы младшие члены общины не имели власти до тех пор, пока не достигнут определенного возраста. А тогда уже в силу своего положения они будут заинтересованы поддерживать статус-кво.
Немало работ западных историков посвящено изучению проблем крестьянской миграции и социальной мобильности. Миграции из деревни – явление, причиной которого (до отмены крепостного права), по мнению Р. Боэка, была не просто бедность, но интерес крестьян к неаграрной деятельности и поискам лучшей жизни. В пореформенный период, по мнению Дж. Бёрдса, «разорительные» последствия миграции из деревни объясняются все большей зависимостью крестьян от неаграрных доходов. Другой довод имел отношение к характеру и последствиям деревенского домостроя. С точки зрения Бёрдса, усиление власти мужчин в деревнях после отмены крепостного права было в какой-то мере защитной реакцией на миграцию, представлявшую опасность благополучию крестьянского хозяйства и существованию деревни.
Проблеме отходничества российских крестьян до недавнего времени в зарубежной литературе уделялось мало внимания. по мнению Бёрдса (34), важнейшим мотивом, побуждавшим крестьян сниматься с насиженных мест, были экономические причины и прежде всего непомерная тяжесть податей и разнообразных налогов после отмены крепостного права в 1861 г., когда в города не только хлынул поток стремившихся освободиться от новых экономических тягот крестьян, но в сфере промышленного производства стал широко использоваться детский и женский труд. Это мнение разделяет Т. Судзуки (19). Дж. Бёрдс смотрит на явление «отходничества» «из деревни», стараясь увидеть, каким образом пребывание крестьян в городе и приобретенный там жизненный опыт влияли на весь спектр социальных отношений в сельской местности, и в первую очередь в общине (34, с. 8–9). Отличие своего исследования от работ предшественников Бёрдс видит в том, что большинство исследователей изучали жизнь и условия труда отходников в местах своего нового поселения – в городах. Они исследовали приспосабливаемость этой категории лиц к новым условиям жизни, особенности их адаптации к этим условиям и пр. Бёрдс изучает процесс непосредственного отрыва отходников от крестьянских «корней», взаимоотношения отходника в этот момент с общиной, прослеживает, как складывались отношения отходника с родней и односельчанами, как городская жизнь отходника воздействовала на крестьян, остававшихся в деревне, как протекал процесс внедрения товарно-денежных отношений. Эти процессы автор прослеживает до революции 1905 г.
Рассматривая отходничество в контексте изучения экономических преобразований в Костромской губернии, Р. Джонсон считает, что оно способствовало развитию более крупных и более сложных по своей организации крестьянских хозяйств, носящих семейно-трудовой характер, поощряло ранние браки и широкую опору на родственные связи.
О том, что предтечей отходничества было кустарное производство, пишет Хоскинг (60). По его данным, к концу XVIII в. в сельских районах России образовались целые области, в которых основным источником дохода населения было именно кустарное производство, а не сельское хозяйство. Среди первых предпринимателей в России были и крестьяне, причем крепостные гораздо чаще, чем государственные (13, 24).
Большое внимание уделяют историки взаимоотношениям общины и отходников. рассматриваются механизмы, с помощью которых сельская община пыталась нейтрализовать негативные моменты, связанные с отходничеством. Исследователи обращают внимание на то, что оно несло разлад в устоявшийся мир общины. В частности, К. Годэн (51) пишет, что конфликты возникли и с теми, кто много лет назад оставил деревню, уехал в город, но после объявления нововведений возвращались в деревню с намерением продать свой надел, чему, естественно, противились общинники, уже считавшие этих мигрантов чужаками.
Впрочем, подчеркивает К. Годэн, отнюдь не все вернувшиеся в деревню руководствовались стяжательским интересом. Очень многие мигранты считали свой уход в город временным и рассматривали владение наделом как «страховочную» меру на случай безработицы, болезни и т.д. или как источник дополнительного дохода. Для многих крестьян, ставших рабочими, земля продолжала оставаться «кормилицей». Однако городские заработки играли важную роль в крестьянском хозяйстве.
Социальный контроль над отходниками имел своей задачей, во-первых, привязать их к родной деревне, во-вторых, суметь изъять у них полученные в городе доходы. Интересы семьи и общины здесь совпадали (34, с. 61).
Историки прослеживают, как по мере разрушения устоев деревенской жизни, старых методов хозяйствования разрушались и старые стереотипы поведения крестьянства, изменялся его быт и условия труда, ломались патриархальные отношения в семье. В деревнях с развитым отходничеством возрастало большое количество вдов, что также способствовало повышению роли женщин в делах общины. В некоторых деревнях Владимирской, Тверской и Костромской губерний женщины имели полное право голоса и когда были самостоятельными главами семей (т.е. вдовами), и когда заменяли отсутствующих мужчин. Новая роль женщин в деревенских делах основывалась на их жизненно важном вкладе в хозяйство деревни. важный аспект многообразных культурных последствий отходничества – зарождение в деревне «приобретательской культуры» также оказал глубокое воздействие на деревню.
Столыпинская земельная реформа 1906–1907 гг., направленная на разрушение общины и создание сильного и независимого крестьянства, имела меньше влияния в Центральном промышленном районе, чем в других губерниях.
Бёрдс констатирует появление к началу века «повышенных ожиданий» в крестьянской среде (34, с. 181–182). Одним из важнейших последствий этого явления стало ускорение поляризации между имущими и неимущими, усиление противостояния между ними, которое явилось главной характерной чертой русской жизни последних предреволюционных лет. Наряду с зарождением в деревне «приобретательской культуры» автор констатирует быстрое возникновение там «культуры обвинительской», что во многом было связано с потребностями общины в защите от быстро меняющейся внешней среды.
Главным добытчиком в условиях отхода становилась молодежь, и ее роль в семье неизбежно должна была измениться. Оставшиеся дома старшие чувствовали зависимость от приносимых молодежью заработков и пытались всеми силами утвердить свою власть. Считая, что уходящая на заработки в город молодежь «привыкает к легкой жизни», теряет чувство долга, перестает помнить о Боге и своих моральных обязательствах перед старшими, оставшиеся в деревне чувствовали угрозу своей безопасности и пытались усилить контроль над мигрантами, пишет автор (34, с. 33–34).
Отходничество, дающее легкий заработок, по мнению крестьянина, губительно сказывалось на «трудовой», «мужицкой» природе, и по мере того, как ослабевала связь с землей, размывалось и значение традиционных этических установок. Многие современники с сожалением констатировали рост расчетливости, эгоизма, утрату прежних нравственных ориентиров как основных мотивов поведения крестьян.
В последние десятилетия акцент в литературе делается на изучении культуры досуга, крестьянской культуре в пореформенной России и формах общения деревенской молодежи, и отмечается, что пропасть между культурой «просвещенных» слоев общества и крестьянской культурой углубилась к началу XX в., хотя это мнение разделяют уже далеко не все историки. Анализируется в литературе и такое явление как «хулиганство», которое западные ученые считают показателем конфликта поколений (46, 49). Рассматривая формы крестьянского протеста, Д. Мун в качестве его характерной особенности считает то, что в своем сопротивлении крестьяне зачастую противостояли не помещикам или правительству, а представителям старшего поколения или группировкам богатеев внутри общины. То, что издавна строгие нормы общественной жизни вызывали у молодых крестьян подсознательное желание вырваться из-под их гнета и начать новую жизнь, не раз отмечалось в литературе (Дж. Хоскинг, Дж. Бёрдс, О. Файджес).
Дискуссионным в историографии о крестьянстве остается и вопрос о социально-экономической дифференциации крестьянства. Р. Джонсон, например, пытается пересмотреть старые оценки и выяснить, действительно ли развитие капитализма раскалывало крестьянство на два антагонистических класса и углубляло противоречия в деревне. Автор старается разобраться, каких крестьян можно считать зажиточными, чем они отличаются от середняков и бедняков, насколько глубоким был социальный раскол в деревне (65, с. 705). Автор применяет новые методы статистического анализа данных, собранных на локальном уровне, постоянно сверяя результаты обобщенных вычислений с конкретными сведениями об отдельных крестьянских хозяйствах. В качестве основного источника он использует земские бюджетные обследования крестьянских хозяйств, проводившиеся в 1909 г. в Костромской губернии. Р. Джонсон указывает, что на экономику крестьянского хозяйства существенное влияние оказывали такие демографические процессы, как раздел, слияние или угасание семей, эмиграция, в результате чего бедные семьи богатели, а богатые беднели. Принадлежащие к этому направлению исследователи склонны говорить не о социальной поляризации, а о много-направленной и циклической мобильности, подчеркивая временность социальных границ (65, с. 706). Об этом пишут также К. Фраерсон, Я. Коцонис (49, 72, 73, 74), У. Моссе (87) и др.
К началу ХХ в. поляризация возросла между имущими и неимущими и в крестьянской среде. усиление противостояния между ними явилось главной характерной чертой русской жизни последних предреволюционных лет (34, с. 181–182). Однако далеко не все историки разделяют подобные взгляды. Так, например, Т. Шанин доказывает, что традиционная социальная политика способствовала сохранению крестьянскими хозяйствами общинной и необщинной земли, консервации крестьянского уклада, пресечению тенденции к классовому расслоению, особенно путем семейного раздела.
В западной литературе явно не преувеличиваются «зародыши капитализма». Хотя и не отрицается, что в начале XX в. расслоение существовало. однако «интенсивной концентрации всех видов собственности в богатых хозяйствах не наблюдалось». По мнению Джонсона, крестьянство беднело, но усреднялось, вследствие чего дифференциация уменьшалась. Коммерциализация не разрушала, а укрепляла его (65). Он также считает, что абсолютно разные хозяйства могут быть отнесены к зажиточным, в зависимости от того, какие показатели измерения были выбраны для исследования, и вопрос об экономическом расслоении крестьянства не может быть удовлетворительно разрешен вне связи с другими показателями (65, с. 718). Расслоение русского крестьянства во многом плод представлений, которые циркулировали в российском обществе. деревня же имела свою внутреннюю логику развития (74).
Один из важнейших аспектов изучения общественного сознания крестьянства представлен темой правосознания и проблемой правовой культуры в целом. В русле этой проблематики К. Годэн исследует вопросы о том, как российская деревня ответила на новое законодательство и административную практику XIX – начала XX в. и как это, в свою очередь, воздействовало на государственные реформы (52, с. 5).
В историографии, считает она, на взаимоотношения крестьян и государства достаточного внимания не обращалось. Исследователи подчеркивали, что деревня оставалась «закрытой» и не только не воспринимавшей преобразования конца XIX – начала XX в., но и сопротивлявшейся усилиям государства проводить их, что особенно явственно проявилось в революционные годы. В литературе фактически не исследовано значение постоянных контактов между крестьянами и представителями официальной власти в периоды относительной политической стабильности. Автор считает, что деревня отнюдь не была «закрытой». По мнению автора, сопротивление общины государству – только половина истории их взаимоотношений. Было и другое: сотрудничество крестьян с властью и проникновение в село, хотя и медленное, новых юридических понятий и норм закона, оказывавших реальное влияние на повседневную жизнь крестьянства, которое стремилось активно их использовать. Царская бюрократия, ее неспособность строить четкие взаимоотношения с крестьянством вызывали его недовольство и сопротивление властям.
Царское правительство, пишет К. Годэн, хотя и имело серьезные трудности в осуществлении реформ, тем не менее во многом достигло своих целей в деревне. Сельские жители в 1916 г. значительно отличались от своих дедов, освобожденных манифестом 1861 г. Они хорошо знали дорогу к земскому начальнику, в суд, к уездным и губернским властям и шли туда охотно, когда надо было решать свои дела. Во многих вопросах, в том числе собственности и землевладения, крестьяне старались держаться в русле действующего законодательства. Государство все более вторгалось во внутреннюю жизнь деревни, принимая, особенно с 1890-х годов, новые законы и вводя новые институты. К. Годэн показывает практику деревенских учреждений – земельного и сельского обществ и волостных судов в их взаимоотношениях с представителями государственной власти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































